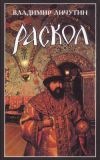Текст книги "Миледи Ротман"

Автор книги: Владимир Личутин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Бесстыжая… Разоделась, профурсетка. Того не знает, что желтый цвет к измене, – с намеком сказала баба Маня; косоватеньким взглядом, вечно полоротая, головенкою набок, она напоминала ныне покойного дуроватого актера, когда-то съехавшего в Америку. Фамилия, вот, забылась, а физиономия не стерлась из памяти.
– Ну дак чего… Сварагулили свадьбу бегом да припрыжку. Разве что невеста с брюхом? – откликнулась толстая бабеня. У нее были желтые, как сливочное масло, руки с пухлыми запястьями и моложавое, без единой морщинки лицо.
– Не похоже. Девка-то себя держала в руках, вот и засиделась. Быват, ты, художник, наследил?
– Злые же вы, старухи. С вами лучше не связываться, – засмеялся Братилов и перевел взгляд на жениха.
– Молчи, бобыль. Сколькой год ошивался, ни бе ни ме ни кукареку. Ходишь, задом светишь, срамник. На штаны не можешь заработать, чучело. Мужик называется, – наскочили на Братилова тетки, но Алексей уже не слышал их.
Он был на этюдах весь последний месяц и Ротмана как-то подзабыл, иль тот с лица переменился, сбрив козлиную бороденку? Мостился жених прямо, как будто аршин проглотил, вина не пригубливал, на невесту не поглядывал. Откуда было знать Братилову, что Ротман сейчас жамкает под столом Милкину ладошку и едва не раздавил ее. И никаких внешне страстей в человеке: скуластое смуглое лицо похожее на перекаленное в русской печи яйцо, серебристый ежик волос, аспидно-темные глаза и золотая фикса во рту. Воистину от арапа семя: да, каких только людишек не рожала северная земля, и всяк ей пригождался, если был верным сыном. Иван Ротман смотрел на гульбище отстраненно, как сквозь туман, кривил губы и постоянно ежился, словно бы бугристые плечи теснила черная пара, а шею давила бабочка с крохотной бриллиантовой искрою, которую и подарил на свадьбу банкир. «Видишь ли, друг, – откровенничал Гриша Фридман, – от денег даровых червь в человеке заводится, потому я денег тебе не дам, но удочку подарю. Сейчас в Москве любят про удочку говорить, как про намыленную петлю. Вот и лови, друг, рыбку лучше большую, но не брезгуй и маленькой… Кто-то нашепчет тебе, что подарил от лишнего. Де, богатей, пожадился. Да нет, от сердца оторвал, видит Бог. Ведь банкир не пашет и не сеет гроши, чтобы к осени рождались червонцы. Он подбирает там, где они без присмотру иль плохо валяются. Деньги – живая материя, живее нас с тобою. Они чувствуют, как ты относишься к ним, и если равнодушен и мот, попусту раскидываешь, сыплешь ими без счету, не жмешь в горсти, то они скоро убегают прочь… А здесь, у черта на рогах, кого объегоришь, кого объедешь на кривой? Да будь ты хоть семи пядей во лбу. Все деньги, что есть в Слободе, можно в один мешок сунуть да на плече унесть… Бриллиант для фартового человека – что пейсы для еврея. Это знак уведомленным: взглянут лишь и сразу поймут, с кем дело имеют. Понял? – И вдруг, понизив голос, признался Гриша с грустью: – Эх, Ваня… Если бы я не прирос к этой дыре пуповиною, то стал бы баль-ши-им человеком. Носом чую, скоро бешеными деньгами запахнет. Сейфы в банке центральном вот-вот откроют, и кто первым успеет, тот и хватанет. Вот где навару будет, только пенки сымай… Не сломай я тогда по безрассудству своему проклятый копчик, по-другому бы и жизнь моя пошла, Ваня. Теперь падать боюсь, а кто падать боится, тому не стоит и вверх карабкаться. И потому, Ваня, я маленький толстый русский. Почти русский. И почти не еврей. Ну и слава Богу…»
* * *
Пахло разносолами, и Миледи подташнивало. Народ распоясался, и свадьба скоро потеряла чин. Отец, пригорбленный, плешеватый, сутулился подле дочери и решительно пригибал рюмку за рюмкой. Обычно речистый, гонорливый, тут он вроде бы потерял голос, и в зеленом набухшем глазе будто бы напрочь застыла, переливаясь, слеза. «Ну, будет, папа, горевать-то. Не в тюрьму ведь, замуж выхожу. Дома ведь остаюся». – «Ну как же, доча, не переживать. Милка ведь ты у меня, а запехалась за еврея. Что, ровни себе не нашла? В Израиль уедете, столько и видали. Там тигры, змеи, ты осторожно с има, доча». – «Да что ты, папа, – засмеялась Миледи. – Он ведь из деревни Жуковой, рядом от нас. Ты и мать хорошо знал».
Но отцово признание отчего-то пришлось по сердцу, будто глухариным перышком мазнули по душе, так степлилось в груди; не век же сохнуть в этой дыре, верно? а вдруг подфартит, вдруг посулит удачею, и вырвется она в другие земли, где другой народ и живут по-другому.
Жених тискал Милкину ладонь, прижимал к своему горячему бедру, будто истекал истомою, и невесте было приятно, хотя временами и больно. Пальцев лишит, чудо, а ей ведь на фортепьяне играть, детишек тешить. Но Миледи терпела до последнего, чтобы на какой-то пустяковине не сорваться, не сойти с тормозов, не нарушить того согласия, что вдруг проросло в какую-то неделю. Она украдкою поглядывала за Ротманом, каменно застывшим, и уже почти любила и это смуглое гладкое лицо, и упрямо сжатые тонкие губы, и каменную шею с крутым кадыком, подпертую накрахмаленным твердым воротом, и тонкую язвительную усмешку. Ей нравились и два голубых институтских ромбика, будто впаянных в широкую грудь, до блеска надраенных замшею. Миледи хотелось, чтобы все видели ее счастие, радовались ее радостью, восторгались ее удаче, и она подскакивала, как на иголках, метала по застолью взгляды. Но гости уже забыли ее, увлекшись едой и питьем, как всякий раз случается за большим столом.
В боковое окно, когда там не торчало любопытное лицо, виднелась воинская часть, стоящая на сухом безлесом веретье, длинные казармы, ангары и гаражи, отвалы снега; Миледи когда-то невтерпеж хотелось влюбиться в чернявого горбоносого солдатика, которого она присмотрела однажды на танцах, чтобы абрек увез из дикого угла навсегда. Но парни оказались какие-то тухлые, с дикими взглядами, появлялись в Слободе навеселе, нахально приставали к девчонкам, шарились под платьем, пытались взять силою. Но слобожане-охотники ночью с ружьями неслышно окружили казармы, распахнули окна и дали крутой острастки: если кто из чурок появится в Слободе без дела, тому на свете не живать. Дикая военная орда, не боящаяся офицеров своих, почуяла верную грозу и сразу сникла, присмирела, оставила городок в покое; северных людей на арапа не возьмешь, живо обратают. Но с тем и Милкина мечта погасла…
Миледи сразу заприметила Братилова, но виду не подала, хоть и уставился он глазищами, как волк на поедь. Бомж… Какой это художник? только числит себя в искусстве, дурак. Бегает по Слободе, как заяц, пехает каждому свои картинки по десятке за штуку, столовается в общепите котлетами да щами, в комнате мыши холсты объели, на плечах заношенный свитер, как хомут, уже, поди, спекся от грязи, стоймя стоит. Чего таскался к ней три года, как кот, углы метил, чтобы другим не прихаживать, всех женихов отбил. Ну что зыришься-то, ослеп? Так очки напяль, получше рассмотри, какая я красивая. Да я, только захотеть, каждого могу с ума свесть, во мне каждый пальчик играет, я больших бриллиантов стою, а тебе отдалась, дура, за груздь соленый. Ну так же и было. Зашла запопутье в гости, да посмотреть новые этюды. Сидит Братилов на единственной табуретке и ест грузди; масло постное по усам течет. «Хочешь грибка?» – спросил, не вставая. «А может, и хочу. Ой, так-то грибка тяпаного хочу да с маслом постным».
Вот бывает, что миром внезапно овладевает дикая природная сила, когда всяк, кто подпадает под эту волну, как бы сходит с ума от беспутного звериного желания; и страхи, все остереги сразу куда-то прочь, как пена. Вот и Милку окатило наваждение, подхватило и утопило. Братилов подцепил груздь, откусил чуть и протянул гостье. Еще добавил: «У тебя и губы-то – как сладкие упругие волнухи, что не успел хватить морозец». Милка потянулась ртом к вилке, а была в сиреневом платье с вырезом, и нос Братилова, холодный, как у щенка, ткнулся ей в жаркую грудь. А дальше что говорить?.. Сейчас-то смотришь по телеку, отдают себя девицы за пятьсот баксов, а то и тыщу. А я, дура, распечаталась за половину соленого груздя…
…«У-у, ненавистный! – Миледи состроила обезьянью гримасу и отвела глаза. – Патлатый черт, назюзюкался уже, а теперь смеется. Посмейся мне, пьянь лешева. Нажорется, как свинья, угодит в больницу, и кто за ним ухаживать будет? Никому не нужный человечишко зачем-то коптит на свете».
Миледи упрямо вытянула ладонь из жениховой потной горсти, пошевелила затекшими пальцами… «Боится, что убегу», – счастливо догадалась она и украдчиво, с шаловливым намеком положила ладошку на мужнее колено. Оно вздрогнуло и закаменело.
– Выпьем, Ваня!
Ее зеленые, внезапно набухшие глаза были как гусеницы, а волосы взялись огнем.
– Выпьем, Миледи…
Они подняли бокалы с шампанским.
Застолье очнулось, перестало гудеть и чавкать; словно бы осколки разбитого блюда сами собою потянулись друг к другу и склеились без натуги, без изъяна и трещины, и пламенные розы, до того осиротевшие, пошли по кайме в пляс. Забулькала водка, зазвенели хрустали, заскрипели стулья и лавки; распахнули на улицу дверь, и вечереющий морозный воздух заклубился от порога, прижимаясь к полу. Даже само время, кажется, сдвинулось в горнице, и стрелки отдались назад, и уставшие от еды черева вдруг хватили молодых сил, словно бы гости только-только уселись за стол. Кто-то хрипло заорал: «Горь-ко!» И тетя Маня визгловато подхватила: «Ой, горько-то как, совсем сгорчало! Протухло вино-то, молодые, совсем прокисло! А ну, подсластите!» – «Горь-ко-о!»
У Ротмана оказались шершавые твердые губы, какие-то совсем невкусные. «Теперь-то будет время, научу целоваться!» – игриво подумала Миледи, но, стыдясь гостей, торопливо оттолкнула жениха. Вот тут-то и вступил в свадьбу Братилов и поддал пару.
– Батя, Яков Лукич, ты же капитанил, лихо рулил по морям – по волнам. Так иль нет?
– Так, Братило, так, дорогой мой. Ну тебя к едрене-фене, – отозвался хозяин, тяжело приподымаясь со стула, будто штаны у него приклеились и не отодрать.
– Так почто ты корабль нынче покинул в самую штормягу на произвол ветрам? А ветра-то в зиму дуют самые худые, всякую порчу насылают и людей с ума сводят, и сколько уж доброго народу сошло с панталыку. Говорят, уж в больницы психов не примают…
– А я не кинул вас, дорогой мой. Я твердо стою на капитанском мостике и командую: право руля, – Яков Лукич, по местному прозвищу Яша Колесо, встал во фрунт, приосанился, волосы «взаймы» перекинул с одного бока на другой, прикрывая добрую плешину, но они скомались на сердешном и встали дыбом. Зеленые глазки от задора стали ультрамариновыми, и щеки, как два печеных яблока, набитые зимнею стужею в лесах и рыбалках, забагровели еще пуще. – У меня вот и голос прорезался. Я, бывалоче, на одном берегу реки крикну, так на другом слыхать, баба загодя юбку подымает.
– Это какая-такая баба юбку подымает? Ответь мне? – подскочила супруга, ткнула нарочито указательным пальцем в мужнюю лысину; и так ладно, так звучно получилось, что весь стол грохнул. – Это у тебя подымать нужно вагою, а не бабе.
Братилов понял, что сердечный тост у него отбирают, раз дал слабину и позволил другому голосу встрять в противоречивое течение мыслей. Но он пересилил гам и вскричал:
– Как на Северах поется? Хоть сорок градусов вино, а не прокисло ли оно… И вино прокисает, то-то! – он хмельно потерял нить, но тут же отыскал кончик и потянул шерстяную пряжу. – Сказано, рыжий да рябой – народ дорогой… Выпьем, гости, за невесту, за Миледи Ротман, как теперь она по паспорту. Выпьем, чтобы не падала она в цене, чтобы рыжие кудри не расплетались, а золотые узы не размыкались, чтобы Ротманы распложались… – и вдруг горько, со слезою в голосе вскричал: – Мил-ка-а, выскочила ты за еврея по расчету, и дай Бог, чтобы конь твой не споткнулся на первой кочке и не протянул ноги.
Братилов подцепил на вилку хлебную корку и вдруг на рысях подскочил к невесте, поднес ей эту «жопку» и, откинув двумя ладонями голову и заломив шею, впился жадно в Милкины податливые губы, стараясь выпить ковш с медом до конца. Миледи едва дух перевела, задохнулась от возмущения, налилась краскою, плеснула шампанским в лицо.
– Сволочь же ты, Братилов…
Алексей с улыбкою утерся рукавом свитера и, словно бы нарываясь на драку, протянул:
– Повезло тебе, Ротман. У твоей бабы губы – как грузди. Только потчуйся скорее, до весны не тяни, а то скиснут.
Жених растерялся, не зная подкладки случившегося. И гнев Миледи удивил его. Решил: на то и свадьба, чтобы целовать невесту. Подходят с рюмкою, кланяются и целуют по нраву, иль как приведется. Милка же взглянула на мужа, как на кровного врага, промокнула фатою мокрые глаза; тушь растеклась, и Миледи, сконфузясь, ушла в боковушку, чтобы придти в чувство. Тут подскочила хозяйка, растопырилась в локтях, как клушка над выводком, обхватила широкие податливые плечи Братилова и, не имея сил совладать с мужиком, стала гулко стучать ему в спину кулачком.
– Ты обещал не галить, дьяволина!
– Ну, обещал…
– Так поди и сядь на место. И чтобы я тебя не слыхала.
Хмель забирал Братилова, и он вышел на крыльцо, чтобы освежиться и изгнать дурь. Он воистину не собирался шалить на свадьбе, на корню убивать чужое счастие, чтобы после вся Слобода шепталась по-за углам. Да, собственно, что из рук вон случилось? Чмокнул по пьяни в губы, вот и вся выходка. Еще мелькнуло в сознании: надо бы домой править лыжи, от греха подальше двигать.
Но для пьяного сердца трезвый остерег – как пепел под валенком: стер с половицы, и как слизнуло. Братилов вернулся в сени, встал на пороге избы, подпирая плечом ободверину. Дышать стало легче. Яков Лукич, пошатываясь, держал речь. В памяти его застряло что-то про евреев.
– А что евреи? – подыгрывал хозяин голосом, и густые седые бровки подпрыгивали, как два помельца. – Евреев Бог любит. Еврей у стражи пятый гвоздь украл, чтобы Христу в лоб не загнали. Есть такая присказка.
– Не еврей утащил, а цыган, папа. Вечно ты все напутаешь, – подсказала Миледи, вернувшись в застолье.
– Ну все одно, еврей, цыган. Бродили, бродили по белу свету, много всего повидали, много узнали. Народ дружный и верный, как пчелы в улье. Кого полюбят – не выдадут. Иль не так, Ваня?
– Верно, отец… Да, евреи распяли Христа. Но все великие учители христианства, апостолы и златоусты – были евреями. Проклиная евреев, мы не только проклинаем апостолов, но и самого Христа.
Ротман говорил красиво, и Миледи невольно залюбовалась им.
– А я что говорю? Все, Милка, образуется, в Израиль вызовут, и там поживешь. Не все навоз из-под коровы выгребать. Нашу Милку хоть куда, хоть на выставку в Париж. Что ниже подола, что выше – статуй, одним словом…
– Ну, папа, будет тебе молоть…
– Что папа?.. Твой папа много где побывал, капитанил тридцать лет, носил китель с лычками и фуражку с крабом. Пусть и на доре ходил, больше в каботажку, но не каждый сможет. Суденко уросливое, не всякому под руку. Вот и прозвище у меня Яша Колесо. Сорок лет у штурвала, етишкин кафтан. Чуете?
– Чуем, Яков Лукич, – вскричала застольная дружина. Гости взбодрились, потянулись чокаться.
Яков Лукич осоловел, но форс еще держал, как же, последнюю девку пропивал. Он колченого переступал за столом, как конь, пристукивал по яркому накрашенному полу левым штиблетом, будто пританцовывал. Яша в свое время был замечательный ходок по бабам, спуску им не давал и считал, что они все хорошие «дамы» и отличные «дамы» и удивлялся приятелям, когда, воротившись с моря и наскучавшись по женскому материалу, они носом крутили от береговых шлюшек, рылись в них, как в щепе. Яков Лукич и пострадал-то от любовного порыва вскоре после войны, когда матросил уже на рыбацком сейнере. Когда в Мурманске сбегал с суденка на пирс, так спешил, так спешил бедолага, так норовил первым попасть к девахам, чтобы подцепить пошустрее, что промахнулся ботинком на шатком трапе, свалился вниз и сломал ногу. Срослась ходуля у Якова Лукича плохонько, с того времени он ковылял, что, однако, не мешало ему твердо стоять у руля и за рюмкою вспоминать, де, и мы не лыком шиты, и мы воевали, дали немцам страху; де, мне фриц кованым прикладом по лодыжке, а я ему по сопатке. Так и разошлись навсегда: он – в деревянный бушлат, а я – в санбат.
В общем, Яша Колесо был мужик веселый и любил побрехоньки, хотя и порастерял свои кудри на чужих подушках.
Яков Лукич ухватился руками за скатерть и стол уже не отпускал:
– Ты мне, доча, сказать не даешь, язык обрубаешь. А ты помнишь, какая у папы была золотая кудря? А-а, не помнишь. А у папы была кудря, гребни ломались. Если хочешь знать, я единственный Сильвестр в морском флоте. Одна нога короче другой на пятнадцать сантиметров. И это меня нисколько не роняло перед интересными женщинами. Это я сейчас ходить не могу, ноги отымаются, сердце. А тогда сила была, женщины наперебой, девочки. Пришвартуешься где-нибудь: «Молодая, интересная, сердце ваше занято кем-нибудь?» А она мне: «А что вас так интересует?» – «Если вы заняты сполна, то мимо иду…» А то и окольными путями буду разговор вести. Давай, говорю, морской узелок завяжу через пять минут по-вологодски. А она, молодая, интересная, тает, как льдинка на солнышке. Спичку брось, охапку дров, загорится. Ясно? Лишь бы только завладеть сердцем ее. А ты, Милка, не в меня. Рожалку-то засушила. Теперя стараться, Ваня, надо, шибко надо. Но ты мужик видный, фартовый, у тебя все при себе. Я и раньше таким же был, стихи писал: «Молодой и интересный, это очень хорошо. Она стройна, и кровь бурлит, как на море волна. Попробуйте удержать у борта моряка, если я проложил курс и всем сердцем ранил ее…»
Тут Яков Лукич пошатнулся, сел, но мимо стула, слава Богу, не промахнулся; уронил голову на руки – и мгновенно уснул. Гости зашевелились, зароились, значит, застолье просило временной передышки. Уже гармонист поставил тальянку на колени, и обмахнув рукавом невидимую пыль с перламутровых пуговок, нерешительно растянул мехи. Народ, как разлитая ртуть, скопился кучками, жениха оттеснили в угол, что-то доказывали тому жарко, по-пьяному толково (так им казалось), а Ротман, набычась, и не пытался разобрать нескладицу и думал лишь о том, как бы вырваться из круга, разрубить этот нечаянный узел.
Глава третья
В какой-то миг невеста осталась одна, беспризорная, сирота сиротою. Одиночество ее, напротив, не удручало, ей хотелось побыть вот так за столом, не обжатой чужими взглядами, и разоренное пиршество, потерявшее всякий чин и украсы, тоже не обижало. Вот эту минуту и подловил Митя Вараксин, приятель семьи, и давай мышковать. Был он на взводе, обветренным темным худым лицом походил на старого морщиноватого самоедину, хотя давно ли сорок разменял, но зубы мужик не позабыл вставить и выглядел для свадьбы вполне прилично. Миледи заприметила, как Митя суетился по горнице, что-то, видно, смекая, и часто взглядывал на нее. Потом пришатился бочком брат Василий, от него разило, как от самогонной бочки, волос взлохмачен, глаза пустые, оловянные: «Пойдем, что-то сказать надо». – «Хватит пить-то, – пожалела Миледи. – Глянь в зеркало-то, как околетый. В чем душа только». – «Ништяк, сеструха, надо ж тебя по-человечески выдать. Пойдем, не пуши перьев».
Вася был немного блаженный, Миледи, побаиваясь, покорно пошла следом. Комнаты в доме ставлены гуськом, как бусины нанизаны на одну нитку, и Миледи, никем не замеченная, вышла на мост, соединяющий хозяйственный двор с избою. В сумерках их поджидали Вараксин и Братилов.
«Слушай, Милка, – пьяно заикаясь, приступил Вараксин. – Давай мы тебя украдем». – «Как это украдем?» – «Ну, умыкнем, значит. Обычая не знаешь? Без этого ни одна свадьба не варится».
Братилов в разговор не вступал, задумчиво смотрел в приоткрытую дверцу; с воли падал на него косой рассыпчатый луч снежного света, и лицо художника казалось вытесанным из аспидного камня. Миледи вдруг пожалела его. Ей сделалось бесстрашно-весело, и она, не задумываясь, вскрикнула: «Ой, как интересно, ребята!» – «Не ори», – строго оборвал брат, схватил ее за руку и поволок во двор. В самом дальнем углу стояла баня, и меж задней стеною и мыльней притаилась крохотная кладовая, вроде повалуши, где хозяин вывешивал невод и сети, хранил охотничий скарб и путевой снаряд. На досчатой дверке висел замок. Василий нашарил ключ, втолкнул в повалушу Миледи, следом подпихнул Братилова: «Полагается для охраны», – и навесил в проушину замок. Баня была уже приготовлена для молодых, и кладовка от задней стены нагрелась. Миледи хорошо знала клетуху, здесь любил в жаркие дни прятаться от семьи Яков Лукич. Тут была скамейка и кожаное изголовьице. Ознобно дрожа, Миледи присела на лавку. Обычай умыкать был древний, темный, языческий, но он нравился Миледи. Шуршали потревоженные поплавки сетей, сбрякивали неводные грузила. Миледи спряталась в глубине кладовой и казалась недосягаемой. Она притихла в углу, как мышка; ей было страшно, но исподволь в этот последний вечер хотелось греха, чтобы Алексей хотя бы обнял, нашептал что-то утешное. Дальше она боялась думать. Братилов же глупо улыбался, решаясь накинуться на Миледи, как ястреб на курицу, растрепать, ощипать ее по перышку; ведь пьяному море по колено, у пьяного стыд под каблуком. Но что-то такое случилось в темноте, отчего Братилов навострил слух и неожиданно протрезвел: ему послышалось учащенное дыхание и приглушенные всхлипы. В нем все сразу перевернулось, и почуял себя Братилов таким пропащим, таким негодяем, что повинился упавшим голосом:
– Мила, прости… Ну, дурак я был. Сам не знаю, что нашло.
В темноте так ладно было исповедоваться, душа слезно напряглась и занудила; все горькое, что копилось в груди от одиночества и неприкаянности, запросилось наружу… Милка выскочила замуж и перекрыла путь: впереди ничего не светилось, оставалась одна безысходность.
– Я знаю, я окаянный, зряшный, пустой человек, зря копчу на свете. Да-да, ничего из меня путного не вышло. И годы подперли, уж с горы побежали. И все, все, все. Никому я не нужен. Что, мне петлю на себя?
– Другую найдешь, – холодно откликнулась Миледи, подавляя в себе жалость. – У вас, мужиков, все легко. Ваше дело не рожать…
– Но ты же любила меня?
– Кто знает, может, и любила. И что с того? Сейчас-то не люблю. Я люблю Ваню, он интересный мужчина, умный, он откроет мне мир. Он спас, вытащил из старых дев, где, может, мне самое место. А ты бомж…
– Да, я бомж, – как эхо, откликнулся Братилов.
– Да, бомж, и у тебя выходки дикие, поганые выходки, – зашипела ненавистно Миледи. – Три года ходил и не знал, да? Ты не знал, что у меня два святых места, к которым без любви не прикасайся? Ты слышишь, Братилов?
– Слышу: у тебя два святых места…
Он осторожно, путаясь в сетном полотне, приблизился на голос к Миледи, опустился на колени и стал слепо шарить перед собою, перебирать ладонью по лавке, пока не наткнулся на Милкино бедро. Оно оказалось твердым и горячим, как русская печь… Хоть оладьи пеки: шлеп теста на лядвию – и через минуту готов олабыш. Миледи перехватила его руку, но отчего-то не оттолкнула. О, как хотелось сейчас Братилову, чтобы это мгновение стало вечным, чтобы его толстые, необихоженные, шероховатые пальцы оказались невесомыми. Братилов запрудил дух, чтобы не дышать перегаром, и замер… «Пьешь, так надо закусывать», – укорил себя. Алексея вдруг взял озноб, та дикая трясучка, что овладевает человеком помимо его воли, когда любовное желание напруживает каждую жилку. Миледи почувствовала его дрожь и сердобольно, участливо спросила:
– Тебе плохо, Алеша?
– Плохо, когда рога на лбу. Шапку мешают носить. – Братилов неловко потянулся к Миледи, нашаривая ее напухшие, такие сладкие губы. Миледи очнулась от наваждения, засмеялась, оттолкнула Алексея. Он чуть не опружился на спину.
– Ты что, Алеша, окстись… Иль забыл? Я целую только любимых. Губы мои – это мой дух, мое пламя, что я отдаю любимому, проливаю в него. Мы же не звери, верно? И грудь не трогай, – заранее остерегла. – Через сосцы я отдам дух свой моему ребенку. Мы в духе сольемся: отец-мать – сын… Я для любви создана, чтобы в миру быть, чтобы мной любовались все, для духа создана. Не красотою, чтобы прельщать, а душою.
– Ага… Для любви создана, как птица для полета.
Братилов едва совладал с собою, ему нетерпимо хотелось завалить Милку на скамью и грубо овладеть ею, измять всю. А там хоть трава не расти.
– Дурачок… Думаешь, я по кобелям бегала? Это ж ты сливки снял. Помню, Новый год, а нам негде встречать. Поехали с Танькой за город к подруге, а той нет, укатила с мужем. Мы с подругой взломали замок, у нас было две бутылки ликера. И вот стали Новый год с Танькой встречать. Зашли два парня, мы потанцевали немного, а даже целоваться не хотелось. Они поняли, что ничего им не отколется, и ушли. А мы напились тогда до беспамятства. Так что было возможности, дорогой, и спиться, и скурвиться, а вот я не спилась и не скурвилась… Я целоваться-то поздно стала, уж после школы. Мне пресно поначалу показалось, пусто как-то. Чего лизаться? Слюни пускают – и всё. В училище девки пристали: ты и не целовалась еще? Я говорю: не-е. Завалили меня на пол, по рукам-ногам связали и давай целоваться учить. Мне пресно показалось, да еще насильно дак. Ну я ногами отбрыкалась, отстали. А с парнями-то потом нравилось, сладко целоваться-то, ой, сладко, если парень по сердцу. Когда особенно руки целуют. Я так и замираю вся и как пьяная становлюсь. Я никогда не просила, они сами… А ты вот за три года ни разу не поцеловал моей руки. Художник тоже… Алеша, ты чего молчишь-то? Умыкнул и молчишь. Зачем в кладовку-то прятал? Иль для смеха?
– А чего говорить? – стылым голосом отозвался Братилов; всякое желание пропало в нем, уже кровь бешено не токовала по жилам, но загустела и зальдилась, как осенняя тяжелая вода в заберегах. Братилов собирался отомстить Милке, но та своим невинным девическим голосишком вдруг отняла всякую волю.
…Глупо как-то. Во дворе Вараксин с Васькой, примостясь к колоде, половинят бутылку и небось хохочут полоумно над идиотом, что добровольно залез в хомут да и застрял в нем на всеобщую посмешку.
Вдруг где-то далеко завопили голоса: «Невесту украли, невесту украли!» Ага, хватились, значит, забегали, захлопали дверьми, зароились, как мухи над пропадиной, загудели, пьяно, слепо тыкаясь во всякую дырку. Голоса приближались, кто-то легко дернул за дверку, лязгнул замок. Побежали дальше, залезли на подволоку, затопали по чердаку, сгремели тазами в бане, спихнули с угретого места двух абреков, словно бы там, за колодою, на которой рубили мясо, и затаилась невеста.
– А вот и не найти, ёшкин корень, – не скрывая своего участия в деле, прихохатывал Вараксин и пускал матерки. Он уже спрятал вставные челюсти в карман, чтобы не утерять, значит, хорошо набрался и озверел. – Что кружите, как собаки над падалью, ёшкин корень?..
– Митька, верни невесту, свадьбу разладишь, – приступала хозяйка. – Ой, зараза, ой, непуть, что удумал. Он удумал девку воровать. Заболеет, я тебе покажу кузькину мать. В сугроб зарыл, что ли? Уж везде обрылись. Иль в другой дом сошла?
– В сугроб закопал… Выкуп дадите, мерзлую отрою. Ножом станем стругать на закусь. Милка девка жирная, скусная, много строганины выйдет, ешкин корень.
Фрося сбегала в тайную схоронку, где упрятала ящики, вернулась с бутылкой.
– На, жори, может, сдохнешь, полоумный.
– Обижаешь, Ефросинья Николаевна. Милка не какая-то дешевка, за бутылку не отдам.
До трех раз бегала хозяйка, приплачивая награду; сошлись на пяти бутылках.
Миледи сидела в своем закуте и страдала, но не оттого, что умыкнули, а что оказалась на виду, на послуху, да и не одна, а с Братиловым; ведь всей Слободе было заметно, как художник пригуливает за учительницей музыки. Лишь один Ротман вроде бы и не знал любовной истории, вокруг которой столько вилось досужих сплетен. Братилов затаился в углу, как мышь, и не подавал признаков жизни. Миледи сейчас ненавидела его; она егозила ногою вдоль лавки, намереваясь больно пнуть кобелину… Да какой он кобелина, Милочка?! Так, ни рыба ни мясо, обрат с молока, дижинная шаньга, раскис на скамье, как старый гриб. А она, дура, ему честь свою отдала задарма, за половинку кислого груздя. Хоть бы солить-то научился…
Миледи остервенилась и, не дожидаясь, когда отомкнут запоры, затарабанила в створку. На глазах ее шипели слезы, а в горле стоял ком. Отпахнули дверку, Миледи вышла на двор, белая, как мел, во взгляде застыла бешенина. В такие минуты ее не трожь. Мать знала повадки дочери и сразу прикусила язык, стушевалась, отступила в тень. Хорошо, появился проспавшийся отец, подхватил Миледи под локоток, запел: «Бывало, вспашешь пашенку, лошадок уберешь, а сам тропой знакомою в заветный дом пойдешь…»
В горнице уже кричали «горько», но в это время жених в упор смотрел на своего супротивника, как тот, заспанно щурясь и потягиваясь, вылезает из кладовой; под потолком во дворе висела на шнуре голая лампочка, и свет поначалу ослепил. Мужики были примерно одного калибра, одних годков, но Ротман казался чуть поплечистей и посуше в талии, потончавее и посбористей. Иван не проронил ни слова, только катал желваки. Он знал, что свадьба хотела кулаков, свары, стычки, чтобы в этом огне внезапной драки сжечь свою накопившуюся усталость и как бы обновиться для грядущего трехдневного застолья. Долгий чин идет прерывисто, по своим природным законам, где от комедии до драмы один шаг; и все искусство вожата́ев, посажёных жениха и невесты, чтобы вовремя прекратить, урезонить ссору, не дать ей распалиться вовсю. Постное застолье – значит, и вся грядущая жизнь пойдет унылая, подъяремная, день да ночь – сутки прочь. А если зажиг случился, если норов пошел на норов, то эта памятная кутерьма все время будет тайно подзуживать хилые будни, подсыпать перцу под хвост. Но Ротман не собирался потрафлять гостям, считать ребра и зубатиться, ибо здесь, в Слободе, он начал творить из себя нового человека.
– Ваня, не заводись. Так принято на свадьбе. Иль ты позабыл? – горячо причитывала теща. – Пойдем, парень, за стол, не пори горячку.
– Я не буду тебя бить, – сказал Ротман. – Я слабых, пьяных и несчастных не бью. Я добрый. Но вызываю тебя на дуэль.
– Шпаги, рапиры, пистоли? – ухмыльнулся Братилов.
– Я не шучу. – Ротман сказал таким тоном, что Алексей сразу поверил в серьезность намерения. Свадьба закольцовывалась по сценарию невидимого режиссера, и противиться замыслу было бесполезно. А чего? дурить так дурить.
– У нас будет три раунда: точность, ловкость и ум. Народ хочет, чтобы я тебе зубы выбил, но вставлять их нынче дорого.