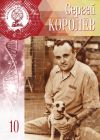Текст книги "Один и одна"

Автор книги: Владимир Маканин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Он был тоже их выводка, ветеран шестидесятых, – там и тут много выступавший, бесконечно влюбленный в поэзию, в театр. Научный сотрудник, даже и автор нескольких интересных работ в прошлом, он с годами опустился (невосприимчивость к формам живого), пропахший, нестираный и чуть что агрессивный – а только так, мол, жить мне и нравится! а это, мол, лучше, чем делать шаги по службе! куда лучше, чем защищать диссертации! – заорал он, едва Геннадий Павлович завел обычный и вполне нейтральный разговор, притом заорал на меня, словно это я, только защитившийся, звал его на банкет.
Притом же и нездоров: судорожный кашель, воспаленные глаза – куда лучше так, лучше! Лучше – кричал он, чем устраивать, мол, внуков в математические школы и дарить директрисам тюльпаны…
Мы скоренько ушли.
– Пьет он? – спросил я.
– Нет. Не думаю. Разве что потихоньку…
И Геннадий Павлович рассказал, что однажды этот человек вдруг стал выть в своей квартире. Соседи чуть с ума не сошли. Затем стихло. Соседи стучали к нему долго и напрасно, взломали дверь – в квартире пусто, но, обойдя комнаты, обнаружили затем, что он спит в ванне. Совершенно голый, он уснул в ванне, в которой не было ни капли воды.
Однажды Геннадий Павлович, подняв телефонную трубку, чтобы уточнить время, попал на разговор; неизвестные собеседники не спешили, и меж их фразами тишина за мембраной словно бы переливалась от одного к другому. «От одиночества надо уметь избавляться», – произнес голос. Другой голос, с некоторой иронией, спросил: «В театры ходить?» – «Театры очень прибавили. Театры вновь получшали», – разговаривали люди, которых он понимал. И конечно, одинокие. От волнения Геннадий Павлович кашлянул
– Что? – спросил первый голос.
Геннадий Павлович затаил дыхание.
– Нас никто не слышит?
– Нет.
Разговор потек вновь, становясь, чем далее, тем мечтательнее и наивнее: один голос советовал другому пойти в театр и познакомиться там с молодой провинциалкой (они как раз ходят в театры, как сойдет с поезда, уже смотрит афиши и топчется у касс), – познакомиться, а затем и переписка, заочная дружба, долгая, томящая, и, наконец, поездки к ней в провинцию, редкие, но насыщенные чувством. Да, да, именно впасть в затею, в эту дружбу и в эти письма, долгие, бездонные и чувственные, как сама провинция, заманивающая тебя и затягивающая. Да, увлечься…
– Наивные.
Геннадий Павлович (подумал?) неожиданно для самого себя сказал это в трубку. И испугался. Но они не расслышали.
– Треск у тебя в аппарате…
– Да, шумит что-то.
Так что Геннадий Павлович даже и вклиниться не мог. Раздосадованный собственным порывом, он бросил трубку. И тут же пожалел. Ведь трогательно, больно, близко. Взяв трубку вновь, он крутил диск – он еще крутил диск телефона, он даже и попадал на разговоры, но разговоры совсем другие, других людей, и диск все тарахтел и тарахтел попусту, словно напоминая, что в одну и ту же воду нельзя ступить дважды.
Геннадий Павлович объясняет, что если спроецировать его жизнь на телефонный разговор, то юность – та часть разговора, когда он их слышал, время, когда он слышал людей, пусть даже они меж собой говорили наивно. Не всякий опыт вмещаем. А затем как-то так случилось, что он упустил из рук телефонную трубку; люди продолжали говорить, но он уже не мог их услышать, как ни пытался начать заново и как ни крутил диск. Может быть, они все еще говорят – те люди.
Но более всего Геннадий Павлович – и тоже словно бы шутливо – любит проецировать свою жизнь на тот случай (по сути, случай-перекресток), когда однажды его выбросили из электрички молодые парни. То есть он вошел в электричку, сел, начал разглагольствовать и чем-то их задел – это, так сказать, его говорливая юность. Но внезапно все кончилось: поговорил – и вот уже оказался на снегу, в сугробе. Ничего не случилось. Электричка-жизнь отправилась себе дальше, люди ехали, и люди все еще едут, а он остался там, в снегу, вместе с так быстро кончившейся юностью.
Он любит подчеркнуть оттенок:
– Жизнь вдруг ушла без меня, все было так быстро!
Когда после окончания вуза какого-то студента не взяли в аспирантуру, что было следствием интриг и было явной несправедливостью, Геннадий Павлович в знак протеста также отказался от аспирантуры, которую ему тогда предложили. Он блестяще учился.
Он едва не распределился в Кострому.
(Панорама: море, береговая линия.) Утомленная, издерганная неудачами молодая разведчица наняла яхту: еще есть надежда на встречу вдали от чужих ушей и глаз. Легкий ветер. Яхта, управляемая матросом, пересекает залив. Красивая женщина, разведчица, предполагает, что он также догадается нанять яхту и выйдет в море, откуда будет хорошо виден удаляющийся пляж с гомонящими и загорающими чужими людьми, в то время как их яхты все более станут сближаться. Сначала они – она и он – лишь издали покажут друг другу свои полурыбки, и серебристые вещицы радостно сверкнут, как бы подмигивая с расстояния одна другой на солнце: это я! я!.. яхты сближаются, красивая разведчица в нужную минуту кричит матросу: «Давайте подойдем к той яхте!» – «Зачем?» – «Какая чудесная и неожиданная встреча, представьте – на той яхте мой родной брат!..»
Но все это грезы. Яхта одиноко идет вдоль берега.
Молодая женщина ждет полчаса, час. Ее красивое лицо опечалено. А вокруг солнце, играет море. Легкий ветерок, отблески, грубое лицо матроса, а вдали все тот же пляж с чужими людьми, которых ей надо опасаться.
– К берегу, – говорит она.
Только тут она сядет на поезд, который пересекает страну в восточном направлении. И в купе к ней пристанут пьяные попутчики, после чего она, босая, выбежит в проход вагона, а затем постучит в купе проводницы. И та поймет ее как женщина женщину, и даст чаю, даст спокойно поспать и на нужной станции ее разбудит.
Затем произойдет встреча-неузнавание возле трех тополей. Скамья. Луна сияет. И на пустынной ночной улице так тревожно стучат приближающиеся шаги.
Вчера Геннадий Павлович стал вдруг оправдываться в том, что он не сажает деревья возле дома и не предлагает интересные книги подросткам, бездельничающим во дворе. Теория малых дел невыносима. Сами же малые дела, как и взывания к доброте, тускнеют, мол, в наши скорые дни; они сродни милостыне, сродни благотворительности, и от добрых этих дел невыносимо несет ведомственной фальшью, даже если дела нефальшивы.
(Он боялся, что я его упрекну… Но в чем?)
Когда рассказываешь как бы о давно прошедшем, то есть в прошедшем времени, известная крутизна рассказа придает ему ближе к концу привкус завершенности жизни. Выведенный из бесконечности бытия, человек замыкается на бесконечность литературы – он словно бы и не человек, и конец рассказывания как конец жизни.
Когда человек здесь – его нет там.
Уже после золотой юности был период, когда у Геннадия Павловича возник своего рода небольшой, очень камерный клуб на дому (в возрасте тридцати лет, но и свои тридцать Геннадий Павлович не любит: он, мол, тогда топтался на месте). К нему приходили сотоварищи по юности, переставшие слыть знаменитостями и ищущие, куда бы себя приткнуть, хотя бы и в позднюю дружбу, хотя бы и просто в говорливые ночные бдения, лишь бы не ощущать вновь обязательности кем-то стать. Смена времени как смена шага. От встреч у него на дому все больше и все явственнее веяло запашком неудачников. Встречи казались бессобытийным фоном. Встречи укорачивались, тускнели. Затем прекратились. В юности, мол, он, Геннадий Павлович, опережал свое время, сейчас явно отставал, а значит, в тот камерный период он шел, уже не обгоняя, но еще и не отставая: шел со скоростью самого времени – а что может быть скучнее времени самого по себе?
Некоторые срывались в пьянство – этакие легкие поначалу, звонкие мостки меж юностью и старением. Эти мостки надо проходить скоро и ни в коем случае не оглядываясь, не видя бездны, что под ногами. Оглядываться можно, когда уже за сорок.
Геннадий Павлович дома вальяжен, в отглаженных брюках, рассуждает.
Если вслушаться и если вникать придирчиво, слова его от повторяемости как бы бесцветны, пусты.
Однако это не пустословие. Не просто говорливость, когда к нему раз в полгода зашел человек. Это тихий, но от тихости еще более отчаянный призыв к кому бы то ни было, зов, клик освободить его от неведомого заклятья, от ворожбы, приковавшей его после ослепительной юности к судьбе одиночки.
Как-то спросил, не начал ли Геннадий Павлович вести какие-либо записи, заметки.
Он ответил: нет. (Оживут единицы, а сколькие в зиму замерзли.)
Воинственная Нинель Николаевна предложила как-то в случайном разговоре свой кинообраз – тоже, впрочем, уловимый. Время – Средневековье. Ночь после битвы. Ночь лишь для пущей образности: ночь придает колорит холмам, полянам да и самому блужданью раненых по этим темным холмам и полянам; блужданье отставших и уцелевших; ищут своих. Едва намечается утро. Утро какого-нибудь 1128 года.
Зари еще нет. Опустевшее поле. Появляются два дружинника. Потом еще один. Потерявшиеся после поражения, они кое-как сошлись на холме. Развели костер. Но еще не успели к ним подойти другие, как они у первого же общего костра ссорятся… Они начинают выяснять. Ты, мол, в сражении копье потерял. А ты вообще слишком прятал за щит свое красивое лицо. (О незабвенный Чичиусов-Чимиусов!) А ты, мол, робел. А ты знамя выронил. И так далее. Взаимные упреки переходят в брань. В довершение они кричат, что из-за тебя, мол, и проиграли. Плюют друг на друга. И в гневе расходятся. Этот – туда. Другой – туда. А третий – и вовсе куда-то. Ищут своих, ночь; зари еще нет.
Как хорош, и как человечен, и, возможно, как пошл был бы рассказ, где Геннадий Павлович приходил бы к нам в семью ужинать раз в неделю, скажем, по воскресеньям или по субботам, когда и Аня может посидеть с нами за чаем допоздна.
Мы бы ужинали и говорили.
Однако у Геннадия Павловича нет ни малейшей тяги бывать в семье, в чьей бы то ни было.
Ему думается, что, если он привяжется к какой-то семье, это уже пахнет финалом, концом, пахнет развязкой и судьбой приживальщика, и он не дает своему сердцу никуда приткнуться, прижиться, быть может, даже и зная, что сердце мягкое и что оно тут же войдет, вживется в приживальческую роль. Он пошутил однажды, что хочет как можно дольше остаться в предпоследнем акте своей драмы. Более того, сделать предпоследний акт последним.
А может быть, он ничего такого не хочет и все это домыслы, а в сущности, его жизнь – это его жизнь. Он сам по себе, без возможности что-либо менять. А мы с Аней сами по себе. И никто ничего не хочет, не может.
Мог быть такой вот нерассказ.
И такой вот неразговор, когда Нинель Николаевна замыкается в себе. Сидит рядом, но ее нет.
Я пробую понять, достучаться. Произношу слова, которые век за веком излучают все еще свет, даже надежду.
Спрашиваю:
– Обидно было?
– Да.
Голоса наши звучат ровно, на одной ноте.
Титры в конце фильма, где уже завершились судьбы тех, киношных, разведчиков, которые так и не нашли, не узнали друг друга, а их полурыбки от времени напрочь стерлись и стали похожи на огрызки карандашей. (Посеребрение сошло – есть темный, тусклый предмет, обломок, который непонятно зачем удерживается еще в кармане.)
Разведчик и разведчица – порознь – постарели и живут, не смирившиеся и в то же время смирившиеся с окружением иных людей. Их не интересуют речи премьеров. Их уже не интересует политика. Они просто живут. Они стоят в очереди. Они покупают кефир, хлеб.
Сильно постаревшая Нинель Николаевна приезжает однажды летом в свой Пятигорск; вот она ходит по парку или вокруг Машука, вспоминая былые годы и смаргивая слезы в счет ушедшей, утекшей жизни. Солнце мягко. Прогулка прекрасна. День удался. Нинель Николаевна возвращается к источнику, подставляет свой стакан, и в стакан сочится целебная вода – и это, допустим, капают некие слезы, слезы неузнавания… и как раз тут шаги. Кто-то приближается к источнику с другой стороны. (Геннадий Павлович, как известно, в отпуск никуда не ездит, но вдруг же и его однажды угораздит.) И вот они оба – старики, и я их вижу: поблекшие, седенькие, сильно сдавшие, подходят к галерее в общей толпе, но с разных сторон. Подошли. Они в шаге друг от друга.
Им будет, скажем, тогда уже под семьдесят. Далее психология: беспокоит что-то Нинель Николаевну, что-то неясно беспокоит ее, и, хотя ждать ей у источника нечего и некого, Нинель Николаевна почему-то ждет. Пьет медленно. Наконец уходит в задумчивости. Тут же (почти одновременно, но все-таки полуминутой спустя) у источника стоит Геннадий Павлович (белоголовый, старый, щурящийся), который, конечно же, лечится без охоты и к источнику ходит редко, лишь иногда и, как он сам говорит, исключительно из ройного чувства. («То бишь из стадного?!» – «Из ройного!» – настаивает на своем и даже сердится старенький Геннадий Павлович. «Рой» для него – на старости лет – слово уже совершенно возвышенное, почти святое; пчела мудра; архитектура сотовых перегородок безукоризненна.) Он приходит пить воду, только чтобы побыть, потолкаться с людьми или когда уж совсем скучно. Он сохранил ум. Ничуть не верящий в исцеление от своих стариковских болезней, он, вероятно, приведен сюда соседом по санаторской комнате, напарником, тоже седеньким, беленьким старичком, однако полным энтузиазма и веры в лечение водами.
Геннадий Павлович постоял, выпил теплой, отвратной водицы, поморщился и неожиданно тоже ощутил, что его что-то беспокоит и смущает – но что? – уж едва ли та старушонка, что только что отошла от источника, разумеется, не она, но ведь что-то же его беспокоит, томит, и он вновь подумал – что? – и еще раз поморщился, вспомнив вкус теплой воды. С тоской и с некоторым даже омерзением оглянулся Геннадий Павлович на своего сотоварища, на беленького старичка (который воду боготворил, но также ценил и целебный серный источник). Тот медленно, благоговейно подносил наполненный стакан ко рту. Старичок как старичок. И вновь Геннадий Павлович отметил свое смутное беспокойство, да что ж это в самом деле?
Оглядев незнакомые лица, тоскуя, он ушел.
Можно представить себе этакую сентиментальную неоднократность их встреч. Скажем, три или четыре раза, подходя случайно к источнику в один час, он и она едва не узнавали друг друга в лицо и испытывали оба неясное смущение духа. Этакие качели в течение всего сезона: он подошел – но она уже ушла; она подошла – он ушел.
Глава седьмая
Прочитав на жэковском щите объявление, Нинель Николаевна стала было ходить в только что организовавшуюся группу здоровья, где познакомилась с местным йогом и его системой. Она хотела занять себя, может быть, увлечься, но приобщение не давалось, а причудливую гимнастику она делала слишком яростно, жестко, словно и тут мучилась укорами совести, так что кроткий йог беспрестанно советовал ей себя и свои порывы сдерживать. Скоро медитативная расслабленность ей прискучила, руки затосковали по спицам. Она перестала туда ходить. В сущности, моду не приобрели, моду позволили. Тем более что зал посещала в основном молодежь, и Нинель Николаевна с каждым разом видела отраженное в чужих, в холодных глазах, как ей казалось, увядающее свое тело. Кажется, что молодые глаза, пробегая по залу, стараются на тебя не наткнуться, увядание подчеркивалось, как-никак скоро пятьдесят, Игорь, сорок с лишним, и не говори, пожалуйста, что для женщины это самый расцвет.
У них на работе одна женщина, старший научный сотрудник, принесла однажды своего попугая – показать, порадовать. И правда, всем уставшим к концу дня сослуживцам замечательный попугай советовал:
– Дерррр-жи спину пр-рррямо!
Хозяйка же называла его ласково: «Ромаша, птичка моя!..» – что всех умиляло. Когда же она, старший научный сотрудник, к примеру, хохотала, смеялась, маленький ее попугай начинал волноваться: он подлетал совсем близко и заглядывал ей в рот, вероятно не понимая и доискиваясь причины столь своеобразных звуков смеха, – он зависал в воздухе над ее смеющимся ртом, бил крылышками и смотрел, смотрел. А дома, рассказывала старший научный сотрудник, попугайчик моется в обычной струе воды из-под крана, подставляя то крыло, то тельце, то голову, – а в обед, представьте, подлетев к столу, он вдруг садится на самый кончик вилки к хозяйке или к ее мужу и, легкий, крошечный, покачиваясь на вилке, говорит им:
– Р-ррромаша… птичка моя.
С ней, как, впрочем, и с другими женщинами и мужчинами отдела, Нинель Николаевна была в известных натянутых отношениях, а жаль – хотелось к ней подойти, поинтересоваться, как попугая можно достать, где и за какую цену. Впрочем, Игорь, я буду бояться, что птичка вылетит в фортку, они же гибнут на воле, это известно…
Казалось, исчез навсегда, однако по весне Геннадий Павлович, возвращаясь как-то с работы, вновь увидел своего кота, выскочившего из подвала дома, что напротив. (Глаза у Вовы изжелта-янтарные. Теперь это могучий красавец кот с броскими мужскими достоинствами.) Там, на солнечной стороне дома, на молодой весенней траве сидели кошки, выгибали спины коты. Вова полинял, но был крепок, глаза его горели неукротимо.
– Вова, – позвал Геннадий Павлович.
И черный кот с белым галстушком оглянулся – а-а, это ты, хозяин, нет, нет, нет, сейчас мне некогда: весна!..
В молодости Геннадий Павлович дал какому-то негодяю по физиономии, что также вошло в легенды тех лет, – он сделал это достойно, притом нимало не думая о возможных неприятных последствиях. Сейчас суть случившегося почти забылась, означая тем самым, конечно, не его забывчивость, а просто избыток таких или иных событий и поступков – известную наполненность той поры. Тем более в отношении интеллектуальных отступников он держался на высоте, и ведь это было, было, я умел это, Игорь, и почему же я так сник после, почему сник и поверил, что произносимые мной высокие слова – это только говорливость. А ведь слова – это слова! даже если их осмеивают и стараются принизить, это слова! (весна действует), – Геннадий Павлович начинает восклицать, глаза его горят и делаются неукротимыми, как у Вовы. Но лишь на миг.
Есть в детстве плоский овражек, и в овражке – неторопливая речушка-ручей, с красноватыми, ржавыми валунами, полуспрятанными под водой. И телега, запряженная парой, которой правила женщина, так и не оглянувшаяся. Пересекая речку, женщина раз и другой хлестнула лошадей перед подъемом – лошади наподдали и дружно, не теряя скорости, а даже и наращивая, лихо вынесли на пригорок. Затем лошади и телега, и с ними женщина, державшая в левой вожжи, а в правой короткий кнут, скрылись из виду. А когда пыль рассеялась, я увидел, что в речушке лежит мужчина. Он и раньше там лежал, но я его не видел.
Побитый в драке, он почему-то ушел далеко, переходил речку, упал и ударился затылком о гладкие красноватые камни; он так и остался лежать в воде, раскинув ноги в хромовых, тонкой кожи сапогах. Когда я, городской мальчик семи лет, подошел ближе, он постанывал, просил пить. Он лежал затылком в воде, лицо было наружу, так что вода обтекала его лицо с двух сторон, несильно и негромко журча. Вероятно, через боль и смутное сознание он ток воды слышал и, лежа в речке, просил: «Пить… Пить… Пить…» Я (помню) подошел ближе.
Мое детство навязчиво, но ведь навязчиво и все другое. (Однажды вдруг посуровев, Нина ответила мне, что есть только юность и что ей согласиться с чьим-либо детством – значит себя уступить или приуменьшить.)
Не поступаясь детством, не предлагая его в обмен, я все же жалею, что у меня не было юности.
Был некто Л. среди однокурсников Геннадия Павловича; как и многие вокруг, Л. тоже был опрокинут в юность, однако в юность не боевую, не воинственную и не реформаторскую, а в юность как бы весьма старомодную и, в сущности, сводящуюся к любви. Настя или, может быть, Надя, пламенная, студенческая любовь Л., на третьем, что ли, курсе заболела, учиться не смогла и уехала, вернулась к себе в провинцию, где и умерла. А Л. остался. Этот Л. продолжал говорить о ней и, бесконечно рассуждающий о любви к умершей, о нетленной ее памяти, казался в те времена карикатурой. «Мы не всё понимали тогда, – рассказывал Геннадий Павлович. – Огромность смерти казалась особенно неуместной».
Дома Нинель Николаевна иногда подходит к шкафу и как бы рассеянно вынимает оттуда свой девичий портрет, фото, где ей семнадцать лет, в округленной, овальной рамке. Она может долго и без всяких таких размышлений или слов держать портретик в руках: с провинциальной фотографии на нее смотрят боевые, несколько вызывающие серо-голубые глаза, к которым подходят и хорошо скрепленные губы. Но боевитости наперекор лицо окаймлено неожиданно безмятежными и совсем светлыми детскими локонами. И ясно, что это лицо – личико совсем маленькой девочки, с гладкой кожей и детским цельным прочерком рта, с локонами, за которыми далее, как продолжение в охвате пространства, овальная и тоже светлая резная рамка под старину. Нинель Николаевна утверждает, что ничего особенного при созерцании фотографии она не испытывает: только смотрит. Тут есть чувственная пауза. (Нереализуемый переброс чувства из одного возраста в другой.) Но что-то она усваивает таким молчанием – саму себя? Иногда юное лицо ее пугает, потому что на этом вот, с ладонь, пространстве фотографии ей слышатся вдруг, как она уверяет, стуки маленького, напористого сердчишка, но, в сущности, робкого: да, да, боевитого сердца, но за боевитостью которого уже и тогда не прослушивалось что-то особенное, кроме обычной мольбы недолго, невечно длящейся человеческой жизни.
Над дверью квартиры Нинели Николаевны (чуть левее, если смотреть от лифта) есть этакое небольшое пятно, желтоватое и похожее по форме на карту Австралии: след давних ремонтных работ. Но оказалось, что такой же след есть этажом выше. И, выскочив однажды вечером из лифта на том этаже, я мельком увидел желтую, привычную мне Австралию, нажал звонок, стандартный и также привычный, и вот на пороге за открывшейся дверью стояли два старых, незнакомых мне человека, старик и старушка, а Нинели Николаевны не было. Умерла. Во мне замерло, а затем екнуло с совершенно непредвиденной болезненной силой: я не был у Нины год или около. А старик и старушка на тихие мои расспросы, у меня упал голос, отвечали, что ничего о жилице, которая здесь жила до них, не знают, нет, никакой Нинели Николаевны не знают, полтора года как въехали. Они говорили, а я все еще был пристукнутый и непонимающий: разумеется, где год, там и полтора, кто и как считает, – быть может, я у нее не был уже больше года?! Словом, я тупо стоял у порога и не пытался переступить, а они, старик и старушка, стояли по ту сторону порога и, в общем, тоже не приглашали войти, а только вежливо и даже чуть опасливо объясняли, что не знали и не знают они никакой жилицы. Минуты три или, может быть, пять минут Нина была для меня мертвой. И только после я перевел глаза на номер их квартиры, на тусклый кругляк с цифрами.
Конечно, я знаю, что Нинель Николаевна следит за собой и что она всегда худощава, стройна и что она как бы не стареющая в своей полустарости. Но существует некое второе зрение, не вполне данное мне, и, быть может, тем, вторым зрением видно, что она сдает, что тело ее худеет слишком.
– Что ты меня разглядываешь? – говорит Нина и легким движением руки как бы отряхивает с плеч прилипшие там несуществующие пылинки. И плечи становятся еще изящнее – и будто навсегда изящны! Она улыбается. И я успокаиваю себя: ведь ничем не больна; и ведь в форме! – в сущности, она законсервирована, а такие живут и живут. Но что-то во мне опять пугающе екает, как в ту минуту, когда дверь открылась и на пороге, по ту его сторону, оказались старик и старушка, вдвоем они, что ли, открывают свои засовы, – они там стояли, двое, и недоуменно глядели. А сзади выглядывал мальчишка, вероятно внук.
(Откроют мне однажды дверь – спросят: а кто вы? – и я узнаю, что Нинели Николаевны больше нет. Я переспрошу, уточню – и мне обстоятельно ответят. И тогда я уйду. Я не закурю сразу на лестничной клетке, под желтоватым пятном на стене, чтобы не уподобляться кинокретину; я не выпью также сразу водки на ближайшем углу, у гастронома. Я просто буду идти, шагать – я выберусь на набережную Москвы-реки и буду долго-долго идти по набережной против течения, с тем чтобы вода уносила Нину куда-то мне за спину, все дальше и дальше.)
…будет похоже на свободу. Я не буду в полгода раз приходить к ней, ни вздрагивать иногда ночью в страхе за незакрытый газ, ни покупать ей кофе, ни даже думать о ней. Труд быть и труд не быть. Не буду больше представителем туповатых и практичных людей нашего времени, которые вытеснили ее из жизни (которые не дали ей настоящего и не дали будущего, оставив лишь прошлое в виде прекрасной юности, которая все дальше и дальше убегает за спину, как вода, если идешь вверх против течения по набережной). Перестану быть воплощением успешного контакта с жизнью. Перестану, подыгрывая ей, говорить иногда заведомо заземленно и перестану про деньги. Что еще? Не стану похваливать ее любимый театр «Современник» поры его расцвета (и так тяжело волочить его в контексте). И романы тех лет, возможно, упоминать не стану. И вообще – мир разомкнется и сомкнется как-то наново. Стану ли я беднее? или богаче?.. стану ли на сколько-то несчастнее, когда пойму, что Нины нет, когда прорвется подспудная напряженность многих лет и когда я, пожалуй, банально раз и другой вытру слезы, хотя совсем не исключено при всех таких мыслях, что Нинель Николаевна меня переживет, и переживет намного, как это часто делают женщины против мужчин.
Нинель Николаевна не увидит того придуманного ею человека, который каким-то образом пригласил бы ее поговорить с нынешними молодыми: мол, так уместно сейчас рассказать о пришедшем времени. Под каким соусом? Да под любым: идеалы наши и мы. Мы и наши идеалы. В молодости, в их общей молодости пятидесятых-шестидесятых годов она входила в самую активную студенческую группу, занимавшуюся до поры пропагандой наиболее талантливых спектаклей, книг, фильмов – ах, так? ну и чудесно! ну вот и расскажите нашим молодым – время пришло, пусть сравнят! Кстати, так легко давшееся чувство освобожденности! Знаете, ничто так не полезно, как сравнение, очень-очень вас прошу, Нинель Николаевна. Да, да, мы назначим удобный для вас день. Да, да, можем заехать на машине. На метро?.. Пусть на метро. Как хотите и когда хотите.
Не представляю себе рассказа, в котором мы оба доживаем до старости в обычном ее варианте, и много-много лет спустя (столько лет спустя, что и не дожить, не докарабкаться ни при каких чудесах медицины и самоограничениях) я прихожу сюда стариком, дверь мне открывает старушка Нина, – мы оба ахаем, и она, как в некие прощающие всё и всех времена, говорит: Игорь, мы никто и ничто, мы ничего не выразители, мы просто люди, мы обычные люди, и мы обычно доживаем свою жизнь, старики в автобусах бывают сварливы и невыносимы, но мы терпимы, мы, допустим, хорошие старики, садись к столу, продолжает Нина, мол, замечательно, что ты пришел, ты и я – мы же просто люди, и это так неожиданно хорошо, так чудесно. Как твои ноги, а как почки, спросит она, а я заговорю о ее, допустим, гастритном желудке и иногда ноющих суставах, сейчас она этих разговоров не выносит, на что она, улыбнувшись, заведет затем о погоде, сейчас я этого не выношу, да, да, потекут те самые, тихие и сумеречные разговоры, общение, когда все-таки детство пересилило и зрелую нашу жизнь, и героическую юность, и все прочее, пересилило и на витке совместилось со старостью, совпало, сомкнулось, сближая самых разных людей – и друг с другом, и с надвигающейся вечностью, хотя уже сейчас, кажется, готов я к расслабленному разговору двух стариков, мне только научиться о погоде – в сущности, не так много, но вот она-то не готова.
Не могло быть и такого рассказа, что она вышла замуж и что однажды я позвонил в дверь, а там, за порогом, их двое: Нинель Николаевна, а за ней или с ней рядом маячит некто седоволосый, и видно, что он уж здесь законный и свой. И что приглашают войти, проводят в комнаты, и что седоволосый мужчина, знакомясь, без особой охоты жмет мне руку, подозревая, хотя бы и вяло, хотя бы и с ленцой, что на этой самой тахте я когда-то пробовал заночевать, ох уж эти старые друзья, а все же прохожу, сажусь за стол, и втроем мы тонко заплетаем наш разговор, веселеем, и седоволосый мужчина сам помалу вплетается, нельзя же быть невежливым и нехорошо быть букой, и мы говорим, слово за слово добрея и подливая друг другу кофе, а то и винца.
Юмор бы тоже не выручил; в том смысле, что седоволосый ее мужчина оказался бы вовсе не интеллектуалом и не утонченным театралом, а, скажем, седым озорным мужиком (с юморком под простоту), так что, даже отчасти ревнуя, простил бы мне предполагаемый здесь хоть однажды ночлег: мол, конечно, не сладко, а все-таки этот Игорь Петрович… этот Петрович – мужик свой, нормальный и из нашего, кажется, района.
– …Я для тех ее старых знакомых, кто из нашего района, скидку делаю, ха-ха-ха-ха-ха. Люблю свой район. И живу здесь совсем неподалеку – отсюда, между прочим, видно мое окно, а Нину я так и увидел впервые, когда курил: люблю покурить на балконе…
– Может, покурим? – скажу я, еще более роднясь и сближаясь.
– С удовольствием. Но только, ха-ха-ха-ха-ха, на лестничной клетке – Нина не выносит дыма.
Не могло быть такого.
Он лежал в речушке лицом кверху, его ноги, в хромовых сапогах, были почти на сухом, а вот голова в воде – и было так, что вода, небольшая, но быстрая, обтекала, обегала с обеих сторон его лицо. В россыпь лежали поросшие красным мхом камни, просвечивающие сквозь воду; он просил: «Пить… Пить… Пить…» – а речушка почти равнодушно журчала, бежала своим путем.
Она и сейчас там бежит.
Геннадия Павловича пригласил вдруг на свою свадьбу толстенький сослуживец из смежного отдела Брагин, который был совсем забыт, но который когда-то расплывчато давно ездил с Геннадием Павловичем в командировку. Теперь Борис Никитович Брагин женился заново: он женился, что называется, по любви, притом на совсем молоденькой женщине.
Брагин был сед, был он ровесник Геннадия Павловича – да и другие человек восемь или девять, приглашенные на торжество, были пятидесятилетние с лишним мужчины; и кто-то из них, из приглашенных, шутейно сказал Геннадию Павловичу, что тот выглядит свежее других и тоже мог бы жениться хоть завтра. Затем более грубо, после нескольких стопок водки, он повторил, тыча вилкой, что Геннадий Павлович совсем неплохо сохранился и похож на человека, прожившего жизнь в консервной банке рядом с вон той горбушей. Понравилось. Посмеялись. Все они были давно уж отцы и деды, с трех-, пяти– или десятилетними внуками, однако же бодрые, шумные и весьма молодящиеся деды, соленые, когда о женщинах и о водке, грубоватые, когда о делах, о политике, о машинах и гаражах. Геннадий Павлович интеллигентно отшутился, даже и удачно, остро отшутился – опять все посмеялись. Но и смех их, и оживление, и рискованные рассказцы вполушепот так или иначе оттеснялись, сдерживались, становились скромнее от присутствия здесь молоденького и очаровательного существа с тонкой шейкой – жены Брагина.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?