Текст книги "Растление великой империи"
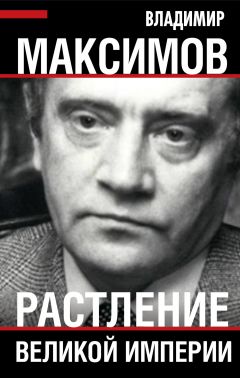
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Многое из этой книги мне было уже знакомо по газетным выступлениям Аксенова и радиопередачам, но тем не менее, скомпонованное в одно целое с сопутствующим этому, как всегда, чуть ироничным авторским комментарием, породило чудо: совершенно самостоятельную книгу. Причем, книгу очень высокой пробы.
Прочитав ее уже в первый день пути, я потом снова и снова возвращался к ней, чтобы опять-таки – увы! – о чем-нибудь поспорить с автором. Но в конечном счете мы все-таки, на мой взгляд, договорились с ним в главном для нас: в том, что каждый волен видеть мир таким, каким он хочет и может этот мир видеть. Согласитесь, для писателей, а в особенности русских писателей, это уже немало.
Помнится, где-то в самом начале шестидесятых, в разгар так называемой оттепели (о, сколько их уже было на нашем коротком веку!) мы с Василием Аксеновым довольно сильно повздорили на почве открытия наикратчайших путей поисков своего «грустного бэби» или чего-то в этом роде. Дело понятное, время на дворе стояло самое что ни на есть эпохальное, каждый из нас считал себя тем самым гением, у которого – единственного и неповторимого! – в кармане импортного пиджака позвякивал заветный ключик от этой самой дорожки.
Но вот прошло время. Время, стоившее одним из нас лагеря, другим психушки, третьим могилы, а четвертым, вроде нас с Аксеновым, – горькой чужбины. И вдруг стало ясно, как дважды два, а то и еще яснее, что волшебного ключика никому из нас не дано, что грустного бэби нам все равно не найти, но зато у нас остается восхитительная возможность его искать. И этого у нас уже никто не отымет.
По звучанию эта книга представляется мне развивающимся по спирали блюзом, но в то же время, как это ни парадоксально, она удивительно русская книга. Я чувствую, как из-под американского сленга, манхэттенского гуда, рева авиалайнеров и разноязыкого колдовства толпы тянется за мной по американским дорогам до самого Тихого океана вечная боль русской сказки:
– Где ты, где ты, мой братик, отзовись!
* * *
На этом я заканчиваю небольшой цикл заметок о своей американской поездке. Кто знает, – пройдет время, улетучатся первые впечатления, и мне захочется рассказать вам о чем-то куда более важном и существенном для себя и для вас…
1987
II. Наследие дракона
Заговор равнодушных
Меня часто спрашивают: почему я против советской системы? А действительно, задумываюсь я, почему? Мой дед рабочий-путеец, в годы гражданской войны – большевик, комиссар Сызрано-Вяземской железной дороги. Мой отец из крестьян, боец Красной армии, ставший затем рабочим химического завода, что в Москве в Сокольниках, тоже большевик, правда, троцкистского толка. Сам я по первой профессии также рабочий-каменщик. Все в моей семье – русские, как говорится, до седьмого колена, то есть принадлежим к якобы господствующей в СССР национальности. Казалось бы, передо мной – русским потомком участников революции, рабочих, совершивших эту самую революцию ради своих детей (то есть меня!), – открыты были в этой стране все дороги и двери. Но на поверку все оказалось наоборот.
Вначале был репрессирован мой дед, как слишком радикальный ленинист; затем, еще в тридцать третьем году, – мой отец, как еще более ретивый троцкист; а их потомок, то есть ваш покорный слуга, в двенадцатилетнем возрасте вынужден был оставить школу и пойти работать на деревообделочный завод: ремонтировали ящики из-под мин, доставленные туда с фронта.
После – уход из дома и долгая полоса скитаний по России и связанные с этими скитаниями последствия: нищенство, бездомность, случайные заработки, детские колонии.
Множество занятий и профессий пришлось перепробовать мне: каменщик, землекоп, алмазоискатель, библиотекарь и, наконец, провинциальный газетчик и радиожурналист.
Путь этот в конце концов привел меня в литературу, и начало мое в ней, на первый взгляд, было (во всяком случае по провинциальным меркам) довольно успешным: первая публикация в двадцать с небольшим лет, первая книга стихов в двадцать три года, первая поставленная на сцене пьеса – в двадцать шесть. Тем не менее, сталкиваясь у себя в стране с теми, от кого зависела моя профессиональная и человеческая судьба, я всегда ощущал по отношению к себе исходящий от них холодок отчуждения: при всей моей кристально пролетарской анкете я был для них чужой, опасный, неудобный человек. Что-то во мне их неизменно настораживало, отталкивало даже в пору моей к ним, казалось бы, полной лояльности.
Даже после того, как я, опубликовав первую повесть «Жив человек» в разгар хрущевской либерализации (сразу же вслед за выходом «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире»), был принят в Союз писателей, отношение ко мне со стороны власть предержащих мало изменилось. Тем более, что меня не интересовали проблемы возврата молодежи к идеалам своих отцов, конфликты хороших председателей колхозов с плохими партийными секретарями или баталии героев технического прогресса с бюрократами и рутинерами. Меня интересовала вечная проблема литературы: голый человек на голой земле.
Поэтому, в отличие от своих сверстников вроде Евтушенко, публиковался я от случая к случаю, материально перебивался, как у нас говорят, с хлеба на квас (хотя числился одно время даже членом редколлегии самого ортодоксального литературного журнала «Октябрь»!), а о заграничных поездках мог только мечтать. Однажды, к примеру, когда меня пригласили как-то в Польшу (подчеркиваю, не на Запад, а в Польшу!) и я пришел с этим приглашением к тогдашнему секретарю по оргвопросам московского отделения Союза писателей, а по совместительству генералу КГБ Виктору Ильину (кстати, сыну гувернантки и галантерейного приказчика, что имеет прямое отношение к теме этой статьи), между прочим, относившемуся ко мне довольно благожелательно, он рассмеялся мне прямо в лицо: «Спрячь и никому больше не показывай!».
Постепенно я начал задумываться над причинами этой необъяснимой, на первый взгляд, неприязни к моей скромной персоне со стороны репрезентативных представителей советской системы и в конце концов пришел к определенным и окончательным для себя выводам по этому поводу. Но прежде, чем поделиться ими с читателями, я хотел бы привести ради наглядности биографию моего близкого знакомого преуспевающего кинематографиста X.
Дед его – крупный помещик и капиталист; отец – автор расхожих поэтических текстов, лауреат и т. п. Никто в семье ни во что и никогда не верил, но тем не менее не репрессировался. Сын в детстве воспитывался нянями и гувернантками; в юности – лучшими педагогами из советских учебных заведений для привилегированной номенклатуры. Нужды или преследований в жизни не ведал, сделал головокружительную карьеру в кино, беспрепятственно разъезжал по всему свету чуть ли не с младых ногтей. В настоящее время с советским паспортом в кармане свободно циркулирует с Востока на Запад, где ставит фильмы на здешних киностудиях.
В результате, я – политический эмигрант, антисоветчик или, как еще меня называют в советской печати, отщепенец. Он – лояльный гражданин, патриот, идеологически выдержанный культурный деятель.
Не правда ли, пикантно?
И вот когда я начал приглядываться к элите советского общества (а судьба меня сводила со множеством из них, начиная с провинциальных боссов, кончая некоторыми членами Политбюро), то мне всегда бросалась в глаза одна их характерная особенность: о своем происхождении они обычно упоминали в общих чертах – «рабочий», «крестьянин», «трудовой интеллигент». Причем в подробности, как правило, старались не вдаваться, предпочитая отделываться политическими банальностями. Стоило же завести с ними речь о деталях их пролетарского происхождения, как мои собеседники и вовсе прекращали разговор.
В конце концов я пришел к убеждению, что подавляющее большинство из них попросту сочинили свою родословную, приспособив ее к общепринятым стандартам процветающей в стране политической демагогии. Все они, при ближайшем рассмотрении, оказывались детьми или внуками миллионов тех самых российских сийесов, которые, терпеливо переждав стихийные страсти гражданской междоусобицы и внутрипартийных распрей, сделались в определенный час верной гвардией тоталитарной власти сталинского призыва и после смерти тирана окончательно стали всесильной олигархией, наделенной ничем не ограниченной властью. Ведь даже Никита Хрущев, хваставшийся на каждом перекрестке своим шахтерским прошлым, служил на шахте, как выяснилось впоследствии, всего лишь парикмахером.
У меня нет сколько-нибудь достоверных фактов о социальном происхождении нынешних советских руководителей, кроме того, что один из заместителей председателя Совета Министров Катушев, говорят, – сын нэпмана двадцатых годов. Но о социальных корнях сталинского Политбюро теперь довольно хорошо известно. Сам Сталин – сын владельца небольшой сапожной мастерской, по образованию – священник. Анастас Микоян из мелкобуржуазной армянской семьи и тоже выпускник духовной семинарии. Андрей Жданов – сын директора гимназии (эта должность в старой России приравнивалась к генеральской). Вячеслав Молотов – то же самое. Лаврентий Берия – из мелкопоместного мингрельского дворянства. Георгий Маленков также из религиозной семьи, его даже собственные соратники звали за глаза Попадьей (нынче, проживая в Москве на пенсии, отказался от восстановления в партии и числится церковным старостой в одном из столичных приходов). И лишь Михаил Калинин, общее посмешище всего Политбюро и «лично товарища Сталина», украшал это мелкобуржуазное сообщество своей рабоче-крестьянской родословной.
Я понял со временем, что они не терпят меня, потому что такие, как я, являются дискомфортной щелочью для их больной совести. Они готовы терпеть нас в качестве безмолвных рабов, но – горе нам, если мы пытаемся вопреки их воле сделаться сознательными личностями, возвращающими себе принадлежащее нам по природному и Божественному естеству право выбора. Ибо для них мы – дети той самой революции, которую они сначала предали, а потом сожрали под пайковую водку и номенклатурную икру.
В связи с этим мне вспоминается рассказ одного из ведущих деятелей «Пражской весны», которого после эмиграции приняли его итальянские товарищи на их самом высоком партийном уровне. Правда, при всем своем «еврокоммунизме», «свободомыслии» и «независимости» приняли на закрытом заседании с условием абсолютного неразглашения (дело прошлое, разглашаю!)
Наученный горьким опытом гость высказал хозяевам свое твердое убеждение в том, что после прихода коммунистов к власти в Италии им придется сойти с политической сцены.
– Но кто же придет тогда, – спросил его старейший из участников этого заседания, – кто именно?
– А тот, кто придет, – ответил гость, – он еще даже не в партии, он сейчас торгует контрабандными сигаретами в Неаполе…
Хозяева, разумеется, только скептически усмехнулись в ответ. Хозяева, разумеется, никак не смогли поверить в столь незавидную для себя перспективу. Хозяева, разумеется, были убеждены, что у них все будет по-другому, хотя могли бы вспомнить для примера судьбы лидеров коммунистического движения в послевоенной Восточной Европе: Рудольфа Сланского, Ласло Райка или Трайчо Костова. Им всегда было невдомек, что не дубчеки будут решать судьбы социализма в мире, а бронетанковые соединения Советской армии. Вспомните знаменитое сталинское: «А сколько там дивизий у этого самого папы римского»?
Впрочем, думаю, что и среди итальянских защитников рабочего класса, вроде вышеуказанных, мало кто действительно озабочен нуждами этого самого класса. (Менее всего они волновали покойного маркиза Берлингуэра.) В противном случае они могли бы узнать о судьбе российского пролетариата и трудовой интеллигенции, посетив однажды римское предместье Остию, где собрался целый срез советского общества: рабочие, служащие, интеллигенты, люди всех профессий и положений этого общества, и спросить их: почему и отчего они бегут на «загнивающий Запад» из страны «процветающего социализма»? Если же их не удовлетворили бы ответы этих «обиженных» советской властью «искателей счастья», они могли бы с тем же вопросом обратиться к обласканным этой властью Ростроповичу, Барышникову, Шевченко, Вишневской, Макаровой, Тарковскому, Любимову, Федосееву, Сахарову, наконец: чем им не по нраву пришлась «страна победившего социализма»?
Только ведь не пойдут и не спросят. Им вполне достаточно информации посла СССР в Италии, партийных товарищей, вроде Пономарева, Загладина, а теперь Добрынина, культурных гастролеров от советской дезинформации вроде Евтушенко. Ибо они прекрасно ведают, что творят, являясь участниками «заговора равнодушных», в котором коммунисты, террористы и радикалы всех мастей прекрасно уживаются с торгашами и капиталистами, церковными иерархами и интеллектуальными снобами, рассуждающими о мировой революции в декольтированных платьях и смокингах на вечерних приемах.
Именно эта среда породила юродствующих мазохистов, вроде Гюнтера Грасса, проводящего параллель между демократией и тоталитаризмом, и выжившего из ума Грэма Грина, заявляющего, что лучше умереть в ГУЛАГе, чем в Калифорнии (честно говоря, я хотел бы, чтобы он осуществил эту свою мечту!).
Именно в этой среде, за спиной у трудящихся идет бойкая торговля их свободой, торговля, в которой западные толстосумы и политические оппортунисты сливаются в едином экстазе с советскими дезинформаторами и заплечных дел мастерами из КГБ. Именно к этой среде более всего применим лозунг: «Равнодушные всех стран, соединяйтесь!»
Именно по этой причине я встречаю к себе на Западе то же самое отношение, что и в Советском Союзе со стороны тех, кто здесь считает себя борцами за социальную справедливость. Приведу один характерный пример из собственного опыта.
Как-то в Германии меня и шахматного гроссмейстера из Чехословакии Людека Пахмана пригласили на встречу с редакцией весьма радикальной газеты «Франкфуртер рундшау». Встреча состоялась в роскошном особняке в Висбадене. Дамы в вечерних платьях, мужчины (кроме меня с Пахманом) в смокингах. Разговоры велись только вокруг темы эксплуатации трудящихся, угнетенных народов «третьего мира» и, разумеется, мировой революции.
Прискучив этой салонной демагогией, я предложил присутствующим пустить «шапку по кругу» в пользу «эксплуатируемых», «угнетенных» и «мировой революции», предложив для начала всю свою наличностью, – пятьсот марок.
Ответом мне было ледяное молчание. Да, они, конечно, против «эксплуатации». Да, без сомнения, они за «угнетенных». Да, бесспорно, они всей душой с «мировой революцией». Но только за чужой счет.
С этой встречи гости-«радикалы» разъезжались на «мерседесах» новейших марок. Пешком оттуда ушли два «реакционера» с Востока: я и Людек Пахман (кстати, бывший коммунист).
Нет, я не против только одной советской системы, я против бесовской тьмы, которая ее порождает, где бы она ни существовала – на Востоке или на Западе. Я плоть от плоти своего класса и его революции, а поэтому для меня лучше не жить вовсе, чем жить с этой тьмой под одним небом или дышать с нею одним воздухом.
1986
«Этих дней не смолкнет слава…»
Не знаю почему, но в памяти у меня сохранилось более или менее внятное воспоминание лишь об одной Октябрьской годовщине, а именно – о двадцатой.
В квартире нашего домоуправа Иткина после демонстрации со всего двора собрали детей дошкольного возраста, и сам хозяин – коренастый старик (во всяком случае, он казался мне тогда стариком, хотя ему не было еще и пятидесяти) – щедрой рукой раздал нам по куску сладкого рулета.
Иткин носил окладистую бороду и шевелюру «а-ля Маркс», что и вправду делало его как две капли воды похожим на коммунистического классика, о чем он явно догадывался и чем, конечно же, гордился.
Был наш домоуправ правоверным большевиком, за идейным уровнем жильцов вверенного ему дома следил с бдительной строгостью, часто бывал понятым при арестах, что не помешало ему пригласить на это ребячье торжество и всех тех пасынков страны, у которых отцы уже успели исчезнуть в прожорливой бездне ежовщины, в том числе и меня.
В самом разгаре пиршества он подошел ко мне, положил мне на голову свою широкую ладонь и, упершись в меня кофейными навыкате глазами, невесело пошутил:
– Терпи, казак, атаманом будешь…
Больше я его никогда не видел. Он исчез чуть ли не в эту же ночь, оставив после себя двух взрослых сыновей и жену Сарру Григорьевну. Не помогли ему ни борода с шевелюрой «а ля Маркс», ни его большевистская твердокаменность.
В теплые дни Сарра Григорьевна непременно сидела во дворе на лавочке, лицом к калитке, вытянув перед собой на коленях тонкие восковые руки. Будто ждала, не веря, не желая верить в горькую очевидность. Она так и состарилась на этой лавочке и ушла в иной мир так же тихо и незаметно, как и жила.
И, здороваясь с ней при встрече, я всегда вспоминал тот сладкий рулет в двадцатую годовщину Октября, но при этом почему-то у меня всегда сводило скулы от горечи…
Спустя два года, в очередную годовщину Октября, я задался целью непременно попасть с демонстрацией на Красную площадь, чтобы, если повезет, своими глазами увидеть самого Сталина.
Под пустяковым предлогом отлучившись в то утро из дому, я долго пристраивался около людских колонн, пока какая-то добрая или хмельная душа не снизошла к моим извилистым попыткам:
– Давай, пацан, дуй к нам в кучу, за своего сойдешь.
От нашей сокольнической окраины до центра не ближний путь, топать пришлось долго, с остановками на больших площадях и при заторах, но усталости я не чувствовал, беспокоясь только об одном: окажется ли вождь на месте, когда пойдет наша очередь продефилировать мимо мавзолея. Ходили слухи, что тот во время демонстраций довольно часто отлучается по различным государственным, а может быть, и личным надобностям.
В тот раз мне повезло: вождь в серой фуражке и шинели того же цвета стоял среди чуть раздвинувшихся в стороны от него соратников и благосклонно покачивал ладошкой перед собой, приветствуя ликующих от восторга трудящихся.
Помнится, во мне тоже восхищенно захватило дух, я как бы впервые приобщился к той могущественной силе, перед которой гроза нашего двора – участковый милиционер Калинин – казался отсюда безобидной и смешной букашкой: «мы рождены, чтоб сказку сделать былью»!
Восторг мой охладил шагавший рядом пожилой мастеровой. Скосив на меня хмельные глаза, он многозначительно кивнул головой в сторону мавзолея:
– Ну, ей-богу, чисто царь!
И только тут я вспомнил, что у меня есть отец, что я не видел его уже шесть лет, а по правде говоря, если бы не фотографии, то и не помнил бы, как он выглядит, и что находится он в эту минуту у самого Охотского моря, в Бухте Нагаева Магаданской области.
А рабочий тот и впрямь напророчил: через несколько лет Сталин окружил себя министрами и генералами, еще через несколько стал генералиссимусом и, не умри он еще через несколько лет, то наверное сделался бы и царем…
Последнее мое воспоминание об Октябрьских праздниках связано с провинцией. Это было в середине пятидесятых. Я жил и работал тогда в Черкесии, что на Ставрополье. Я написал об этом во втором томе моего автобиографического романа «Прощание из ниоткуда»:
«На затянутую красной холстиной деревянную трибуну против Дома советов ровно в десять часов утра степенно, строго по рангу поднималась местная власть. Затем полупьяный лабух из кладбищенского оркестра трубил сигнал «Слушайте все», следом за чем на площадь перед трибуной на пожилой кобыле, одолженной по этому случаю в городской пожарной охране, выезжал облвоенком полковник Галушкин во главе нестроевого воинства престарелых отставников и тюремных надзирателей, за которыми вытягивалось разномастное шествие представителей если не самых широких, то, по убеждению устроителей, самых активных слоев населения.
Руководство, из тех, что помоложе и погорластее, выкрикивало в микрофон лозунги и здравицы, вроде «Привет славным труженикам канатникового завода имени фабрики Первого мая!» или «Животноводам секретного пригородного хозяйства, почтовый ящик номер три, ура!», демонстрирующие трудящиеся нестройно вторили этим призывам, по окончании чего обе стороны, довольные друг другом, растекались по домам, пивным и забегаловкам, чтобы с помощью сивушного ассортимента окончательно закрепить свое праздничное состояние.
И только военком Галушкин долго еще кружил по опустевшей площади на одолженной у пожарников кобыле, командуя вохровцами, разбиравшими начальственную трибуну до следующих торжеств. Щекастое лицо подполковника при этом пылало яростью и вдохновением, что делало его отдаленно похожим на героического фельдмаршала в решающей битве при Бородино».
Вот и все, что я помню об этой торжественной дате. И сколько бы ни старался, больше при всем желании не вспомнить.
1987
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































