Текст книги "Избранное"
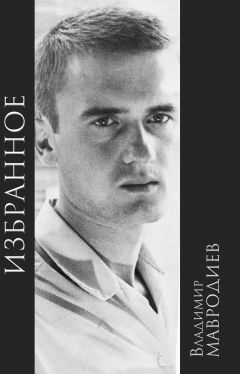
Автор книги: Владимир Мавродиев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Здесь осенью ветер шалеет…»
У вас уже скоро –
на ветках капели качаться,
степям закраснеться тюльпанами,
Волге синеть!
Картавить ручьям!..
В эту пору у нас на Камчатке
метель умирает,
рождается март в круговерть…
Ещё нам не скоро
приметам весны удивляться,
ещё и в июне
на сопках сырые снега.
Как чумы коряков,
над нами вулканы курятся,
пока не закроет их
белой стеною пурга.
Солдатское утро!
Подъём ветерком пронесётся.
Скорей из казармы!
Утихла пурга, и вдали
подводною лодкой
из волн подымается солнце!
И курсом нелёгким
идут в синеве корабли.
Высокие волны,
зелёные, с пеной седою,
о мыс расшибаясь,
в бессилье внезапном хрипят,
и чайки снежками
летают над стылой водою,
на волны садятся,
над бухтой снуют и кричат.
Камчатка.
Граница.
Начало родимой России.
Здесь в серой шинели
зарю мне встречать не одну…
В военном билете
лежит фотография сына,
который на Волге
вторую встречает весну…
1973
Таёнка
Здесь осенью ветер шалеет,
здесь полный ему разворот.
Вокруг ничего не жалеет
и в клочья себя разорвёт
о скалы и острые сучья,
о льды затвердевшей реки.
Висят на вулканах не тучи –
погибшего ветра клочки.
Луна, будто капля, стекает,
за сопку вот-вот упадёт.
Отбой. Городок засыпает.
Блестит отшлифованный лёд.
Привычная глазу картина:
стучат, костенея, кусты,
да, ёжась, промчится машина,
да смена идёт на посты…
1973
«В караулке спим вповалку…»
Стоит – вратами ада,
как вызов всем векам,
дымящейся громадой –
Авачинский вулкан.
Стоит и дышит трудно
под тяжестью снегов.
Сырые тучи трутся
боками об него.
Ну а под ним девчонкой
бежит река – Таёнка,
бежит вдвоём с подружкой,
речушкой Каменушкой.
Течёт, перепадает,
укутана в туман.
Тихонечко впадает
В Великий океан.
Когда через овраги
спешим в учебный бой,
всегда наполним фляги
Таёнкою-рекой.
Иль лагерь встанет быстро,
солдатский, боевой,
бегом к реке –
умыться
прохладой голубой.
Спешит с ведром водитель
к Таёнке сквозь кедрач,
чтоб напоить водицей
усталый свой тягач.
Меж валунов округлых
пологи берега.
Таёнушка, подруга,
солдатская река.
1973
«Запах бочек и канатов…»
В караулке спим вповалку,
отдыху недолгий счёт.
Нас будить сержанту жалко –
«молодой» сержант ещё…
Голос тоненький:
«Подъём!
Смена, по порядку стройся!..»
Неохотно мы встаём,
встанем в срок,
не беспокойся…
Автомат белёс в руках,
на боку тяжёл подсумок.
Там ребята на постах
с ожиданьем смотрят в сумрак.
Гнутся худенькие вязы,
под ногами снег шершав.
Вьюга ноги хитро вяжет,
разводящий,
шире
шаг!..
На посту не до опроса,
только нарушать –
не велено…
Тридцать градусов мороза,
ветер сильный
до умеренного…
1973
Стихи
Запах бочек и канатов,
стынет фляга на боку.
Загорелые солдаты,
грузим сахар и муку.
Со спины – пять потов,
ведь мешки – пять пудов!..
Перекур. «Беломор».
И весёлый разговор:
– Вы, ребята, не устали?
Вы ж, ребята, не из стали…
– Что ты, батя,
три солдата
заменяют экскаватор…
Но мешок – не смешок,
давит спинушку мешок…
Рядом высоченный кран,
выше, может, баобаба.
И в глазах уже туман…
Вдруг:
– В кабине, братцы, баба!..
– Да не баба, а девчонка…
– Смотрит, думает о чём-то…
– А о чём же?..
– О тебе!..
О свиданьях и т. п.
Травим, травим языками,
но не гнёмся под мешками,
молодецкий держим вид:
девушка! на нас! глядит!..
Где туман и где усталость,
где вы, колики в груди?
Эх, еще побыть бы малость…
Да мешков уж не осталось.
А она глядит,
глядит…
1973
Владимиру Голкину
«Устал не думать о тебе…»
В ленкомнате после отбоя
дежурный мне сесть разрешил.
Сказал: «Раз уж дело такое,
садись и тихонько пиши».
И я там почти до рассвета,
уткнувшись в листочки свои,
под видом статьи в стенгазету
стихи сочинял. О любви!
Из окон заснеженных дуло,
гудела привычно пурга,
но скрип крепко сбитого стула
меня отвлекал и пугал.
Писал я о Волге и счастье,
в грядущие веря года.
«Приснись мне», –
к тебе обращался.
Но ты мне не снилась тогда.
Писал я про образ заветный,
про губы, что так далеки…
Под утро уснул незаметно,
упав головой на листки.
Мне снились
блестящие рельсы
и мокрый от снега перрон,
уральские узкие реки,
летящий сквозь мост эшелон!
Закаты, как будто пожары,
холмы освещали, слепя…
В который уж раз уезжал я,
во сне – уезжал от тебя.
Я спал… Сочинённые в спешке
стихи
я придавливал лбом,
пока мне дежурный с усмешкой
не гаркнул над ухом: «Подъём!»
1974
«О скалы рискуя разбиться…»
Устал не думать о тебе
в снегах, тревогах, суете…
А ты в далёкой тишине,
ты – обо мне?
Ждёшь ночь.
Но, северная, злая,
меня на койку полночь свалит
и сном усталым оглушит…
Ты письма длинные пиши,
пусть от меня коротких мало.
Все – без обмана…
Метели бесятся, рычат,
ломая копья
в кедрачах.
Аэродром завален снегом.
Телеэкран – и тот зачах,
уступчивый помехам.
Окно царапают кусты,
вернее, белые ледышки.
А сердце
приглушённо дышит
во сне: «А ты, а ты, а ты?..»
А ты, любимая, о чём
мечтаешь в сумраке ночном?
Январь на Волге –
чудо просто:
не разберёшь –
снежинки, звёзды? –
летят, сверкая, за окном!
И парк у Волги тих и бел…
Устал не думать о тебе…
1974
«Поправив горские усы…»
О скалы рискуя разбиться,
в холодном тумане кружа,
кричит одинокая птица,
печальная птичья душа.
Не знаем – от стаи отбилась?
Гнездо ль потеряла своё?
Сырая палатка в ложбине –
недолгое наше жильё.
Нам надо уснуть, но не спится
в короткой солдатской ночи:
взывает о помощи птица,
не верит, рыдает, кричит!..
В шинели ищу сигареты,
на берег бессонный иду,
где злые камчатские ветры
шлифуют каменьев гряду.
Умолкла… Иль в бухту упала?
Неведома птичья судьба.
Обычное дело – пропала,
коль в чем оказалась слаба.
Костёр разжигаем погреться,
молчим, засыпая на миг.
И тает ледышка на сердце –
тот птичий беспомощный крик…
1974
Шинель
Поправив горские усы,
нам военком сказал нечинно:
«Уходят в армию юнцы,
а возвращаются мужчины».
Солдатский быт был прост и строг.
Завидный утром блеск сапог!
Но к вечеру – они в пыли,
немало за день мы прошли…
Сначала этот быт страшил.
Казался жёстким взгляд старшин,
коль вдруг «волна» на одеяле.
И мы навытяжку стояли,
с укором глядя на кровать,
и шли… весь вечер снег кидать.
Но на ученьях, в карауле
ветра нас хорошо продули,
суля нелегкое житьё.
Они из нас
солдат ваяли,
сердца и лица закаляли.
И дело сделали своё.
Нас научили не сдаваться,
снарядов свиста не пугаться,
идти на пост через пургу.
И все невзгоды и лишенья
свой смысл имели и значенье,
не нам вредили, а… врагу!
Дни армии не пролетели –
прошли. Запомнились навек.
Ведь были не одни метели,
а много раз – тишайший снег…
Вечерней медленной порой
была гитара нам сестрой.
Плыл по казарме говор струн,
и был сержант влюблён и юн…
Но было так: «Подъём!.. Тревога!..»
Металась, плавилась дорога,
когда в разбуженной ночи,
дрожа,
ревели тягачи!..
И мы ныряли в них – бойцы! –
на лбах внезапные морщины –
ещё, наверно, не мужчины,
уже, конечно, не юнцы.
1974
«Плеснув солярки на дрова…»
Полёт надолго отложили,
и мы уж больше не спешили,
скамью искали иль ступеньку,
чтоб отоспаться хорошенько.
Хабаровский аэропорт!
Сырого воздуха смятенье!
И на полу,
и на ступенях
стоял, сидел, лежал
народ!
С Анадыря оленеводы,
из Усть-Камчатска моряки,
геологи и рыбаки
кляли нелётную погоду.
Я где стоял, там и прилёг…
Под головою вещмешок,
а сверху я шинель набросил.
Но за окном металась осень,
и зябко от дверей тянуло
меж чемоданов и баулов.
Как я жалел часок спустя,
что с легкомыслием повесы
я, все уставы обойдя,
шинель так коротко обрезал…
Её натягивал на нос –
в штанины дуло, снова мёрз.
А если ноги укрывал,
то холодела голова.
Упёрлась чья-то в бок нога,
и ветер в щелях пел устало.
Ворочаясь, я постигал
премудрость строгого устава…
1974
Письма
Плеснув солярки на дрова
и сапоги к костру подвинув,
«Какая, братцы, здесь трава… –
он нам твердил. – Ну просто диво!
Послушай, напиши стихи,
я говорю не ради шутки.
Я измерял – здесь лопухи
растут на пол-ладони в сутки!
Такое б в наши степи… Мы
тогда бы век не куковали,
последних былок не считали
в сусеках мачехи-зимы…»
Он утром раньше всех вставал,
шёл за водой, росу сшибая.
Ему до бляхи доставая,
искрилась свежая трава!
Он штык-ножом её срезал,
жалея, что нельзя иначе,
таскал охапки, напевал,
постель устраивал помягче
и говорил: «Вот, на, прочти,
опять там сушь, жара с апреля,
а тут проклятые дожди
не умолкают три недели…»
Под вечер, возвратясь со стрельб,
мы в угол вещмешки бросали,
дрова промокшие кромсали,
на кухне получали хлеб.
Бодрили ужином себя,
поев, склонялись над листками.
Стихал в палатках шум. Лишь капли
на печку падали, шипя.
Трещал кедрач, темнела ночь…
А парень тот, из-под Ростова,
ругал привычно долгий дождь
и восхищался травостоем.
1974
«Апрельский черный снег…»
Он ей писал два года
с далёких берегов,
где ни села, ни города –
застава средь снегов.
Где в службе пограничной
под вьюги завытьё
являлись жизнью личной
лишь письма от неё.
Над бухтой, что подковой
надолго вмерзла в лёд,
как голубок почтовый,
кружился вертолёт!..
Она писала мало,
боясь настырной быть,
но всё же обещала
дождаться да любить…
А он писал почаще –
разлука нелегка!
На будущее счастье
неловко намекал.
В календаре карманном
зачёркивал деньки…
…Шли письма и от мамы –
тетрадные листки.
Он их читал, конечно,
и отвечал всегда.
но, перед ней не грешен,
не те он письма ждал…
Когда же издалече –
начищенный, лихой! –
к любимой в зимний вечер
он прилетел,
то встреча
была совсем не той…
Он шёл домой средь говора,
через огни и смех,
клочками писем порванных
летел навстречу снег.
Не дал он телеграмму.
Вот дом.
И свет горит.
Письмо писала мама…
Расплакалась навзрыд.
1974
Прощание с Камчаткой
Апрельский черный снег.
По грудь в снегу берёзки.
Вороны. Пар от рек.
Домишек вид неброский.
Пятнистые холмы,
размытые дороги.
У нас промокли ноги,
но всё ж смеемся мы!
Весна, теплынь, мечта!
Пора и нам погреться.
Пусть, как ледник с хребта,
зима сползает с сердца!
На тёплый свет проникли
упрямые ростки,
упругие травинки –
зелёные клинки!
Дымит далёкий кратер,
на весь он виден край.
Звучит – и очень кстати! –
команда «Запевай!..»
Шагает рота в ногу,
крошит размякший лёд.
И песня – про дорогу
и что девчонка ждёт.
И я,
как тёплый дождик,
глотками пью весну,
крючок, кадык истёрший,
невольно отстегнув!..
1974
Капитану А. Ф. Аксёнову
На прощанье – чарку…
Весь в снегу причал.
Дальняя Камчатка,
близкая, прощай.
Край сырого неба,
берег – рыбака,
голубого снега,
чёрного песка.
Край ветров колючих
средь болот, камней…
И деньков горючих,
и хороших дней.
Сняли автоматы,
едем из полка.
Всё, что нам дала ты,
не понять пока.
Мне теперь от сизых
сопок и морей
через всю Россию –
к реченьке моей.
Месяц – жёлтой рыбой,
льёт свою печаль…
И за всё – спасибо.
И теперь – прощай.
1974
Семнадцать лет
За ландышами!..
Мимо теплоходов
на катерке
в зелёный дым леска –
летим!..
Свисая за борт в воду,
упругость Волги пробует рука.
В кино мы познакомились вчера.
В твоих ладонях три тюльпана никнут.
Мы молоды!
Мы вымокли до нитки
от брызг весенней Волги.
И ура!
Ещё немного, и в проран свернём,
в проран Любви –
названье это лучше,
хоть рыбаки его назвали Щучьим, –
и тоже верно: каждому своё…
В воде по пояс мокнут дерева,
они разбухли от апрельских соков!
Потоками оттаявшего солнца
затоплены в окрестье острова!
А вот и берег.
Прыгаем в песок.
На цепь сажаю катерок вертлявый.
А ты – в моей куртёшечке линялой –
бежишь, смеёшься, прячешься в лесок…
Не отыскать твоих следов в траве.
Свежо душе от ветра в голове!..
1974
Электричка
Татьяне Батуриной
Момент прощания с тоской.
Вновь по утрам моим привычно
зелёной шумною строкой
в стихи влетает электричка!
Прощай, прокуренная грусть
ночных часов в кухнёшке тесной.
Неси, строка моя и песня,
колёс упругих стук и груз.
Дождём, в окно влетевшим, пахнет
и краской от газеты «Труд».
А в тамбуре смеются парни,
девчонок под руки берут.
И, душу мне тряхнув покрепче,
загрохотав и засверкав,
вдруг налетит составом встречным
необходимая строка!
А на платформе «Заводской»
из электрички – выселенье.
Момент прощания с тоской,
рождения стихотворенья.
Тверда платформа, сыровата.
Стук каблуков. Гудка басок.
И, от дождя чуть синеваты,
впадают
рельсы
в горизонт.
1975
Голуби в цехе
Ивану Саране
Чумазые, живут на верхотуре,
слетая вниз за кормом в перерыв,
снуют привычно в грохоте и гуле,
про мир другой надёжно позабыв.
Лишь только потолки осветит солнце
и в лад станки внизу заголосят,
они с карнизов шмыганут в оконца,
пожмурятся на воле – и назад.
Покажется собратьям, просто страх –
житьё такое: в копоти и гаме.
Но лучше ль суетиться под ногами,
на городских жирея площадях?
То тут, то там они – как дети дыма…
В воздуховодах греются, в углах.
И никому на ум не приходило
прогнать из цеха этих бедолаг.
Напротив – не обидят даже словом.
Традиция давно заведена:
то корочку захватят из столовой,
то из дому, глядишь, кулёк зерна.
Живут-коптятся… Но тому и рады,
познав закон неброской доброты.
Зовут не «гули-гули» – «чертенята»…
И те, шурша, слетают с высоты!
1975
Розы у проходной
Анатолию Черкасову
Там, где бетонные колоссы
весь день вбирали жёлтый зной,
в субботник высадили розы
напротив шумной проходной.
С завода ветер был неласков…
Но, замедляя ход шагов,
мы по утрам дивились краскам
и стойкой нежности цветов…
На них не выпадали росы,
не суетились там шмели.
Но мы любили наши розы
и сберегали, как могли.
Добрели от такой заботы.
Соединяли те цветы
с угрюмой тяжестью завода
внезапный лучик красоты.
1975
«Дом Павлова – мой самый первый дом…»
Дом Павлова – мой самый первый дом.
Я как-то раньше не писал о том.
Но там, где серый снег лежал до мая,
где ночью, кроме звёзд, ни огонька,
я часто вспоминал, как, поднимая
со дна алмазы,
искрами играя,
течёт, как жизнь, родимая река…
И, много повидав в разлуке долгой,
я понимал окрепшею душой:
как без ручья не быть великой Волге,
так нет без малой родины – большой.
И забывались мелкие обиды,
когда мой город снился до зари,
где улицы цветами перевиты,
где в скверах синих, тишиной набитых,
искрятся мотыльками фонари…
Где я живу, людским добром согретый,
где холодею, встретившись со злом…
Где я рождён послевоенным летом,
Дом Павлова – мой самый первый дом.
1975
Песня
Отсверкала пора соловьиная,
роща знобкие листья просеяла.
Запылали осина с рябиною,
как в последних стихах у Есенина…
От Оки кони тянутся парами,
жеребята бегут – красногривые…
У дороги берёзы две старые
всё Есенина ждут, сиротливые.
Да не едет скиталец на родину
ни с дождями, ни с солнцем,
ни с вьюгою.
Не тряхнёт молодую черёмуху,
не обнимется с ивой-подругою.
Но высокими вечными вёрстами
от Кавказа до дальнего севера
по России рассыпано звёздами
драгоценное сердце Есенина…
1975
У памятника Сергею Есенину в Рязанском кремле
Церковь Спаса на Яру –
как берёза поутру!
Ясно маковок макушки
серебрятся на ветру.
Май заговорил стихами,
и на свежие листы
солнце сочное стекает
с соколиной высоты!
Здесь поймёшь, навек полюбишь,
будто светлую строку,
малую речушку Трубеж
и широкую Оку.
Как и он – раскинешь руки,
глядя молодо окрест
на ручьёвые излуки,
на заокский синий лес!
Сторона его лесная,
ты кому не дорога?
«Гой ты, Русь моя родная!» –
над землёй звенит строка!
Нет, не ставьте –
так просил он –
памятник. И потому
наша преданность России –
вечный памятник ему.
1975
«Скрипнут уключины в сонной тиши…»
Скрипнут уключины в сонной тиши,
мокрый песок –
холодком под ногами.
Бакен-бобыль одиноко моргает,
и над обрывом осокорь шуршит…
Стёганку выну из лодки – накинь.
Нам никуда торопиться не надо.
Как хорошо – суете вопреки
сердце омоет речная прохлада.
Камень сырой нелюдим и скуласт,
гладят бока его, хлюпая, волны.
Как хорошо, что сегодня для нас
давним, забытым пахнула вдруг Волга!
Всё я запомню и всё сберегу.
И, уезжая, скажу на прощанье:
мне никакого не надобно счастья –
только бы жить на твоём берегу.
Плавает месяц в затоне, остёр.
Летний простор звездопадом омылся!..
На локотке неширокого мыса
каплей дрожит, затухая, костёр.
1975
«Тепла у погоды не просим…»
Тепла у погоды не просим:
обмёрзшие ветры в лицо.
Кончается ясная осень,
как сказка с печальным концом.
И тает – постой же!.. – но тает
последняя зелень травы.
Как вдох, над землей замирает
холодная высь синевы.
Проплыли пролётные птицы,
и хочется в эти деньки
не умничать, не суетиться,
а просто стоять у реки.
А просто – пойти по аллее,
где завтра задует пурга,
где клёны стоят, как олени,
подняв золотые рога.
И ждать первый снег,
словно друга, –
душа обновилась вполне:
и злоба, и зависть, и мука
сгорели в осеннем огне.
1975
«Грузовик, как обвал, прогрохочет…»
Грузовик, как обвал, прогрохочет
мимо окон и канет вдали…
Хороши эти тёмные ночи,
эти белые руки твои.
В ноябре, безутешном на редкость,
ждём, печалимся молча, пока
засверкают алмазной нарезкой,
засинеются стёкла окна.
И тогда – душ смиренных светанье,
и неправда, что это прошло,
осторожно несём на свиданье
притаённое наше тепло…
Виноватых искать нам не надо,
что в чужой, не в моей ты судьбе.
Мне и мука такая – награда,
если он не забылся тебе,
тот декабрь. Всё ты помнишь: морозы,
ветер волчий берёзки терзал,
от чего неподдельные слёзы
на твоих выступали глазах.
Ни о чём ты тогда не гадала,
не твердила о долгой любви.
Неумело меня целовала,
но порыв пролетал по крови!..
Наша юность – сокровище, сказка…
А обиды… теперь уж не в счёт.
Пусть заря, пусть звезда та погасла,
только свет все идёт и идёт…
Ах, желанные тёмные ночи!..
В синей юности чувств не спали́ –
так и жизнь, как обвал, прогрохочет
мимо счастья. И канет вдали…
1975
«Не осуждай судьбу, она права…»
Не осуждай судьбу, она права.
Пускай бывало нелегко нам в прошлом,
но год один, что нами трудно прожит,
я не сменяю на грядущих два.
Когда закат растает на воде,
привычно ожиданием натешься:
ведь через миг родится новый день.
А он всегда – и счастье, и надежда.
1975
«Обижал да редко извинялся…»
Обижал да редко извинялся.
Все цветы глушила лебеда…
Оттого в любви не признавался,
в верности не клялся никогда.
Хлопнув дверью из дому бежал!
Еле слышно возвращался в дом…
Над тобой всю жизнь моя душа
кружится, как птица над гнездом.
1975
Деревья деда
Дождь внезапный стекает по веткам,
в Доме творчества тихо шурша.
Те деревья, которым полвека,
дед Степан мой когда-то сажал.
Мял сухую он землю в ладонях,
полегоньку на корни крошил.
Молчаливый болгарин-садовник,
киммерийских краёв старожил.
Недоверчивым был от природы:
сыновей помогать не просил.
Из колодца неблизкого воду
в тяжких вёдрах подолгу носил.
Дело сделав, раскуривал долго
самодельную трубку свою.
И стоял возле деревцев тонких,
здесь, быть может, где я вот стою.
Где мой сын, мой пострел сероглазый,
загорелый сорви-голова,
все деревья давно уж облазил,
все орехи давно оборвал.
Вот опять он по крыше беседки
лезет вверх в голубом ветерке
и качается, жмурясь, на ветке,
как на прадеда сильной руке.
1976
Разговор с Сердоликовой бухтой
Сердоликовая бухта,
грустновата ты как будто.
Сто веков была пустынна,
до тебя добраться – блажь.
А теперь и глянуть стыдно,
а теперь –
обычный пляж…
Раньше смельчаки ходили
в этот дикий край земли.
Но –
причал соорудили,
экскурсантов навезли…
И тебе ль глядеть приятно:
тяжела и необхватна,
в море выпятив живот,
окунувшись троекратно,
тётя персики жуёт…
Бухта,
дочка Карадага,
побережья дивный грот,
посмотри – волна, как брага!
Посмотри – прибой идёт!
Пенист мыс на острие,
шумно волны камни крошат!
Теплоходиков приезд
и экскурсии отложат.
Карадаг глядит шаманом…
Бухта алая, проснись!
Одиночеством желанным,
штормом чёрным насладись!..
1976
Жажда
В июле на взгорьях
желтеет лоза…
Скупая роса.
Не роса, а слеза…
Угрюм водоём,
высыхает дотла:
дождя!..
Горячие баки с водой привозной,
течёт, будто лава,
долиною зной.
И пыль над садами –
засохнут сады!..
И роща седая
на небо глядит:
воды!..
На пляжах в разгаре
купальный сезон:
обильное солнце
и чист горизонт.
А жёлтое поле –
огромное горе,
над полем гора, как кадык.
И рядышком – море,
красивое море,
бездонное море
никчёмной воды…
1976
«Пахнут розами крымские ночи…»
Пахнут розами крымские ночи.
Прикоснись к лепесткам – не сорви.
И цикады все ночи бормочут,
как у нас соловьи, о любви.
Успокоился ветер-бродяга
и улёгся, вздохнув, средь камней.
Чёрной тучей гряда Карадага
нависает над горсткой огней.
Я у моря гуляю подолгу
и в прохладной густой тишине
вспоминаю июльскую Волгу,
всё к морской не привыкну волне.
Одиночество хуже простуды…
И, как будто моя в том вина,
у нескладной курносенькой Люды
я спрошу: «Почему ты одна?
Может, взять на концерт два билета?»
Улыбнётся: «И так хорошо…»
Штиль на бухте лежит до рассвета,
как широкий серебряный шёлк.
Не слыхать пароходные гуды,
темнота вяжет сети свои…
…Пахнут розами губы у Люды.
Прикоснись к лепесткам,
не сорви…
1976
«Нынче себя я умерю…»
Нынче себя я умерю,
сердцу внушу: всё равно.
Сдерживать слезы уменью
я обучился давно…
Помнится первое горе,
мало тогда понимал.
Глины кладбищенской комья
с детских ботинок счищал.
Слёзы. Худые деревья.
Памятник чёрный, как грач.
Тётки вздыхали, жалели:
«Душу облегчи, поплачь…»
Всё мне казалось неправдой.
Шапку в руке я держал.
Тёток не слушал, не плакал.
Не понимал – где душа.
После уж я забывался,
слёзы не в силах сдержать.
Плача, в кровать забивался,
чтоб не услышала мать.
И, засыпая под утро,
знал уж теперь, где душа…
Истинных бед не придумать,
искренних слёз не сдержать…
1976
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































