Текст книги "Пестрые сказки. Рассказы"
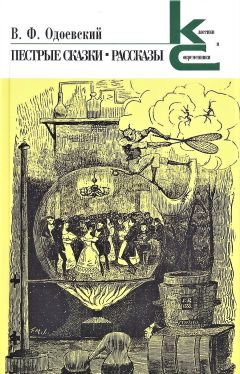
Автор книги: Владимир Одоевский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
V. Игоша
Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я; вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал – все нет никого. «Нянюшка! нянюшка! ¿кто дверь отворил?»
– Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко! Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.
¿ «Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?»
– Ну да так, известно, что, – отвечала нянюшка, – безрукий, безногий. – Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится, тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий – и как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.
Радость! веселье! прыгаю! любуюсь игрушками! А нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.
Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки лопались, – говорил он, – а не постромки, так кучер то и дело что кнут свой теряет; а не то пристяжная ногу зашибет, беда, да и только! хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал: ¿не от Игоши ли?»
– ¿ От какого Игоши? – спросила его маменька.
«Да вот послушай, – на завражке я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться: в избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат…
¿ «Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы?» – спросил я.
– Товарищу не товарищу, – отвечали они, – а такому молодцу, который обид не любит.
¿ «Да кто же он такой?» – спросил я.
– Да Игоша, барин.
«Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать».
– А вот послушайте, барин, – отвечал мне один из них, – летось у земляка-то родился сынок, такой хворенький, Бог с ним, без ручек, без ножек, в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему… впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох повыбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет – мало ли что бывает.
«И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас, – сказал я, – отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет, я ему, пожалуй, и харчевые назначу».
«Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покатился: не отъехали версты – шлея соскочила, потом постромки оборвались, а наконец оглобля пополам, – целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался».
Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали, – у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот, я смотрю – няня на ту минуту вышла, – вдруг дверь отворилась; я, по своему обыкновению, хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Смотрю, маленький человечек – прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: и фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса, – я взвыл и закричал благим матом: «Что ты за негодный мальчишка! – зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыдень! да что еще мне от нянюшки достанется! говори – ¿зачем ты сронил игрушки?»
– А вот зачем, – отвечал он тоненьким голоском, – затем, – прибавил он густым басом, – что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне, маленькому, – заговорил он снова тоненьким голоском, – ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.
«Ах, жалкенький! – сказал я сначала, но потом, одумавшись: да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет; ¿на что тебе валежки?»
– А вот на что, – сказал он басом, – что ты вот видишь, твои игрушки вдребезгах, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки».
Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил; а нянюшка на меня: «Ах, ты, проказник, сударь! ¿зачем изволил игрушки сронить? Вот ужо тебя маминька…»
– Нянюшка! не я уронил игрушки, право, не я, это Игоша…
«Какой Игоша, сударь – еще изволишь выдумывать».
– Безрукий, безногий, нянюшка.
На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все, как было, он расхохотался. – «Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше».
Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.
«Добрый ты мальчик, – сказал он мне тоненьким голоском, – спасибо за валежки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!» – И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахару, – и опять за салфетку и опять ну тянуть.
«Игоша! Игоша! – закричал я, – погоди, не роняй – хорошо, мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?»
– А вот что, – сказал он густым басом, – я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому, – прибавил он тоненьким голоском, – и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь… – И с сими словами Игоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился…
Вошла нянюшка, опять меня журит; я на Игошу, она на меня.
«Батюшка, безногий сапогов просит», – закричал я, когда вошел батюшка.
– Нет, шалун, – сказал батюшка, – раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.
«Не бось, не бось, – шептал мне кто-то на ухо, – я уже тебя не выдам».
В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутился на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.
Батюшка рассердился. ¿ «Так ты еще не слушаться? – сказал он. – Сейчас в угол и ни с места».
– Батюшка, это не я… это Игоша толкается.
«Что ты за вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу».
Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу – я захохочу; Игоша для батюшки был невидим – и батюшка пуще рассердился.
«Постой, – сказал он, – увидим, как тебя Игоша будет отталкивать», – и с сими словами привязал мне руки к стулу.
А Игоша не дремлет: он ко мне и ну зубами тянуть за узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут – и я снова очутился на ковре между игрушек, посредине комнаты.
Плохо бы мне было, если бы тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра сверх того меня запрут одного в пустую комнату.
Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за окошко, проговоря вполголоса: «Вот тебе, Игоша».
– Спасибо! – отвечал мне со двора тоненький голосок.
Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, – и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.
Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.
«Посмотрим, – сказал батюшка, – что здесь разобьет Игоша!» – и с этими словами запер двери.
Но едва он прошел несколько шагов, как рама выскочила, и Игоша с ботинкой на голове запрыгал у меня по комнате. «Спасибо! Спасибо! – закричал он пискляво, – вот какую я себе славную шапку сшил!»
– Ах, Игоша! не стыдно тебе! Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, – а ты меня только в беды вводишь!
«Ах, ты, неблагодарный, – закричал Игоша густым басом, – я ли тебе не служу, – прибавил он тоненьким голоском, – я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди самое неблагодарное творение! Прощай же брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города Немец, доктор, попробую ему послужить; я уж и так ему стклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину – посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее…»
С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.
VI. Просто сказка
Геллер[54]54
Геллер – Геллер Альбрехт фон (1708–1777) – швейцарский естествоиспытатель, врач и поэт, почетный иностранный член Петербургской Академии наук (1776).
[Закрыть] прежде меня заметил, что в ту минуту, когда мы засыпаем, но еще не совершенно заснули, все, что для нас было легким очерком, получает образ полный и определенный.
Лысый Балтер опустил перо в чернильницу и заснул. В ту же минуту тысячи голосов заговорили в его комнате. Балтер хочет вынуть перо, но тщетно – перо прицепилось к краям чернильницы; в досаде он схватывает его обеими руками – все тщетно: перо упорствует, извивается между пальцами, словно змея, растет и получает какую-то сердитую физиогномию. Вот из узкого отверстия слышится жалостный стон, похожий то на кваканье лягушки, то на плач младенца. «¿Зачем ты вытягиваешь из меня душу? – говорил один голос, – она так же, как твоя, бессмертна, свободна и способна страдать». «Мне душно, – говорил другой голос, – ты сжимаешь мои ребра, ты точишь плоть мою – я живу и страдаю».
Между тем дверь отворилась, и Волтеровские кресла, изгибая спинку и медленно передвигая ножками, вступали в комнату, и на Волтеровских креслах сидел, надувшись, колпак, он морщился, кисть становилась ежом на его теме, и он произнес следующие слова: «Ру, ру, ру! Храп, храп, храп! Усха, усха, усха! Молчите, слабоумные! Отвечайте мне: услыхали ли вы о вязальных спицах? Ваш мелкий ум постигал ли когда-нибудь чулочную петлю? В ней начало вещей и пучина премудрости, глубокомысленные нити зародили петлю, петлю создали спицы, спицы с петлею создали колпак, венец природы и искусства, альфа и омега вселенной, лебединая песнь чулочного мастера. Здесь таинство! Все для колпака, все колпак, и ничего нет вне колпака!»
Перо взъерошилось, чернилица зашаталась и хотела уже брызнуть на колпак своею черною кровию. Горе было бы колпаку, если б в самое то время не раздалось по комнате: «Шуст, шуст, клап, шуст, шуст клал», – и красная с пуговкой туфля, кокетствуя и вертясь на каблуке, не прихлопнула крышечку чернильницы. – Чернильница принуждена была выпустить перо, а перо без его души, как мертвое, упало на стол и засохло с досады.
«Ру, ру, ру, моя красавица, скажи: ¿какой чулочный мастер мог создать такое чудо природы, такую красоту неописанную?»
– Шуст, шуст клап, – отвечала туфля, – меня создал не чулочный мастер, а тот, кто превыше чулочного мира, кто топчет чулки, от кого прячутся башмаки и самые высокие ботфорты трепещут, меня создал сапожник!
«Как, – возразил колпак, – ¿кто-нибудь, кроме чулочного мастера, мог так искусно выгнуть твою шкурку, так ловко спустить твою пятку? – храп, храп, храп! Позвольте мне вам сделать вопрос, может быть, нескромный: ¿на скольких петлях вас вязали?»
«Несчастный! какой туман затмевает твой рассудок! неужели ты, подобно перьям, чернилице, стульям и всем бессмысленным тварям, никогда не знавшим шила и колодки, неужели, подобно им, ты не признаешь великого сапожника? ¿Неужели спицы не дали тебе понятия о чем-то высшем, о том, без чего не могли бы существовать ни башмаки, ни калоши, ни самые ботфорты, чего нельзя утаить и в самом мелко связанном мешке, шуст, шуст клап! и что называют – шилом?»
Колпак смутился и побледнел, петли находились в судорожном движении и шептали между собою: ¿«Што там туфля шушукает про сапожного мастера? ¿Што за штука? ¿Неужли он больше чулочного?»
Между тем туфля, сверкая блестящею пуговкою, вспрыгнула на кресла, нагнула носик колпачной шишечки и, нежно затрагивая его каблучком, говорила ему с ласкою: «Храпушка, храпушка! шуст, шуст клап, шуст, шуст клап! Обратись к нам, у нас хорошо, у нас небо сафьянное, у нас солнце пуговка, у нас месяц шишечкой, у нас звезды гвоздики, у нас жизнь сыромятная, в ваксе по горло, щетки не считаны…»
Не совсем понимал ее колпак, однако догадывался, что в словах туфли есть что-то высокое и таинственное. Еще долго говорили они, долго нежный лепет туфли сливался с руку-каньем колпака, миловидность ее докончило то, чего не могло бы сделать одно красноречие, и колпак, прикрывая туфлю своею кисточкою, поплелся за нею, нежно припевая: «Храп, храп, храп, ру, ру, ру».
«¿Куда ведут тебя, бедный колпак?» – закричала ему мыльница. – ¿Зачем веришь своей предательнице? Не душистое мыло ты найдешь у нее, там ходят грубые щетки, и не розовая вода, а каплет черная вакса! Воротись, пока еще время, а после – не отмыть мне тебя».
Но колпак ничего не слыхал, он лишь вслушивался в шушуканье туфли и следовал за ней, как младенец за нянькою.
Пришли. Смотрят. Мудрено. На огромной колодке торчало шило, концы купались в вару, рядами стояли башмаки, сапоги всех званий и возрастов, смазные, с отворотами, калоши волочились за ботинками и почтительно кланялись ботфортам, занимавшим первые места, и между тем огромные щетки потчивали гостей ваксою!
Величественна была эта картина! Она поразила колпак; все, что ни воображал когда-либо нитяной мозг его, не могло сравниться с сим зрелищем, и он невольно наклонил свою кисточку. Одни петли заметили, что все ботфорты и большая часть сапог были пьяны, тщетно докладывали они о том колпаку, колпак в пылу своих восторгов не верил ничему и называл предусмотрительное шушуканье петель пустыми прицепками.
Между тем туфля не дремала, она быстро подвела колпак к колодке, колпак, встревоженный, вне себя от восторга, думал, что наконец близка минута его соединения с прекрасною туфлею… как вдруг колодка зашевелилась, ботфорты затопали, калоши застучали, каблуки затопали, туфля захлопала, бешеное шило вертелось и кричало между толпою и чугунный молоток сглупу хлопнул от радости по толстому брюху бутыли, реки ваксы полились на бедный колпак… где ты, прежняя белизна колпака? Щде его чистота и невинность? Щде то сладкое время, когда, бывало, колпак выходил из корыта, как Кипреида из морской пены[56]56
…как Кипреида из мороской пены… – Киприда – Афродита.
[Закрыть], и солнце, отражаясь на огромной лысине Балтера, улыбалось ему? Вспомнил он слова мыльницы! Несчетный ряд воспоминаний пробудился в душе колпака, угрызение совести толстыми спицами кололо его внутренность; он почувствовал весь ужас своего положения, всю легкомысленность своего поступка, он узрел пагубные следствия своей опрометчивой доверенности к ветреной туфле, опрометью бросился он к корыту. «Щелок спасет меня! – думал он. – Мыло! Корыто! Заклинаю вас! Поспешите ко мне на помощь, омойте меня от бесчестия, пока не проснулся наш Валтер…»
Но колпак остался невымытым, потому что в эту минуту Валтер проснулся…
VII. Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту
«Как, сударыня! вы уже хотите оставить нас?
С позволения вашего попровожу вас». – «Нет, не хочу, чтоб такой учтивый господин потрудился для меня». – «Изволите шутить, сударыня».
Manuel pour la conversation par madame de Genlis, p. 375. Русское отделение
Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, ни больше, ни меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастию, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но все-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырем; таков уже у нас обычай: девушка умрет со скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастия быть ей братом, дядюшкой или еще более завидного счастия – восьмидесяти лет от рода; ибо «¿что скажут маменьки?» Уж эти мне маменьки! когда нибудь доберусь я до них! я выведу на свежую воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплен! Мешаются не в свое дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам то и по сердцу! Погодите! я вас!
Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но подходить к ним никто не подходил – ¿да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька – страшно!
Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску! сквозь окошки светятся парообразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льется водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, поворотилась и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и, наконец, вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались – да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продает, хвалит и бранит, и деньги берет и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами: то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть все, что кругом делается; то блонду[57]57
Блонда – шелковые кружева.
[Закрыть], которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки, то перья, сплетенные из пчелиной шерстки, то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, поворотили налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но, по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырех), наши маменьки умели считать только до десяти: не мудрено же, что они обочлись и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.
Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; все с нее долой: и шляпку, и башмаки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.
Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с нее срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел ее на столбик; потом он так же осторожно срезал тисненые цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась еще шляпка; потом еще раз – и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом еще – и вышла пятая шляпка простенькая; потом еще, еще – и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платьицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклал в картон с иностранными клеймами… и все это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.
– Не плачь, красавица, – приговаривал он изломанным русским языком, – не плачь! тебе же годится на приданое!
Когда он окончил свою работу, тогда прибавил:
– Теперь и твоя очередь, красавица!
С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов, все колокольчики зазвенели, все органы заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовою водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.
– Горе! – вскричал чародей.
– Да, горе! – отвечала безмозглая французская голова, – пудра вышла из моды!
– Не в том дело, – проворчал английский живот, – меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают.
– Еще хуже, – просопел немецкий нос, – на меня верхом садятся, да еще пришпоривают.
– Все не то! – возразил чародей, – все не то! еще хуже; русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно – и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.
– Горе! горе! – закричали в один голос все басурмане.
– Надобно для них выдумать новую шляпку, – говорила голова.
– Внушить им правила нашей нравственности, – толковал живот.
– Выдать их замуж за нашего брата, – твердил чуткий нос.
– Все это хорошо! – отвечал чародей, – да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе новое лекарство; надобно подняться на хитрости!
Думал, долго думал чародей, наконец махнул еще рукою, и пред собранием явился треножник, мариина баня[58]58
Мариина баня – кастрюля для приготовления чего-либо на пару, кастрюля в специальном чехле.
[Закрыть]
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































