Текст книги "На шаткой плахе"
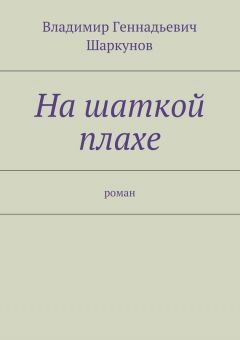
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
На шаткой плахе
Роман
Владимир Геннадьевич Шаркунов
© Владимир Геннадьевич Шаркунов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Аннотация
Герой повествования, попав в места не столь отдалённые, не желает мириться с теми методами перевоспитания для заключённых, которые навязывает ему администрация колонии. За что он неоднократно будет водворяться в ШИЗО и БУР (барак усиленного режима). Но эта мера воздействия лишь пуще разжигает у героя ненависть к зоновскому режиму.
В конце концов, у хозяина колонии терпение лопается, и он избавляется от коленонепреклонного зэка, подведя его под суд, который и определил злостному нарушителю режима содержания меру наказания: на оставшиеся три года срока осужденный переводится в СТ-2 (крытка).
У героя, конечно, репутация самая, что не наесть, отрицательная. Среди братвы он пользуется уважением. Однако, никто из его «ордена» даже и не подозревает, что их сотоварищ не собирается посвящать свою жизнь этому прогнившему, как фурункул, миру. Ему часто снится та, другая, счастливая жизнь, из которой его вырвала когтистая рука подлой фортуны. И прежде чем он обнимет самого любимого, самого родного человека, ему ещё предстоит пройти по таким адовым закоулкам, которые словно молотком будут вбиты в его мозг, и в дальнейшем станут напоминать о себе ежегодно, ежедневно… И это не дым от костра, от которого можно отмахнуться – это навсегда..
1
Кто прошёл сквозь горно лагерей и тюрем и, при этом, не позволил убить в себе человека, всем вам, бродяги, посвящаю.
За многолетнее терпение, мое признание и низкий поклон самому близкому, самому верному другу на земле – Н. Г. Мухиной
Он являлся как наяву, с той же физиономией. Надменная улыбка, обнажающая упакованные в золото зубы, худое лицо с прямым носом, высокий лоб, тон-
кие короткие губы, брови и волосы – цвета соломы, а вот глаза, глаза почему-то красные. В его манере поведения, разговоре угадывалась поступь всемогущего, этакого царька. И еще он чем-то напоминал «истинного арийца», лощеного офицера СД. На нем была черная мантия. В руках, на уровне груди, он держал большую раскрытую книгу, но в нее не смотрел. Взгляд его окалиной прожигал каждую клетку моего тела. Говорил он раскатистым, похожим на Левитана, голосом:
– «Радуйся, поддонок, что тебя судят! Будь у меня полномочия, тебя бы казнили на центральной площади города, где под одобрительные крики толпы, палач с радостью отрубил бы твою поганую голову. Затем ее одели бы на кол, и представили на всеобщее обозрение – дабы другим неповадно было. Молись, мерзавец, что тебе на некоторое время будет дарована жизнь! Еще не один, преступивший закон, не ушел от возмездия! И ты не исключение! За свои деяния ты будешь жить мучительной жизнью в том мире, куда я тебя отправлю. И даже там, никто не подаст тебе руки. Загибаясь от боли, ты по частям станешь выплевывать свои внутренности. Ослепнешь от неминуемого голода. О тебе никто не вспомнит, тебя просто вычеркнут из памяти. А вскоре, тебе все это опротивит, и ты сам сведешь счеты с жизнью».
Я молил его о пощаде, но он как будто не слышал.
– «Такие как ты не должны жить среди людей. Ты как кость в горле, как бочка дегтя, вылитая в чистый пруд! Ни мать, ни отец не станут сожалеть о таком ублюдке. Ты подохнешь как чумная собака! Подохнешь… подохнешь!»
Просыпался я, а точнее сказать, вырывался из сна в холодном поту. Сердце учащенно и больно било в грудь. Этот чудовищный сон нередко преследовал меня с тех самых пор, когда судья, после четырехдневного разбирательства моего дела, огласил приговор: … признать Медведева Владимира Геннадьевича виновным, определить ему меру наказания в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с содержанием в исправительно-трудовой колонии усиленного режима…
Протяжно заскрипели тормоза, состав едва ощутимо дернулся и сделав
последний инерционный толчок, остановился. На несколько секунд в «Столыпине» воцарилась тишина, после чего послышался тяжелый, надсадный кашель, ленивые любопытные голоса:
– Что за станция?
– Березай. Кто приехал – вылезай!
– Да Тулун это. Или как еще говорят на местном наречии «кожаный мешок». По слухам, крытка здесь, очень схожа с пятизвездочным отелем. – Высказался какой-то умник.
Сведущие уркаганы рассмеялись.
– А ну не базлать! – прикрикнул один из солдат.
В коридоре столыпина несли свою бдительную службу двое солдат охраны, вооруженные пистолетами «Макаров». Каждый вел наблюдение за отведенной ему половиной купе-боксов, отгороженных от коридора металлической решеткой с кругообразной ячеей, что позволяло хорошо видеть уголовников и то, чем они занимаются. Однако не один солдат (были исключения) не хотел выполнять свои обязанности добросовестно. Почему? Да, видимо, потому, что болтаться два часа как маятнику от середины вагона до дверей, ведущих в тамбур, и обратно, надоедало. По этому, встретившись посреди коридора, солдаты подолгу, вполголоса разговаривали между собой, и при этом умудрялись курить, что на посту им строго запрещено. И лишь появление прапорщика или сержанта, заставляло их блюсти устав. Зеки же, пока охрана травит байки, не теряли времени даром. Кто успевал заварить чифирку, вскипятив в алюминиевой кружке воду, сжигая имеющуюся в наличии бумагу; кто мучил «стос», по-турецки устроившись на верхних нарах, которые были сплошными и имели только люк для лаза; кто-то подстукивал соседям, в надежде, встретить земляка, а то и просто поболтать с теми, кто совсем недавно устроился «исправляться». Одним словом, жизнь обитателей «Столыпина», мало по малу бурлила. Как в муравейнике – шуму почти никакого, но все в движении.
И все же каждый зэка, хоть он и занят делом, каким только можно в вагон-заке, несет свой нелегкий крест с тайной надеждой в сердце, что наступит тот день, когда он обретет свободу и, быть может, счастливо построит свою жизнь, навсегда позабыв о страшном прошлом.
Правда, находились и исключения. Уркаганы, с которыми я оказался в одном купе-боксе, не подавали никаких признаков стремления к свободе. У каждого из троих не по одной судимости за плечами. Они до мелочей знали как лагерную, так и тюремную жизнь. Все трое сидели с малолетства и оттрубили по двадцать и более лет, имея лишь мизерный перерыв между отсидками, который исчислялся месяцами, и даже днями свободы. Да и вообще, плевать им хотелось на волюшку. Здесь, в этом гнилушнике, они чувствовали себя как нельзя лучше.
– К чему мне эта воля? – говорил, пожалуй, самый старший, низкого роста особняк, по прозвищу Гном. – Там у меня кто? Да никого. Ни отца, ни матери. Кому я нужен? Ну, выйду…. и куда? Пахать что ли? Поздно, не приучен я. А вот какому-нибудь фраеру не в карман, так в рожу залезу! Это уж как с куста. Не могу я видеть откормленных, да гладеньких… Так и хочется мракобеса на шампур одеть! – Переведя дыхание, он продолжал. – Глоток свободы, конечно в жилу. Все в розовых тонах. Биксы молодые гуляют, юбочки по самое хочу. Только не для меня все это. Выходит на роду мне написано разлагаться в этом вонючнике, да петушками, по мере возможности баловаться. Вот и получается – кому тюрьма, а мне родней не надо. Я здесь как рыба в воде.
Тут я подал Гному кружку с только что заваренным чифиром, и он на время замолчал, наслаждаясь ароматным вкусом «индюшки». Затем Гном передал кружак Феде, худому, как сама арестантская жизнь, строгачу, с кирзовой рожей и десятком оставшихся, прочифиренных зубов. Чаек Федя пил своеобразно. Отшвыркнет глоточек, после, глубоко затянется махорочкой (сигареты и папиросы считал баловством) и блаженствует, прикрыв глаза. Когда очередь дошла до Васико, на первый взгляд, тихого, усатого грузина (усы лицам кавказкой национальности разрешалось носить, видимо, как неотъемлемый атрибут горцев), он отказался от чая и передал кружку мне.
– Чифирни, земльяк, – и Васико просто объяснил свой отказ. – Я еще на зона этот блягородный напэток пакушаю. Что тэбья крытый шашлык из барана ждьет? Может кровный пайка нэ увыдыщь, нэ толко чай. – За кровняк… из глотки вырву! – осердился я.
– А..а..й, что ты абижайся, – Васико взмахнул руками. – Сколко я критый был? Залатауст, Верхнеуральск, Таболск. Вот опят с Таболска качу. Ну, Таболск еще жит можна – сэтка вьяжешь там… ячик калетышь, кармьешка. А сэмдэсат пэрвый год Залатауст, вэришь, да, от голеда умьирали. Баландьер, пидарюга, прывьяжет к черпак мьяса, думаэшь пакушаю, а вазмьешь шлюмка – голий вода. Будэшь вазмучаться, такий влемьят – три дэн лэжишь, все косты балеют. Сам к кармушка не прыдьешь – пайка нэ увьидышь. Даходыл, щто прогулочный дворьик травка чипал по углам, как козьел… Адын сокамерник вскрыл себье вэны, выдать уже не мог терпет такой….
Мы давай двер стучат. Через пят менут набэжала целый атара этых тварэй. Толко адын кановал – баба. Тот уже как баран в крови, а она наступила каблюком ему на рука и гаварыт: «Пулс нармалный, такой бугай виживет». Нэ вижил, умьер, слова нэ гаварил. Труп толко утро забиралы. Твари!
– Васико, ну что ты разошелся? – вмешался Гном. – Тормознись, внатуре. Парняга первый раз в крытую катит, а ты…
– А-а-й, как разошелся! – Васико протер марочкой вспотевшую лысину. – Я жизн гаварью….
– Да разберется он в этой жизни и без нас. – как-бы подводя разговор к завершению, сказал Гном. – Сам понимаешь, в крытую за здорово живешь не сбагрят. Стало быть он знал на что шел. Раз выбрал эту дорогу – попутного ветра. Такое вот мое будет мнение.
В рассказе Васико сомневаться не приходилось, поскольку на зоне, где я до недавнего времени пребывал, были двое очевидцев, побывавшие в тех самых крытках и по истечении тюремног срока, пришедшие возвратом в свою зону для дальнейшего отбытия наказания. Вечерами в секции, где кучковались отрядная братва, за кружкой чифира, я слушал скупые рассказы этих двух скелетов, обтянутых кожей, об их, можно сказать, трагической судьбе. Картина складывалась удручающая. По хлеще драконовских условия, создаваемые администрацией тюрьмы оставляли крытнику единственный шанс-путевку на «могилевскую губернию». Если здесь, в крытой, не здохнешь от голода, ТБЦ, зверских побоев и издевательств, и не попадешь в «пресс хату», обольщаться не стоит. Черная с косой, настигнет тебя через пять, максимум десять лет. По любому, ты уже, не жилец. И понимаешь, что отпущенное тебе время, не что иное, как моральная подготовка в мир иной.
Мне не хотелось верить в эту галиматью, но я видел перед собой двух живых, говорящих мертвецов и, словно промакашка, впитывал каждое сказанное ими слово. Я понимал, что должен расти не только в глазах старших братьев по ордену, но и, обязательно, в глазах тех, кто недавно пришел на зону и был противником методов администрации лагеря. Того требовала жизнь. Попал в калашный ряд – назад хода нет… Так мне казалось тогда… давно.
…Гном и Васико продолжали дискуссию на тему крытых – мрытых. Я сделал еще пару глотков чифира и, передав кружку Феде, закурил «Урицкого», которым неплохо подогрели поселенцы на Красноярской пересылке. Федя, как и я, не впрягался в базар своих корешей. Он пыхтел махрой и «шелушил стос». И вообще, Федя предпочитал больше молчать, чем попусту напрягать язык. От самого Тайшета, я не слышал из его уст ни единого предложения, за исключением коротких фраз.
– Скорей бы на зону, – вдруг ни с того ни с чего прошептал Федя, выпуская тугую струю дыма.
По – человечески, я не понимал этих пассажиров. Оставаться до конца жизни босяками, быть преданными идеалам уголовного мира – вот их смысл существования. Я бы еще понял, если б они были молодыми, сбитыми с толку, закоренелыми, прожжоными урками, но ведь им самим уже под сраку лет. Вон, даже и меня, как слепого, пытаются за руку водить, хотя соображают, что я не лыком шит и являюсь жуликом по -чище их. А того они не замечают, и видимо уже никогда не заметят, что есть люди совершенно с иным складом ума. Им и в голову не может прийти, что основная масса здешнего контингента не собирается посвящать себя уголовному миру, что есть на земле нечто такое, которое во стократ чище, лучше, ближе, понятней, добрее и пусть не на много, но справедливей. А у них одно мнение, как и у ментов – если попал сюда, то это навечно.
С другой стороны мне было жаль их. Неунывающие, действительно, вечные каторжане, с лихвой хапнувшие горя, они, тем не менее, продолжали оставаться приверженцами лагерной жизни.
Дескать, там, на свободе все говно, а здесь у нас живут только по понятиям.
Однако, по их лицам было видно, что они с нетерпеньем ждут той минуты, когда войдут в зону и увидят над головой небо, а их легкие наполнятся чистым, вкусным, осенним воздухом.
…..Через минуту, другую мне предстояло покинуть эту жиганскую компанию. Прикурив, потухшую беломорину, я подтянул свои сидора поближе к выходу. Мысли о той, знакомой лишь понаслышке, тюремной жизни, одолевали меня одна за другой. Перекрутив в голове, как кинопленку, множество вариантов встречи с крытой и ее обитателями, я пришел к выводу, что все будет так, как угодно зэковской фортуне, и прекратил это порожняковое занятие. «Ну ничего, – размышлял я про себя – Дубачье меня не возьмет. Нет. Ломали уже на зоне, много кровушки моей выпили. Да видать, кость не по зубам, вот и сбагрили в крытую. Спасибо отцу с матерью, что таким слепили….. Как хоть они там. Эх, взглянуть бы со стороны хоть одним глазком… Волчья жизнь. Торчишь, как хрен в горчице. Когда все кончится, да и кончится ли? В такой обстановке, да с моим характером, таких дров наломать можно, что и неизвестно, через сколько лет эта мясорубка меня выплюнет. Буду как эти трое – рядом с волей прокатали-просидели и хоть бы что, довольны. О жизни рассуждают, будто одну уже прожили на воле, как все нормальные люди, а другую решили посвятить уголовному миру. Неужели и в правду не сожалеют? Не верю! Быть того не может! Не помню, чтобы засыпая, я не вернулся домой, к родителям, в свое детство. Иной раз аж до слез… проснешься, подушка мокрая, и такая злость возьмет. За что, за какие грехи эта спираль испытаний в адском котле. что изваял человек для человека? Природа на такое не способна… А эти – к чему воля?… Не дай бог, мне до такого докатиться. Нет…
Слышно было, как в тамбуре бряцнули двери, мимо купе-бокса прошли двое встречающих. Обычно, старшой конвоя – прапорщик, а эти двое – один рядовой, другой старшина. Нескладуха, какая-то, получалась. И еще я заметил, что лица у обоих румяные. Не от мороза, понятное дело, на дворе-то начало сентября. Мне, конечно, чхать какой конвой меня встречает. Я уже просто радовался, что наконец-то добрался до места назначения, точнее сказать – доставили. Позади остались пересылочные клоповники, разборки в отстойниках, бесконечные шмоны и прочие никчемные передряги. Теперь одно, – думал я. – Как встретит крытая? А конвой, он и на луне конвой, доставят в лучшем виде. Работенка у них такая.
– Э, паровоз! – сказал мне солдат охраны, – завязывай курить. – И он не упустил момента подначить меня. – Собирайся давай. Тулунская тюрьма распростерла пред тобой свои объятия.
– Да уже до боли в почках знакомы мне ваши объятия, – спокойно, чтобы солдат не приставал, ответил я.
И мне вдруг вспомнились события месячной давности, когда конвой Тюменского СИЗО, на глазах у людей ожидающих поезда, демонстрировал свое физическое мастерство на одном горе-зэке, попытавшемуся вырваться на волю. По какой причине? Черт его знает. Может, ему уже нечего было терять? А может он был слаб духом или, попросту не выдержал гнета в советских застенках.
2
Тогда, в отстойник набили человек около ста, идущих на этап. Впрочем, это была обыкновенная камера, расчитанная на половину находящегося в ней в данный момент народа. Как только за мной бухнула дверь, я облегченно вздохнул, хотя дышать здесь особо-то было нечем. Волны махорочного тумана настолько густо заполнили камеру, что противоположная от двери стена, с двумя окнами, едва угадывалась. За тридцать суток, которые мне пришлось одному коротать в подвальной транзитной камере, я так истосковался по людям, что просто был доволен такой вот, представившейся возможности. В каждом углу сбившись в кучки по пять – семь человек, шли оживленные базары-разговоры. Ума много не требовалось, чтобы разобраться в обстановке. Судя по обилию давно неупотребляемых мной продуктов, которые в беспорядке присутствовали на столе – это место принадлежало тем, кто уже давно и надежно пристроился в этом мире. Сливочное масло, копченая колбаса, сыр, пряники, целлофановый кулек пачечного чая….. «Кучеряво живут», – отметил я про себя, и с невозмутимой миной, прошел вглубь камеры, неся свои, набитые разным тряпьем сидора. После минутного разговора с двумя подследственными, еще переваривающими мамкины пирожки, я устроился на нижней шконке.
Прикинут я был на уровне (кенты по зоне расстарались): черный, прошитый красными нитками, молюстиновый костюм, перетянутые «прохоря», и летная куртка на молнии, которую по случаю, здесь-же в СИЗО, выменял за наборный мундштук у одного особняка. Лежа на куртке, с закинутыми за голову руками, я пытался вспомнить вкус продуктов, только что увиденных на столе. Да не получалось. «Забыл, забыл. Не пойду же навяливаться. Хотя подойти, конечно, можно. Человеку, который идет в крытую, не откажут. Крытнику в этом мире почет особый. Так уж повелось, и не мной придумано. Ладно как-нибудь перебьюсь. Видать во мне от совести еще что-то осталось.»
На соседних «шконках» сидели первоходочники и чуть ли не шепотом разговаривали, сопровождая свои слова движением рук и головы. По долетавшим до меня фразам, разговор происходил согласно их положения: как вести себя на очной ставке, что говорить следователю, а если «терпила» напишет встречное заявление – могут и отпустить. Я искренне сочувствовал им, еще далеко, ох как далеко, не осознавшим, куда, в какие дебри они попали. Что ждет каждого из них – кто знает. Но завидовать нечему… На шконку напротив, присел какой-то ухарь. Я медленно перевел на него глаза. Тот с улыбкой заправского каторжанина, ловко, как иллюзионист упражнялся со «стосом». Внешний вид и два сидора, только что зашедшего в камеру, не ускользнули от вездесущего ока урок. И уж, наверняка, их заинтриговало мое поведение – не успел войти, а уже как барин отдыхает на нижней «шконке».
Со смаком потягиваясь, будто проспал целую ночь, я резко принял положение сидя и в упор уставился на иллюзиониста:
– Я так полагаю, вы имеете мне что-то сказать? – Я нагло ехидничал. Знал, что церемониться в подобном случае – ставить себя в неловкое положение.
Иллюзионист хоть бы что, ни один мускул не дрогнул. Несколько секунд – глаза в глаза.
– Может, сгоняем? – маякнув на колоду, предложил он.
– Бабки лишние закрутились? – от не хрен делать, поинтересовался я, хотя играть и не собирался, потому что никогда этим делом всерьез не был увлечен. Разве что для души, и только. Однако толк в катальном искусстве знал.
– Да как сказать, – с поддельным безразличием ответил тот, нарочно демонстрируя мне по локоть синие от татуировок руки. – Оно дело такое: бабки наши – станут ваши, но и обратное, сам понимаешь, не исключено.
«Делопут – отметил я. – Шулер сраный нашелся. Возможно и в правду специалист. Но в таких случаях, когда за спиной пять харь, не хило смотрится и другой вариант: не мытьем, так катаньем. Тут ты просчитался землячок». И я решил прекратить этот пустопорожний базар. Протянул руку и иллюзионист подал колоду, явно, уверенный, что игра состоится. Даже причмокнул от предвкушения назревающего заработка.
– На что играем? – спросил он, довольный таким оборотом дела.
Шелушнув несколько раз колодой, и определив, что она «коцаная», я жестко и как можно громче произнес:
– На жизнь играть будем! Годится?
В камере наступила гробовая тишина, словно у всех разом отнялись языки.
– Че-е-е? – вытянул морду иллюзионист. Глаза у него округлились, как у быка, и он уже был готов наброситься на меня. – Ну, вот что, земеля, – мне пора было вскрывать карты, поскольку перебор ничего хорошего не сулил, – Я тебе не фырган какой-то, набитый сливочным маслом. В крытую я покатил, так что гонять порожняки с тобой не имеет смысла. Уловил?
– Слушай, зема, бля буду,.. я даже чо то не прикинул, – зазапинался иллюзионист. – Ты уж не обессудь, бродяга, с каждым может случиться. Смотрю, ты так вкован, я и раскатал губу….
Дальше все было правильно. И чайком я ужалился, и перекусил, и в дорогу мне всего натарили. Словом, поделились чисто по босятски.
Вскоре дернули на этап. Воронок, в котором оказался я, напоминал звериные клетки зоопарка. Две маленькие справа и две по больше слева. Между ними проход около полутора метров с мягким сиденьем, где находились два солдата с автоматами и огромная овчарка, пепельного окраса. Я сидел в самой маленькой клетке, рядом с окошком. Мне хорошо было видно волю, потому, что клетки от охраны отделяла не сплошная металлическая стенка, а решетка с квадратной ячеей, куда запросто могла пролезть рука. Минут двадцать с небольшими остановками у светофоров вороные мчались до ж/д вокзала. И всю дорогу я не мог оторвать взгляд от мелькающих домов, тронутых желтизной деревьев, людей, идущих по тротуарам. Вся эта картина до боли щемила сердце. К глазам подступали слезы, в горле, как в пустыне – пересохло. Если бы меня сейчас о чем-нибудь спросили, я вряд ли бы смог говорить.
Со стороны города, воронки остановились слева от вокзала, чем-то напоминающего мини-небоскреб. Наш воронок остановился так, что мне были видны люди на перроне. Многие с чемоданами, всевозможными сумками и рюкзаками, явно ожидающие прибытия поезда.
От солдата охраны я узнал, что воронков аж пять. «Стало быть, отстойник-превратка на момент этапа, имелась в СИЗО не одна, коль этапируют такое количество нашего брата.»
Сбоку автозака прохаживался солдат с автоматом и с такой же овчаркой, что лежала передо мной, положив свою телячью морду на запаску. При этом она, вывалив язык, часто дышала и неусыпно посматривала на клетки.
Невдалеке от автовокзала появились двое пацанов, лет по пятнадцати. Я быстренько, вполголоса объяснил им, что мороженое, это самое вкусное из сладостей, какие только существуют на земле. Пацаны переглянулись и убежали. Солдат в воронке, не пресекал разговора, а лишь просил говорить по тише, чтобы старшой не слышал. Вскоре пацаны вернулись, и притаранили четыре порции мороженого в вафельных стаканчиках. Наш охранник попросил того, с овчаркой, пособить. И тот попридержав псину, взял у пацанов мороженое и передал в воронок. Ребятня исчезла так же внезапно, как и появилась. И, что самое интересное, на этом процедура общения с вольным людом не окончилась. Откуда ни возьмись, нарисовался мужичок, лет этак сорока пяти. Лицо в свежих ссадинах, под правым глазом бланш, в руках задрипаная, кирзовая сумка. Не обращая внимания на овчарку, он смело подошел к солдату и начал ему что-то растолковывать, показывая свободной рукой то на сумку, то на воронок. Солдат ежесекундно отдергивал овчарку и отрицательно мотал головой. Тогда мужик отошел, и присев в тени акации, обратился прямо ко мне, поскольку мою любопытную морду, ему, пусть смутно, но было видно.
– Братишка! Я только вчера откинулся, – хрипло заговорил он, и стал выкладывать содержимое сумки на траву. – И это… передать вам трохи подогрева хотел, а эти волки упираются.
Солдат снаружи отпустил в его адрес крепкий мат. Увидев на траве четыре бутылки вина и несколько пачек индюшки, я тут же цынканул об этом соседям. И мы все вместе принялись уговаривать солдата в воронке.
– На кой х… мне из-за вас свою жопу подставлять? Вам кайф, а мне губа! Умники!
Но мы понимали, что такой шанс выпадает не каждый день и не унимались. И надо сказать, не зря. Еще через несколько секунд нашего упорства, был найден оптимальный вариант решения данной проблемы. Три бутылки вина сержант заначил под сиденье, а четвертую, и весь чай отдал по назначению. Возражать не имело смысла.
Откупорив бутылку, я прямо из горлышка выпил чуть меньше половины, остальное, сержант передал строгачам. Мой организм настолько ослаб, что после выпитого у меня сразу зашумело в голове. Приятное тепло обуяло каждую клетку тела. Потянуло в сон. Я начинал, было, кемарить, но тут послышалась команда «Выгружай», и сон пропал. Пока очередь не дошла до нашего воронка, я принялся глазеть на людей, озабоченно толкающихся у тамбуров вагонов остановившегося поезда. Разнообразие цвета, заставляло жмуриться. Ведь на зоне все краски темные – от сапог, до жизни, за исключением формы офицеров. И тут вдруг неожиданно для себя я услышал громкий, истошный крик: «Стой! Стрелять буду!» Не надо было напрягать извилины, чтобы догадаться о том, что случилось. Явно, что кто-то ломанулся в побег. «Странно, но выстрелов пока не слышно. А, вон оно что».
Я увидел, как среди людей на перроне замелькали солдатские пилотки. Молодые воины махом настигли бегунка. Вокруг них образовалась толпа зевак, но солдаты, не обращая никакого внимания на людей, взялись за свою почетную и благородную работу. Крики, визги толпы, никоим образом не могли повлиять на происходящее. Пинали со знанием дела, со вкусом. Один даже прикладом автомата начал наяривать, видать ноги отшиб, бедненький. Запыхавшись, к «работягам» подбежал прапорщик и еле их угомонил. Те, с пеной на губах, схватили жертву за ноги и потащили к воронкам. Побегушник не подавал никаких признаков жизни, и тащился по асфальту, как мочало, как замызганная половая тряпка.
«Бедолага, куда ж тебя нелегкая понесла», подумал я с сожалением.
В воронок, будто сорвавшись с цепи, влетел сержант,
– Ну…. суки! – воздуха ему не хватило и он с натугой дохрипел. – Всех на пинках до самого Столыпина! Бля..!
И, действительно, каждый получал обещанный пинок в зад. Сержант, у которого остались три бутылки, так же упускал момента стряхнуть пыль с сапог. Я получил свою порцию и, немного пробежав, очутился позади колонны, присев на корточки. Сзади и с боков, солдаты стояли с автоматами на изготовку. В голове колонны метался взбеленившийся прапорщик, и, размахивая пистолетом, пискляво кричал:
– На колени, сучье племя! Шаг влево, шаг вправо, считается как попытка к бегству – стреляем без предупреждения!!
И видя, что на его команду никто не реагирует, пуще прежнего завопил.
– На колени!! Кому говорят… нелюди вшивые!!
Но на колени никто не становился. Попытались, было, молодые, но вовремя одумались, видя, что большинство команду прапорщика пропускали мимо ушей. Да и прапору, особо то, некогда было разгуляться. Поезд давно стоял и наверняка задерживался из-за всей этой галиматьи.
Колонну бегом погнали к столыпину, и тут продолжалась та же процедура с пинками. На этот раз я не выдержал, и, обернувшись в тамбуре, крикнул сержанту:
– Апсос драный!
Ухватившись за поручни, сержант хотел впрыгнуть в тамбур, но прапорщик, начальник столыпинского конвоя, строго сказал ему:
– Назад. Давай считай! И так задерживаемся, – и он рукой подтолкнул меня вглубь вагона.
Конвой еще не рассадил всех по купе-боксам, а поезд уже набирал ход, увозя меня в неизвестное, но неизбежное будущее.
В купе-боксе я оказался с соседями по воронку. После недолгого разговора о горе беглеце, я скинул «прохоря» и запрыгул на верхние нары. А остальные тем временем, что-то «ганашили» перекусить и чайку.
«Вот она, сраная, советская гуманность, – вспоминая побегушника, злился я. – Вот-те и законы. Ну, догнали его. Дали бы как следуент по шее. Зачем же заживо запинывать. Это ведь по сути убийство…. Когда-то и я мечтал стать военным. Завидовал людям в форме. Дед вон у меня прошел всю войну. Летчик, капитан, много наград имеет. Мечтал, чтобы я непременно поступил в военное училище. Я и поступил…. только в дерьмо. Интересно, что скажет солдат, получивший отпуск за поимку беглеца, родной матери? Да поди, что-нибудь придумает. Или скажет правду? Впрочем, мать, она на то и мать, чтобы любить и лелеять свое чадо, и уж наверняка, одобрит поступок сына. Дескать, зек, он сродни зверю, и жить ему среди людей нельзя…. А ведь побегушник никому не причинил зла. Он побежал, не желая дальше оставаться во власти насилия. Похоже его терпению пришел конец и иного выхода он не нашел. Мало того, что ему отняли здоровье, суд, в обязательном порядке, накинет еще трешник к его сроку. И кто знает, что с ним будет в дальнейшем (если вообще выживет), раз уж решился на такое. По– моему, вариантов у него немного: вновь побег, или петля от безысходности…. А солдатам – отпуска. Да случись это в безлюдном месте, никто бы и догонять его не стал. Пристрелили б, как бешеную собаку, и все дела. Служивым нет никакого дела: есть ли у него отец, мать, семья, дети. Списали бы, как износившуюся робу, зная, что «свято место – пусто не бывает». И что характерно, на его месте может оказаться любой, невыдержавший железных когтей, так называемой, исправительной системы. Душа и сердце у всех имеются, хоть ты и заключенный. И когда сердце заноет, застонет душа, как дитя потерявшее соску, разум может подсказать любой вариант, а каковы будут последствия….
Мысль моя оборвалась, застигнутая подкравшимся сном. Выпитое вино сделало свое дело, и я уже не слышал стука вагонных пар, крепко уснув, впервые за много месяцев сытым, хоть и с неспокойной душой.









































