Текст книги "На шаткой плахе"
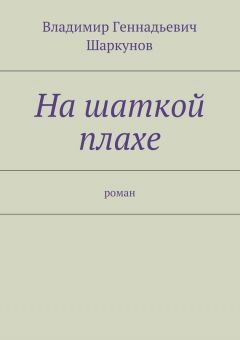
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
6
Некоторое время я стоял в оцепенении, не в силах понять, откуда может доноситься голос. Подумал, что кто-то с той стороны дверей подошел и негромко зовет. Но голос повторился и пояснил:
– Земеля. Под нарами «кабура» – смотри.
Мигом нырнув под нары, я увидел сквозное, чуть меньше дверного глазка, отверстие в соседнюю камеру.
– Здоровенько, – поприветствовал меня хозяин голоса, когда я вплотную приблизился к отверстию. – Стало быть, с новосельем тебя!
– Да вроде того, – сказал я, пытаясь разглядеть говорившего. Но под нарами было темно. Лишь когда говоривший убирал от «кабуры» лицо, мне видны были лавка и ножки стола.
– Откуда прикатил? – поинтересовался сосед.
– Из Тюмени.
– Звать-то как?
– Миша.
– Меня Костя, – сказал сосед, и добавил,– ладно, пока разбежимся. Луноход прикатил, похаваем, потом побазарим.
Я вылез из-под нар, отряхнулся от пыли и стал «нарезать тусовки», радуясь тому, что с соседями установлена такая связь. Не зря говорится, «голь на выдумку хитра».
За дверьми забрякали миски. Открылась кормушка и в ее проеме появилась круглая, в белом колпаке, морда баландера. Стрельнув на меня совсем не мужскими, голубыми глазками, спросила, медленно шевеля пухлыми, как дольки апельсина, губами:
– Посуда у тебя есть?
– Нет, – так же ласково, передразнивая баландера, ответил я, поразившись женственности голоса, этой откормленной, лоснящейся рожи.
Тогда он взял из рук своего помогалы чистую миску и налил похлебку. А тем временем дубак-заика, крутившийся рядом с баландерами, с грехом пополам объяснил мне, что сегодня меня покормят из общего котла, а с завтрашнего дня будут кормить два месяца по пониженной норме. По закону, мол, так положено.
Есть особо-то не хотелось, но увидев в супе куски сала, попробовал, да так и не отрываясь, сметал всю похлебку. С опозданием пожалел, что не растянул удовольствие.
Мне, признаться, с трудом верилось, что я попал в крытую. Рассказы бывалых жиганов никак не вязались с тем, что я видел своими глазами. А может это спецтюрьма по откорму ослабших здоровьем заключенных? Так сказать «уркаганский санаторий».
После обеда мы долго разговаривали с Костей. Он подробно объяснил мне, как живет и чем дышит крытая. Оказалось, в восьмидесятой сидит мой однозонник Леха Филоненко, по прозвищу «Радион». В крытую он укатил полтора года назад, и никаких известий о его местонахождении мы не знали. Прикидывали, что он где-нибудь в Верхнеуральске или Златоусте парится, но чтобы в Иркутскую область угодил, об этом и думы не было. Редко, очень редко отправляли в такую даль. Обычно с Тюменских «командировок» сбагривали на Урал, потому видимо, что это гораздо ближе, меньше затрат, волокиты и прочего.
Костя сказал мне, в какой хате сидят «суки». А так же, что в шесть ноль сидит «Свояк» (вор в законе), и если вдруг возникнут какие затруднения, по всем вопросам обращаться к нему. И самое, пожалуй неожиданное, что я узнал от Кости – это резня между собой, в результате которой пять «азеров» закололи, а шестого, русского, оставили жить. Одна хата, выйдя на прогулку, отняла у дубаков ключи. Они открыли несколько камер своих единомышленников, и прикончили подобных себе по жизни, но разных по понятиям людей.
Случилось это месяц тому назад. Костя сказал, что сейчас здесь работает комиссия из Москвы. По слухам, добрую часть администрации – офицерский состав – выгнали, а на иных даже уголовные дела завели. Хозяина и режима по сей день не назначили, и кого назначат, никто не знает. Безхозная тюрьма жила в ожидании перемен. И, надо полагать, не в лучшую сторону. Впрочем, пока все шло своим чередом. Кормежка оставалась хорошей, а об остальном крытники умели позаботиться сами.
Теперь я понимал, почему так снисходительно отнеслись ко мне тюремные конвоиры и корпусной, пропустив меня со всем моим барахлом. Им было не до вновь прибывшего, они сами стояли на распутье, ожидая окончательных выводов комиссии.
Да, крытники жировали. До недавнего времени можно было приобретать продукты в тюремном ларьке не на положенные три рубля, а за наличные, если таковые водились в хате – хоть на стольник. Но как оно будет сейчас, остается только гадать.
…. Когда Костя рассказал мне, что он ночь провел с «биксой», нет, не с педиком, а с женщиной, в полном смысле этого слова, я поначалу принял его слова за сказку. Но после некоторых пояснений, пришлось поверить. Оказалось, что тюрьма имеет пэобразную форму – два длинных корпуса соединялись коротким переходом. В одном крыле содержали крытников, в другом находились последственные и осужденные, то есть СИЗО, где и дамы, конечно же чалились.
– Так вот, этих шмонек, перед отбоем выводят мыть полы, – не без чувства гордости, говорил Костя. Сокамерникам видно все уши прожужжал на эту тему, но рассказать лишний раз, да новому человеку, возможности не упускал. – Другой раз такая фифа выйдет, что шнифты закатываются. Готов сквозь глазок просочиться. А она еще в тоненьком трико. О-ох, думаешь не до хорошего, вцепиться бы в эти ядреные бубона, ну хоть на секундочку, и до конца срока хватило б. Ну и это… закрутилось тут у меня с одной клуней. Подкатила она к хате, дыб в глазок… И видать я ей по вкусу пришелся. Она у хаты пол трет, а я ей уши. Про такую любовь застоявшуюся ей шлифую, она аж заикаться от вибрации начала. Готова до дыр бетон прошоркать.
– А дубаки что, ноль эмоций? – спросил я.
– Да им-то какая разница? Ты же сам видел какой продол, а их всего двое. Сидят у себя в закуте, да чифирят. Они тут все чай жрут как лошади. Ну, изредка может выглянут, потявкают и снова в стойло. Плетут какую-нибудь х… ню друг дружке. – Объяснив положение с дубаками, Костя вновь вернулся к прежней теме. – Ну и это, сам знаешь, слово за слово, то, се. Говорю ей: «Встретимся»? А она: «Я не против, да разве возможно?» Сама аж пищит. Короче, она мне свою фамилию и номер хаты назвала. Дальше дело техники. Только бабенки вымыли полы, я подозвал дежурного, наплел ему с три короба, чтобы он корпусного вызвал. Когда пришел корпусной, я ему все детально «расфасовал» и он, спрятав в карман полсотенную, тут же вывел меня. Хата, куда он меня определил, находилась в переходе, между корпусами: две шконки и стол. На одной шконке матрац. Минут через десять корпусной притрелевал пузырь водяры, малость хлеба и грамм двести колбасы. А еще минут через пять, заводит мою кралю. И как я разглядел, что это за чипалино, у меня глаза чуть не выпали. Ну, рыло еще куда ни шло, а вот пуховик, как землянка, в три наката – на всю братву хватило б. На вид молодая, лет тридцати. Ни сколько не стесняясь, и не говоря ни слова вроде как у себя дома, она взяла со стола пузырь, клацнув зубами, сорвала пробку, выплюнула ее и, прямо из горла, давай халкать. Полпузыря, как «фома х… м сдуло». «Ну, – думаю, – сгинул я. Сейчас эта хата с замочную скважину мне покажется, и любовь моя, застоявшаяся, в конец завянет». И ты понял, даже не поморщилась. Протягивает мне оставшиеся полпузыря и говорит: «Ну давай, Костик, за изболевшееся по любви сердечко», а свободной рукой колбасу себе в рот напихивает. Набила за обе щеки и пережевывает, как кобыла овес, аж слюни на губах пузырятся. Отпил я грамм сто пятьдесят и больше не могу, не лезет из горла. Пока я закусывал, она подсела рядышком и что-то на ухо мне шепчет, а сама как холодец, ходуном ходит. Я собрался было закурить, думаю почирикаем о том о сем. Да где там, не успел я и рта раскрыть, она как сгребла меня, ну и это…, понеслась душа по кочкам. За всю ночь разок перекурил, когда водяру допивали, опосля она меня опять в тиски и до пяти утра как в парилке. Если б корпусной задержался еще на час, я бы точно кони двинул, а ей хоть бы хрен, давай и давай. Корпусной еле вырвал меня из ее клешней. Она ему: «Старшина, миленький, не отнимай, ну хоть на часик дай еще вкусить ласки мужицкой». Я то уже в коридор вылетел, а она голяком на матрасе растележилась, глаза свои коровьи закатила, дойки под мышки запали, ногами скет, и уже старшину фаловать принялась. «Мама родная, – думаю, – как только выжил». Стою будто маятник, коленки трясутся, голова туманом набитая. Привел меня в хату корпусной, я как брякнулся, так сутки и спал, словно на повале три смены отпахал. Вот так вот, можно сказать, рискуя жизнью, закончилась моя случка с Катериной. Долго я не мог придти в себя после этой стыковки… А во второй раз, – разошелся Костя.. Его рассказ прервал лязг дверного запора.
– Атас! – крикнул я Косте, и вынырнул из-под нар.
Как и обещал, пришел корпусной. На этот раз я шел впереди, а он, направляя меня своим командным голосом, позади. Коптерка находилась в одном помещении с баней. Коптерщик, рожа сытая, щеки, что снегири, розовые, из-за них ушей почти не видно. Понятно, что живет по принципу: лучше переесть, чем недоспать. Получил я все, что полагается: матрас, одеяло со смехом, подушку, простыню, наволочку. От остального отказался – свое имелось. Как в путной бухгалтерии, пришлось расписаться за полученое. Рядом находился закуток дубака-банщика. Он вручил мне кусочек хозяйственного мыла (большой кусок делился на четыре части) и открыл дверь в баню. В такой бане мыться мне не приходилось не только в лагере, но и на свободе. Кафель на полу и стенах так и сиял; три пары кранов с горячей и холодной водой; в одной стене была дверь, закрытая на замок – не трудно было догадаться, что там парилка. Но главное – тепло. Знать мылись здесь не только зеки, уж больно добротно все устроено. Мылся я минут пятнадцать, основательно растирая тело грубой мочалкой. На воде экономить не приходилось.
Придя в камеру, я быстро соорудил спальное место и улегся поверх одеяла, накрывшись бушлатом. После баньки, в чистом белье я чувствовал себя легко и свежо. «Только бы сосед не доставал, – думал я. – Что заведенный». Понежившись так некоторое время, мне вдруг пришла мысль сообщить Радиону о своем, здесь появлении. Я присел к столу и написал коротенькое послание, в котором сообщил Радиону о зоновских новостях, о том, за какие грехи сам тут оказался, а заодно поинтересовался – нельзя ли послать «фунта» подняться к ним в хату. Написав, аккуратно сложил листок так, чтобы не развернулся по «дорожке», и пометил 80-Радиону. Когда перегонял «малька» соседям, поинтересовался:
– Не в курсе, долго будет идти?
– Да махом, – заверили меня. – Тут в каждой хате кабура. Не пройдет и часа как тебе цинканут.
– Ну, ладненько.
– Слушай, зема, – спросил сосед. – Ты случайно бабками не располагаешь?
– А в чем соль? – в свою очередь спросил я.
– Если есть, то через час чайком ужалимся, – уверенно сказал сосед.
– Пятеры хватит? – спросил я. Мне не хотелось втюхивать монеты в порожняковое дело, поэтому я назвал минимум.
– Какой базар! – с нескрываемой радостью воскликнул сосед. – Две «плахи» обеспеченно!
– Трохи обожди, – я выбрался из-под нар, выдрал «мойку», вклеенную в одну из открыток, надрезал бушлат, в том месте, где были заначены деньги и извлек пятеру.
– Ну, ништяк! – обрадовано произнес сосед, когда пятерик оказался у него в руках. – Как все срастется, мы цинканем.
Сосед хотел свинтить, но я тормознул его и перегнал ему пачку «Беломора», проталкивая по несколько папирос прутиком, отломанным от веника. Он поблагодарил меня за курятину и мы разбежались.
Я вновь брякнулся на нары. Потянуло в сон, и одновременно в голову полезла всякая всячина. И в это время на продоле послышалась матерщина. То ли дубаки на кого-то рявкали, то ли им кто вставлял. Хоть и был я не робкого десятка, но новая обстановка заставляла быть на стороже, не давая беззаботно уснуть. Приученный за годы заточения, я чутко реагировал на разного рода шорохи и движения. Я дремал, изредка открывая глаза, как это делают сторожевые собаки, не веря в тишину, в которой уши ничего не могут уловить. Не знаю сколько мне пришлось продремать, час ли, два, но я мгновенно вскочил с нар, услышав как шлепнула резинка закрывающая дверной глазок, и увидел «малек», упавший под самый порог. Я юркнул к двери, поднял «маляву» и прислушался, припав ухом к глазку. Тихо, как в омуте. На «маляве» написано: 124-Мише. Я сообразил, что пишет Радион. Только он мог знать мое погоняло. Прямо у дверей, сидя на корточках, я развернул «маляву» и прочел: «Здоровинько, Миша! Получил от тебя ксиву и сразу пишу ответ. Про „кипиш“ на зоне, за который ты угорел, я в курсе. Но что поделаешь – надо жить дальше. Как только кончится „фунт“, мы перетянем тебя к себе. У нас тут через месяц один парень освобождается, будем держать место. Так что, имей ввиду, Миша! Подробности об этой командировке подпишу чуток апозжа. А сейчас, братан, с просьбой к тебе. Выручай, если можешь, ни чая, ни копья. Если располагаешь, то червонец подгони. Сам понимаешь, без чая тоска зеленая, а не житуха. Ты уж не обессудь, бродяга, что сходу с просьбой. Но я надеюсь, братан, что ты поймешь меня. Ответ черкни, как только прочтешь. Человек подождет. Бабки отправь с ним же, там все надежно. Ну, будь здоров. Не унывай! Радион».
Я «шомером» состряпал ответ, в этот же листок замотал чирик и, подойдя к двери, стал ждать. Через пару минут резко поднялась резинка глазка (что интересно, стекла в глазке не было).
– Готово? – прошептал стоявший за дверью.
– Ага, – тихо буркнул я, и сунул в глазок маляву. – Бабки там же.
– Понял! – шепнул он, и резинка закрылась.
Привидение скрылось так же тихо, как и появилось. По форме, это был дубак, а вот лица его я не рассмотрел. Осторожный, что мышь, подлюга.
Кому кому, а Радиону отказать я не мог. Если б он попросил больше, отправил бы, и безо всяких раздумий. Парень он был – что надо. На зоне мы не единожды, вместе чалились на «киче», делились последним куском хлеба. Словом, худого за Радионом не было, да и быть не могло. Слишком уж много он перемыкал за свой срок, чтобы оказаться дешевкой. Ломаются, конечно, люди, не выдерживают – система истребления сильна. Но и она дает сбои. И ей не всегда под силу вынуть из человека душу и растоптать ее. Радион, сколько я его знаю, на ногах стоит уверенно и вряд ли позволит сшибить себя. А те, природой отпущенные недостатки, которыми наделен с рождения человек, ни в коей мере не могли изменить моего отношения к нему.
После ужина, когда прошла проверка, и время подходило к отбою, соседи цинканули, что с чайком все правильно. Я сказал им, чтобы «плаху» они оставили себе, а сам, как только получил в тетрадных листах, скрученных трубочкой, чай, не мешкая, вскипятил в кружке воду, использовав для этого часть журнала «Новый мир», и заварил чифирку. Затем, накрыл кружку остатками журнала и дал некоторое время постоять, чтобы чаек запарился по-хозяйски. Пока чай настаивался, я замотал добротный косяк маршанки. Беломором, если хорошо хапануть чифирку, не накуришься. Вот махорочка, другое дело. Но тот, кто не знает вкуса ядреного чифира, этого не поймет. Когда «нарежешь девяточку» тягучего напитка, а потои разок другой затянешься махорочкой, тут и наступает истинное наслаждение, минуты блаженства. Кайф, конечно, от чифира не ахти какой, но то, что соображатель пашет на полную катушку – факт неоспоримый. Вот и получается, что чифир, не что иное, как стимулятор головного мозга.
На продоле загремел зуммер. Дежурный умудрился без заиканий несколько раз крикнуть «Отбой», и пошел рявкать, заглядывая в глазки камер. Я успел чифирнуть и, когда заика заглянул в глазок, уже лежал под одеялом. С минуту его глаз рыскал по камере, затем исчез. Заканчивался мой первый день пребывания в крытой.
7
В курилке отряда меня стало немного подташнивать. Вадя сказал, что это от чифира, с непривычки. Я, действительно, после того как перекусил, сделал глотка четыре все вяжущего во рту, горячего чая. И мне было непонятно, с какой целью его употребляют. Голимая горечь и только.
Пока мы курили, Вадя рассказывал мне о наиболее значимых событиях произошедших в то или иное время на зоне. Я внимательно слушал его и вдруг, в какой-то момент, почувствовал сильное головокружение. Последнее, что помнил – будто из-под меня убрали ноги. Очнулся я от ударов по щекам. Меня держали под руки, на весу. Голова стала тяжелой, ног я по-прежнему не чуял. И вообще, плохо соображал, что со мной произошло. Уже в секции, лежа на койке, я услышал слова, невесть откуда взявшегося доктора:
– Ничего страшного. Всего-навсего обморок. От голода.
Мне сделали два или три укола. Я уснул.
Когда проснулся, в секции горел свет, и было полно народу.
– Очухался? – спросил сосед, который носил мне пайки из столовой.
– Уже вечер?
– Вечер, – сказал он. – Только следующего дня. Ты проспал, почти, полтора суток. Помнишь, как утром тебе уколы делали?
– Нет,
– Здорово тебя тюкнуло. – Он сидел напротив, с большой кружкой. – Ты давай, вставай потихоньку, похавай. Парни вон, тебе всю тумбочку хавчиком завалили. А я сейчас кипяточку принесу.
– Ты не в обиде, – спросил я его, – что на твоей койке?
– Брось, какая может быть обида, когда ты еле живой. – Он встал и пошел за кипятком.
«Лучше б я не просыпался». Во сне я был там, далеко, очень далеко. Куда уже никогда не вернуться. Как жаль, что в жизни не бывает обратной дороги. Путь в прошлое заказан. И только память способна напомнить – откуда ты, где твои корни. Лишь ей под силу вернуть тебя туда, где ты начал делать первые шаги по земле, удивляясь и радуясь всему окружающему, где ты впервые заплакал от несправедливо причиненной тебе обиды, где ты еще не мог осознавать, зачем пришел в этот мир и каково твое предназначение.
Почти двадцать лет нес меня корабль надежды по штилевой реке жизни. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Как вдруг, невесть откуда налетевшая буря, превратила реку в сплошные, огромные, шипящие волны. От сильного шторма заскрипел, как старый протез, шпангоут корабля. Выдержит ли мой корабль натиск бури? Не ведаю. Но даже если и выдержит, ему уже никогда не причалить к пристани с милым названием «Детство».
…..На свет божий мать пустила меня в 1957 году, февральским утром, когда на дворе бесилась вьюга. Как-то она вспоминала: «Семь суток я с тобой маялась. Что только врачи не делали – ни в какую. Думала, не вынесу мук этаких, подохну. Нет, Господь миловал. На восьмые сутки разродилась. Врачи стянули мне живот простынями, да я с последних сил натужилась, вылетел как пробка и сразу орать начал. Взвесили – четыре девятьсот. „Богатырь“, сказали врачи. А я лежу и думаю: „Ни че себе, захреместок“. И так мне хорошо стало, будто заново родилась, а не сама рожала. Как первый раз принесли тебя кормить, я так с тобой и уснула. Посля уж, у спящей забрали… Отец, антиллигент московский, сам приехал с больницы нас забирать. И кто хоть коня-то ему молодого запряг. Он тогда ково умел, – ни холеры не разбирался. Сели мы в розвальни, а конь как хватит под гору, к Оби. Матушка моя родная. Генка аж на спину лег, вожжи тянет, норовит коня остановить. Где там, конь как шарахнул в сторону, нас ково куда. Вылетели из саней, как не бывало. Вылажу из забоя, а у самой поджилки трясутся: „не успела родить, на тебе, поди угробила парнишонку“. А буран метет, буран, насилу тулуп углядела. Добрела, разворачиваю, мордашку-то к уху прислонила – дышишь, живехонек. В стежоном одеяле, да в тулупе, ты и не учуял никого. Спишь себе, христовенький. Тут отец подъехал. Из саней то он вылетел, но вожжи не выпустил. Остановил все ж коня. Силушка тогда у него была, с кем хошь управиться мог»…..
…..Не знаю по какой причине, впрочем, причина одна – неволя, но чаще всего меня преследовали воспоминания детства, (и во сне часто), причем такие, о которых там, на воле, я попросту не помнил. Они всплывали в моей памяти так живо, остро, с мельчайшими подробностями, что порой я и сам диву даюсь – как такое возможно? Значит в глубинах подсознания человека есть укромные, скрытые до поры времени, потаенные уголки, в которых хранится самое сокровенное, самое дорогое, что в определенный период жизни дает о себе знать, заставляя тебя еще раз, но уже с упоительным волнением, с чувством сожаления безвозвратной утраты пережить какой-нибудь ранее, вовсе даже очень малозначимый для себя, эпизод жизни,….
….Деревня, с хантыйским названием Низямы, в которой мы жили, насчитывала не более двадцати пяти дворов. Стояла она на правом берегу Оби, на горке, в образовавшейся бреши вековой тайги. Низямы находились в восемнадцати километрах вниз по Оби от поселка Октябрьское, большого районного центра. В деревне были: маленький клуб, где раз другой в месяц показывали фильмы; школа-интернат четырехлетка, где учились не только наши, но и ребятишки со всех окрестных деревень; медпункт на дому; дом-лавка, в которой продавалось все необходимое; конюшня, лошадей на пятнадцать, и конюховка, в которой дед Аким шорничал, саморучно изготавливая всю конную упряжь; приземистая кособокая пекарня, где моя мать одна выпекала хлеб на всю деревню и школу-интернат, а так же для рыболовецкой бригады, возглавлял которую мой отец, окончивший в Ханты-Мансийске курсы бригадиров лова.
Большую часть деревни населяли обрусевшие ханты, давным-давно забросившие кочевой образ жизни. Родной язык они наполовину забыли, однако и по-русски говорили неважно, и только немногие изъяснялись довольно-таки сносно. Для большинства деревенских мужиков единственной работой было то, что они занимались исконным в Сибири промыслом – добычей рыбы, и таким образом зарабатывали копейку. Ну и, понятное дело, все мужики слыли заядлыми охотниками. Как такового, артельного охотничьего хозяйства не существовало, но в свободное время мужики, обязательно с собаками, в тайгу хаживали. И надо сказать не без пользы. Когда сохатого подстрелят, когда глухарей или косачей тащат. Бывало и медведя брали, правда специально на него не ходили, нужды не было. Лишь в том случае убивали косолапого, когда его травили собаки, иначе, если не убить, на их лай из деревни примчится еще свора собак, и тогда зверь будет подвергнут мучительным издевательствам до самой своей кончины. Стрелять в него, взятого в плотное кольцо десятком остервенелых и свирепеющих собак, никто не решался, боялись ненароком зацепить чью-нибудь лайку. А это ничего путного не сулило. Если медведю удавалось противостоять собакам до наступления ночи, они бросали его, отходили метров на двадцать и по кругу валились отдыхать, дожидаясь рассвета, а он обессиленный и окровавленный падал наземь. Ему уже не хватало сил не то чтобы попытаться уйти под покровом ночи, но даже на то, чтобы он мог зализать свои кровоточащие раны. Лишь изредка из его пасти вырывался негромкий рык, но собаки на него не реагировали. То был рык не угрозы, скорее он походил на последнюю песнь зверя… К рассвету, истекший кровью, он уже был на грани бесчувствия, и налетевшая с новой силой с еще большим остервенением свора, не встретив сопротивления, заживо разрывала его на куски, догрызала до костей, до сердца…
Собак в деревне хватало. Другие мужики держали по две, а то и три рабочих лайки – иной породы в наших краях не водилось. Если чья-то сука приносила щенков, и те никому на этот момент были не нужны, их тут же топили. Никто из хозяев никакого жилья, будок, конур не строил. Собаки жили под открытым небом. После вьюжной ночи, из-под снега только струйки пара видны.
У нас тоже была собака. Звали ее Каштанка. Красивая сибирская лайка, которая все-то своими собачьими мозгами понимала, вот только говорить человеческим языком не умела. На охоте Каштанка была дока, за что как я понял много позже, отец ее и держал. В тайге отцу шибко утруждаться не приходилось. Каштанка к самым его ногам выгоняла то зайца, то соболишку, то на какой-нибудь березе «держала» глухаря или рябчиков. Отцу оставалось лишь метко стрелять, не промазать, чтобы труд Каштанки не пропал даром. Говаривали, если в таких случаях промахиваешься, собака затаивала обиду. Но отец стрелял, можно сказать, на отлично. Этому ремеслу его, еще совсем пацаном, обучил отец, мой дед, который во время войны был капитаном и воевал в эскадрильи бомбардировщиков дальней авиации, имея должность командира звена. Так вот, в свободное от полетов время, отец приводил своего сына на стрельбище при аэродроме, где и обучил его всем премудростям стрельбы из винтовки и пистолета.
Похоже, мой отец не забыл тех уроков, и Каштанке не на что было серчать. Она выполняла свою работу на все сто, а хозяин свою, на те же сто. Каштанка, помимо боровой дичи и мелкого зверя, могла запросто уцепиться и за «хозяином тайги». Видимо эти качества были ей переданы генетически, с молоком матери, которая на десятом году своей жизни в одиночку ушла в тайгу, и с тех пор ее никто не видел. Зная охотничьи повадки Каштанки, отец старался, по возможности, держаться подальше от троп матерых зверей, понимая, что одна собака, сохатого, а тем более медведя не удержит и может очень даже запросто погибнуть в порыве азарта. Что, однажды, было едва не случилось. Отец, сдалека, по лаю Каштанки, определил, что та уцепилась за лося. Он быстро зашагал в том направлении. Но уже на подходе услышал, как собака отрывисто взвизгнула и умолкла. По неглубокому первоснегу он без труда отыскал Каштанку. Та лежала в пяти метрах от лосиной тропы, в ложбине, густо поросшей молодым, в рост человека, пихтачем и рябиной. Язык ее вывалился на снег, она часто дышала и смотрела на свет мутными глазами, видимо, не в полной мере осознавая, что же произошло. На левом боку ее зияла длинная, глубокая рана, из которой стекала кровь, от чего снег у ее живота, густо краснел и оседал. Когда хозяин опустился перед ней на колени, Каштанка, учуяв его, нашла в себе силы и неимоверным усилием воли повернула к нему морду и даже попыталась вильнуть хвостом, который лишь чуть содрогнулся. В белесых глазах собаки стояли слезы, но взгляд ее не выказывал и малейшего чувства боли, а напротив, она смотрела так, будто считала себя виноватой в случившемся, и как бы пыталась сказать хозяину: «Оплошала я. Ты уж прости меня за это». Тут же глаза ее подернулись белой пеленой, морда упала навзничь и она забылась – сознание покинуло ее.
– Держись, Каштанка! – в ужасе закричал хозяин, и быстро начал скидывать с себя одежду. – Сейчас, сейчас…
Не думая о морозе, он разделся до пояса, постелил рядом с собакой байковую рубаху, поверх тельняшку, которую разрезал ножом повдоль, аккуратно переложил собаку и рукавами рубахи закрепил повязку, чтобы не спадала при ходьбе. Одевшись и закинув ружье за плечо, он так же аккуратно взял Каштанку на руки и осторожно, но торопко, зашагал домой.
…..На деревянных санках отцовской конструкции я, как и другие ребятишки, катался с горы. Последний раз скатился неудачно. С пол горы санки вдруг вильнули в сторону от накатанного места и въехали на бесснежную чистину, обдуваемую ветром. А так как катался я лежа на животе, то от резкой остановки санок, уже без них, вначале щучкой, затем кубарем закончил спуск с горы. Ссадил себе лицо, намял до боли бока, насилу с санками взобрался на гору и, сопровождаемый смешками ребятни, поплелся домой. Войдя в избу, я надеялся на мамкину жалость, но увидев окровавленную, лежащую у печки Каштанку, разом забыл о своей боли. Подле собаки суетился отец и громко, почти крича, говорил матери:
– Живо беги к Дарье! Спирт нужен. И к медичке заскочи, спроси бинтов и ваты, побольше!
– На-а-а лешак, – пропела мать. – Ухайдакал собачонку! Язви тя…
– Шевелись, женщина! – прервал отец ее причитания. – Раскудахталась!
Мать, что-то бормоча себе под нос, накинула жакетку и, на ходу повязывая полушалок, не обращая внимания на вошедшего меня, выскочила в сени, сильно хлопнув дверьми.
Я все еще стоял у порога и всхлипывал. Отец, промывая раствором марганца рану собаки, совсем как равному, сказал мне:
– Не хнычь! Тайга брат, она и есть тайга. Всякое случается. – Помолчал, затем добавил. – Не стой как истукан! Раздевайся, будешь помогать. Мужик ты в конце-то концов?
Слова отца подействовали на меня, как бы отрезвляюще, что ли. Я стянул валенки, бросил на сундук пальто, шапку и, сдавливая в себе чувство страха, медленно подошел к Каштанке. Мне показалось, что она не живая, глаза у нее были закрыты, из пасти, как прикушенный, торчал кончик языка, и только мерное движение ее живота, говорило о том, что она дышит.
– Па, – спросил я, – а кто ее так?
– Да сохатый, – ответил отец, – мать его за ногу.
– А она не умрет?
– Не знаю Вовка, – безо всякой надежды в голосе, ответил он. Похоже, что отец и сам сомневался – выкарабкается Каштанка, или же нет. Рана ее была настолько глубокой, что были видны, до бела содранные, ребра. И ко всему, она потеряла много крови. – Будем надеяться. Авось и поправиться.
Вскоре пришла мать. Выставила на стол бутылку спирта, бинты, вату и какие-то пузырьки с жидкостью.
– Вот это хорошо, – сказал отец, рассматривая принесенные матерью лекарства. – Сейчас будем штопать.
Отец взял исконно стоявшую вдоль стола тяжелую лавку и поставил ее над Каштанкой. Потом сходил в кладовку и, вернувшись с веревкой, принялся ею связывать лапы собаки. Связав задние, он притянул их к ножкам лавки, то же сделал и с передними, притянув их к противоположным ножкам. Морду Каштанки несколько раз обмотнул бинтом. Таким образом собака оказалась нейтрализована, и уже никоим образом не могла хоть как-то воспротивиться боли, причиненной ей во время предстоящего лечения.
Когда отец разлил по чашкам и тарелкам спирт и лекарства из принесенных матерью пузырьков, в доме запахло больницей. Мне хорошо запомнился этот запах, с тех пор, как год назад родители возили меня в районную больницу, где врач вырвал мне больной зуб.
Увидав в руках у отца большую скорняжную иголку с ниткой, я сообразил, что он сейчас будет делать и, испугавшись, убежал в комнату, зажав ладошками уши. Я бухнулся на свою кровать и умыкал голову под подушки, ожидая, когда же Каштанка начнет скулить и вырываться от боли. Не знаю, сколько прошло времени, но Каштанка все молчала, и я, уставши ждать, согревшийся после улицы, незаметно для себя уснул.
Меня разбудила мать.
– Вставай, Вовка, – говорила она, толкая меня в бок. – Ужинать пора.
– А Каштанка не умерла? – спросил я, усевшись на кровати, испуганно глядя в глаза матери.
– Да Христос с тобой! – сказала она и перекрестилась. – Отец бок то ей починил, теперь бог даст, поправится.
За столом отец налил себе полстакана спирта из той самой бутылки.
– Ну, – он поднял стакан, – за Каштанкино выздоровление!
Выпил, через маленькую паузу выдохнул, занюхал куском хлеба и принялся за еду.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































