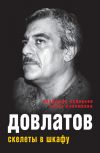Автор книги: Владимир Соловьев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я помню Сережу угрюмым, мрачным, сосредоточенным на своем горе, которому не давал не то чтобы излиться, но даже выглянуть наружу. Помню типично довлатовскую хмурую улыбку – в ответ на мои неуклюжие попытки его расшевелить. Особенно тяжко ему приходилось в тот год перед последним в его жизни 24 августа. Вернувшись из перестроечной Москвы с чудесными вестями, я первым делом отправилась к Сереже его обрадовать: в редакциях о нем спрашивают, хотят печатать, кто-то из маститых отозвался с восторгом.
Сережа был безучастен. Радости не было. Его уже не радовали ни здешние, ни тамошние публикации, ни его невероятное регулярное авторство в «Нью-Йоркере», ни переводные издания его книг. Он говорил: «Слишком поздно». Все, о чем он мечтал, чего так душедробительно добивался, к нему пришло. Но слишком поздно. Даже сын у него родился, которого вымечтал после двух или трех разноматочных дочерей. И на этот мой безусловный довод к радости Довлатов, Колю обожавший, сурово ответил: «Слишком поздно». Дело в том, думала я, что за долгие годы непечатания и мыканья по советским редакциям у Сережи скопилось слишком много отрицательных эмоций. И буквально ни одной положительной. Если принять во внимание его одну, но пламенную страсть на всю жизнь – к литературе. И те клетки в его организме, что ведают радостью, просто отмерли. Вот он и отравился этим негативным сплошняком.
Причин для безрадостности в тот последний Сережин год было много: и радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и, как следствие, его запои на жутком фоне необычайно знойного, даже по нью-йоркским меркам, того лета. Что скрывать – у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось, как он хотел. У него вообще не писалось.
Он наконец уперся в эмигрантский тупик: ему больше не о чем было писать. А писать для американцев, как ему злорадно советовали завистливые друзья-враги, было просто тошно. Да и несбыточно. Была исчерпанность материала, сюжетов – не только литературных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы – попытка уйти, хоть на время, из этого тупика, в котором он бился и бился. Очень тяжко ему было перед смертью. Смерть, хотя и внезапная и случайная, не захватила его совсем врасплох.
Я часто думаю: как жестоко, беспощадно, с однообразной неумолимостью распорядилась им судьба! И как чудовищно несправедливо. Не о его преждевременной, случайной и страшной смерти я думаю. Хотя зловещий парадокс смерти в машине «скорой помощи», где Сережу умертвили, а не спасли, точит, мучит до сих пор. Нет, я не об этом, неминуемом. Но различаю какую-то потустороннюю язвительность, издевку судьбы в его посмертной литературной невероятной славе. Довлатов мечтал, опубликовав все лучшее, что написал, произвести сенсацию в русскоязычной эмиграции. И трезво отметил:
«Но сенсации не произошло и не произойдет». Если бы он знал, если бы только ему дано было узнать, какая общенародная гремучая слава уготована была ему в России! Что его заждался и возвел в культ тот самый массовый читатель, которого он когда-то провидчески себе предсказал.
Но только через год – всего лишь год! – после смерти Довлатова в России начали одна за другой выходить его книги. Он превратился в культовую фигуру. Достиг максимальной известности, о которой даже не мечтал, даже вообразить не мог. Но так об этом и не узнал. Вся его писательская слава и звездная репутация – посмертные.
Почему я так часто вспоминаю Довлатова? Да потому, вестимо, что мы с ним – близкие соседи. Угораздило меня поселиться в Куинсе, неподалеку от кладбища, где вот уже четверть века лежит под скромной мраморной стелой с высеченным его профилем неповторимый человек и писатель Сережа Довлатов. И когда я прохожу мимо кладбища, мне иногда невтерпеж донести до него дивные вести, докричаться до него.
И я кричу:
– Сережа! Ты первый писатель на Руси! Твои мечты не просто сбылись – ты стал кумиром нации! Самый-самый популярный, знаменитый, прославленный и любимый вот уже двадцать лет! Супер-пупер-бестселлерист! Ты переведен на 36 языков! Феномен Довлатова!
Почему-то с покойным Сережей меня тянет перейти на небывалое в наших отношениях «ты».
Нет ответа. Но я продолжаю по привычке окликать Сережу, хотя знаю, что его уже нет нигде.
P. S. Реплика на фейсбуке по поводу мытаряНе слежу за фейсбучными полемиками, а потому не очень понимаю, почему снова возник «мытарь». Но для меня – очень кстати.
По поводу мытаря и моего употребления этого – оказывается, сакрального – слова. Встреваю с опозданием (упустила!), но по необходимости. Ибо была обвинена в крутом невежестве, назвав в своем мемуарном эссе Сережу Довлатова, убившем годы, чтобы настичь советского гутенберга и не напечатавшего ни строчки – мытарем, поставившим рекорд долготерпения.
Оказалось, я допустила позорный, умопомрачительный по невежеству «ляп», ибо мытарь в библейских текстах – сборщик налогов в древней Иудее. Следовательно, Довлатов, в моей кошмарной презентации, – древнеиудейский откупщик. Никем и ничем другим, в русском лексиконе, злосчастный Довлатов быть не может.
Эта библейская коннотация «мытаря», оказывается, интуитивно сечется молодым российским поколением, которое ежедневничает с Библией по правую руку, и оттого между мной и молодыми библеистами разворачивается поколенческая пропасть, куда рухнул и несчастный, ни к какому мытарю не причастный Володя Соловьев, попытавшись вмешаться в спор.
Можно, конечно, посочувствовать поколенческой юнице, зацикленной на Библии и черпающей оттуда свой словарный запас. Но что-то сомнительно. Не так уж прилежно и внимательно читает моя критикесса свою настольную Библию. Могла бы заметить, что уже в Евангелии семантика «мытаря» расширена, до людской типизации – хотя бы в притче о смиренном мытаре и гордом фарисее. Не говоря уже о церковной литературе, где мытарь – страдающий кающийся грешник, смиреннейше просящий Бога о помиловании и получающий его. Короче, образ «смиренного мытаря» – страдающего хлопотуна-долготерпеливца – сложился на Руси уже давно – и в лоне церкви и в миру.
И уже в чисто бытийном, обиходном толковании «мытарь» вместе с охапкой родственных, производных от него слов (мытарства, мытарить, мытариться, замытарить, мытарствовать и т. д.) вошел в безрелигиозное советское лексическое пространство, где и просуществовал, оттеночно изменяясь по пути, уж точно до начальных 90-х и хотя захирел и замытарился новоязом, но безусловно был внятен, был узнаваем и находил отзыв у нынешних российских поколений. Этот мой мемуар о Довлатове уже давно гуляет по страницам русскоязычных СМИ, включая «Московский комсомолец», «В новом свете» и пр., включен в мои – как сольные, так и совместные с Соловьевым – книги, включая эту, и ни разу не была озвучена претензия по поводу мытаря. И никто, вестимо, не восприял Сергея Довлатова, в моей подаче, библейским персонажем. Это у вас, ретивая младопоколенница, от лукавого.
Я не совсем сошла с ума и с языка, называя – не уничижительно, а с неким судьбоносно-церковным смыслом – Довлатова мытарем. Слово было взято из животворной гущи общеупотребительного русского языка.
Слово было живым, незахватанным, с древнейшей родословной, слово с содержанием и с эмоциональным окрасом. Семенник, родивший немало однокоренников.
И это живое, сущее, с длинным хвостом ассоциативных связей историческое слово объявляется несуществующим в народной речи никогда. И мне, филологу и классицисту, предлагается совершить ритуальное убийство все еще жизнеспособного, из глубины общенародной речи взятого слова – во имя неприкосновенной сакральности Библии, где это слово – как мертвый атрибут Священного Писания – навеки и во веки веков погребено.
Ну уж нет. Исключительно мирской, начисто обезбибленный мытарь никогда не воспринимался в советские – да и в постсоветские – времена этаким лексическим сакральным трупом. Предлагаю произвести воскрешение – насильственно убиенного и объявленного мертворожденным в недрах Библии – слова (привет Шкловскому!) Лично мне – по времени, по жизни – помнится обиходное толкование мытаря как горемыки, бедолаги – с подсознательно церковным оттенком страстотерпца.
Однако нынешние ортодоксальные библеобуквоеды, ратующие за священную неприкосновенность (в том числе – лексическую) своей Библии-ежедневника, гневно отвергают любое мирское толкование мытаря. Нет такого и никогда, кроме как в библейской древней Иудее, не было – ни в жизни, ни в одном из словарей русского языка.
В самом деле, в словарях задействован прежде всего библейский мытарь, священный персонаж Священного Писания. Но тут же приводится и неопровержимо реальный, исторический мытарь – сборщик податей в Древней Руси. Именно этот персонаж был «узурпирован» переводчиками русской Библии и стал лексической окаменелостью.
Но одушевленный, исторически конкретный, со своей лексической окраской мытарь продолжал крутиться в животворных недрах русского языка. Изменяясь в значеньи, тональности, речи (зафиксировано Далем в его словаре) и – произведя целое семейство родственных слов. Все они – производные от «мытаря» и, натурально, в той же мытарской эмоциональной коннотации – приведены во всех словарях современного русского языка.
Мы можем вычислить украденного русской Библией лексического мытаря – слова коренного, устойного, содержательного – из этого его однокоренного семейства. Берем по ближайшему родству (из этимологического словаря – «от мытарь произведено мытарство») производное слово «мытарство».
Но тут подскакивает моя, знающая толк в языкознании обвинительница и гневно вопиет (в тексте, мною упущенном) – производить священного мытаря от мытарства не можно никак! Будет кощунством, святотатством!
Путает лингвистику с библеистикой. Что тут скажешь?
Ничего.
Владимир Соловьев Из довлатовского цикла
Уничтоженные письмаВыбранные места из переписки с друзьями
«Как смотрят души с высоты на ими брошенное тело», так, должно быть, взираете вы на меня и мое чересчур большое тело – с высоты и свысока. И может быть, вы правы. Но не слишком ли вы духовны – так и струитесь, а в руки не даетесь?
Ваша гениальность стоит между нами, как религиозный предрассудок. Если вы не прекратите топтать мое большое заурядное сердце, я поступлю жестоко. Загоню ваши факсимиле Пушкинскому дому из расчета четыре рубля штука, возьму «Агдама», надерусь и буду орать, что вы крадете метафоры и синекдохи у Иосифа Бродского.
Бойтесь меня, Юнна!
СД – ЮМ (1976 г.)
Довлатов бомбардирует меня письмами из Ленинграда. На последнее, клинически кокетливое и насквозь фальшивое, я решила не отвечать. Он – человек отраженный, из-за этого комплексующий, страдающий и злобствующий. Держись его подальше – он тебя ненавидит за Сашу Кушнера. Он может только ненавидеть, я знаю таких людей, – Кушнера он тоже возненавидит неизбежно, впитав предварительно в себя исходящие от него, хоть и слабые, лучи. Он объясняется мне в любви, а на самом деле – не мне, а моей славе. Он гордится тем, что читает чужие книги еще в рукописи, из первой перепечатки, а если повезет, так в первом экземпляре, – и он ненавидит их авторов. Меня он тоже возненавидит: уже ненавидит, но пока что не знает об этом. А я – знаю.
ЮМ – Владимиру Соловьеву (1976 г.)(Из уничтоженных писем)
Ах, как же она не права! Какое умное и какое несправедливое письмо!
Так или приблизительно так думал мой авторский персонаж, мой alter ego, мой двойник, мой чрезвычайный и полномочный представитель, которому я вынужден, ввиду внезапно возникших экстремальных, типа форс-мажора, обстоятельств, передать бразды правления. Теперь я только автор этого рассказа, а не его протагонист, хотя как автор я оставляю за собой право время от времени появляться самолично в ходе повествования. Если понадобится. А изначальный замысел был совсем иным – без никакого вымысла или умысла: публикация уничтоженных писем с разъяснительной преамбулой.
Как обозначить героев? Псевдонимами? Все-таки нет. Пусть будет секрет Полишинеля: реальные инициалы с легко угадываемыми выдающимися фигурантами нашей изящной словесности, к которой отнесем и этот рассказ, если он у автора вытанцуется: СД и ЮМ. Зато остальные литературные випы – под собственными именами.
А рассказчика, может быть, слегка зашифровать? Или позаимствовать напрокат из предыдущего моего рассказа «Заместитель Довлатова», где он дан анонимно и безымянно, хоть ему и передано авторство фильма «Мой сосед Сережа Довлатов»? Пусть ему тогда принадлежит честь открытия этих уничтоженных и восстановленных из пепла писем СД, когда он рылся в архиве недавно умершего в Нью-Йорке известного писателя, эссеиста и политолога Владимира Соловьева. Мне не впервой выдавать себя за покойника. См., к примеру, изданную семь лет назад мою книгу «Как я умер». Вот как мне видится драйв этого рассказа из моего post mortem будущего.
На гражданской панихиде по Владимиру Соловьеву – в том же самом похоронном доме на Куинс-бульваре, где четверть века назад мы прощались с Довлатовым, – ко мне подошла его вдова Елена Константиновна Клепикова и попросила разобраться в архиве мужа, перед тем как передать его на хранение в Принстонский университет. Согласился сразу – из долга перед покойником и его вдовой и не в последнюю очередь из любопытства. С Соловьевым не скажу, что был на короткой ноге, но встречались довольно часто – по службе и на проходах, его отвязные мемуары и провокативные эссе нравились мне больше его же чистой прозы, хотя в рассказе «Заместитель Довлатова», где я прототипом и убалтываю довлатовоманку не сам по себе, а благодаря знакомству с ее кумиром, что-то ему удалось схватить, правда до самой сути наших с Ниной отношений, до нашего с ней подполья он не дошел, а потому круто ошибся, предсказав нам скорый разрыв. Именно из-за Нины я и согласился написать для ЖЗЛ книгу о Довлатове, хоть и относился к нему с прохладцей, без особого энтузиазма, а только чтобы продлить наши с ней отношения. Да и Соловьев меня уломал: как он говорил, для восстановления справедливости и в опровержение похабной книжки о нем его завистника и ненавистника Валеры Попова в малой серии той же ЖЗЛ.
Вот в этом и была главная, личного свойства, причина, почему я тут же согласился на предложение Елены Константиновны Клепиковой: подключить к этой работе Нину, отношения с которой возобновились после их с мужем развода, но шли через пень-колоду. На этой панихиде я познакомил Нину с обеими вдовами, с обеими Еленами – она, понятно, больше заинтересовалась вдовой своего любимого писателя, с которой я тесно сотрудничал, работая над книгой о ее муже, и даже подружился, несмотря на разницу в возрасте. Такие панихиды носят тусовочный характер – встречаются те, кто давно не виделся, и не всегда узнают друг друга, а то и впервые знакомятся, как моя Нина с обеими вдовами. Местоимение «моя» употребляю условно. Если бы! Клепикова не возражала, что мы с Ниной придем вдвоем.
Совместная эта работа нас сблизила поневоле: Нина согласилась на время работы переехать ко мне, чтобы не мотаться каждый день из Бруклина в Куинс. Соловьевский архив был в таком хаотическом состоянии, что разбирать его и классифицировать – сплошная мука. Что, наверное, объясняется внезапной Володиной смертью в нелепой и загадочной автомобильной катастрофе, но об этом как-нибудь в другой раз, да и полицейское расследование еще не закончено. Наградой за наши муки были оригиналы писем Окуджавы, Бродского, Эфроса, Слуцкого, Мориц, Кушнера, которые, правда, Соловьев уже публиковал целиком или отрывочно в своих бесчисленных книгах: графоман, хоть и не без искры божьей. А Достоевский и Пруст – не графоманы? Любой писатель – от мала до велика – графоман по определению, ибо графоманит как угорелый. Без графомании нет писателя.
Настоящий прорыв у нас с Ниной произошел, когда мы, передавая друг другу страницы, читали начатый покойником еще в Москве, где-то в середине 70-х, но так и не оконченный опус, который, заверши его Соловьев, мог бы, кто знает, стать magnum opus, судя по его великому замыслу. Название – «Места действия. Русский роман с еврейским акцентом». Подзаголовок имел прямое отношение к персонажам романа – евреям, неевреям и антисемитам, а титульное названием – к местам действия: Москва – Ленинград – Малеевка – Комарово – Коктебель и далее везде, вплоть до забытой богом псковской деревушки с загадочным названием Подмогилье. Впрочем, потом это название объяснялось: на холме там стоял тевтонский крест над погибшим в допотопные времена псом-рыцарем. Потом железный крест исчез и появился снова на деревенском кладбище: какой-то пройдошливый православный водрузил его над пустой могилой своего сына, когда пришла похоронка с фронта, где он погиб от пули пса-фашиста.
Мы с Ниной увлеклись круто закрученным сюжетным драйвом и легко узнаваемыми персонажами: известные писатели, режиссеры, художники, давно уже на том свете, а теперь туда же и автор, который кичился, что был их младшим современником. По жанру – роман-сплетня с детективным сюжетом, любовным скрежетом и философическим уклоном: все в одном флаконе, в одной романной упаковке! А потом пошел роман в романе – «Большой эпистоляриум», а был, значит, где-то еще и малый, да? Такие письма теперь, в эпоху емелек, текстовок и эсэмэсок, никто не пишет, да и тогда вряд ли писали, нафталин и анахронизм, но автор объяснял это эпистолярное половодье писательской профессией своих персонажей и летним сезоном, когда все разъехались кто куда и отсутствие живого личного общения сублимировали письмами. Почтовый онанизм, конечно, но читать интересно благодаря аутентичности – очевидно было, что Соловьев скрымздил чужие письма и, как есть, вставил их в свой охренительный по замыслу, но, увы, так и не конченный русский роман с еврейским акцентом, хотя с полтысячи страниц машинописи набежало, не хило! Перед нами был черновик, и Соловьев не успел еще литературно обработать реальные письма, а только снял с них копии и механически вставил в текст. Вот тут нас как громом поразило – Соловьев бы убил меня за это клише.
Честь обнаружения писем ее любимого писателя принадлежит, само собой, Нине. Она вскочила, сделала по комнате несколько па, а потом бросилась ко мне и расцеловала, что случалось с ней крайне редко, если случалось вообще – не припомню. Несмотря на близкие отношения. Но чтобы такой порыв ни с того ни с сего?
А потом и вовсе закружила по комнате, прижимая к груди машинописные страницы. На шум вошла Клепикова, вид у нее был еще тот – краше в гроб кладут. Вот вроде бы улица с односторонним движением, один целует, а другой подставляет щеку, а как убивается! Такая нелепая смерть, мог бы жить и жить. Не до бесконечности, конечно, хоть и вечный жид, несмотря на православную фамилию, говорил, что предки из кантонистов.
– Что-нибудь случилось? – спросила Елена Константиновна.
Нина бросилась к ней на шею со слезами на глазах. От полноты чувств. Никогда не видел мою-не-мою Нину в таком экзальтированном состоянии. Елена Константиновна приняла ее слезы за сочувственные и стала ее же утешать, хотя вроде должно быть наоборот.
– Можно скопировать эти страницы? – спросила Нина.
– Что-нибудь интересное? – безучастно сказала Елена Константиновна, показала, где стоит ксерокс, и не дожидаясь ответа, вышла из комнаты.
– Письма СД! – сказала Нина. – Нигде никогда не публиковались!
В этом ей можно было поверить: она знала СД наизусть, да еще собирала здешние реликтовые издания, которые он сам оформил.
До меня, наконец, дошло. Пусть она целовала во мне другого, я был proxy, заместителем СД, как верно назвал меня Соловьев, да хоть бы и так, но все-таки и меня тоже! Как в том анекдоте, переиначив его гендерно: если в объятиях своего мужа вам снится чужой муж – вы потаскуха и бля*ь, но, если в объятиях чужого мужа, вам снится свой муж – вы верная и примерная жена. В смысле «изменяешь любимому мужу с нелюбимым любовником ты». К какой категории отнести мою любушку, и ежу понятно. В моих объятиях ей снится СД (если снится), которого по своему возрасту и его ранней смерти она никогда не видела. Разминулись во времени – и слава богу.
Благодарный до умиления, я и спорить не стал, когда она попросила первой прочесть эти письма.
– Право синьорины, – сказал я.
Удивленно на меня воззрилась, улыбаясь тому, что я по-рыцарски назвал ее синьориной.
– Право первой ночи, – пояснил я.
– В самый раз для твоей книжки. Вот будет сенсация – неопубликованные письма Довлатова!
Куда большая, чем мы думали поначалу, – это были копии уничтоженных писем!
Ну, что рукописи не горят – это, положим, лажа. Кто это сказал? А, булгаковский Воланд. Даже странно такое слышать от этого бессмертного всезнайки. Еще как горят! Не дошло большинство пьес Эсхила, Софокла, Еврипида, очень выборочно – куски из «Истории» и «Анналов» Тацита. А десятая глава «Евгения Онегина»? Второй том «Мертвых душ»? Да мало ли! Теперь представьте, что второй том «Мертвых душ» нашелся. Я не сравниваю, конечно, но при посмертной славе СД каждое писанное им слово – на вес золота. Сколько опубликовано его радиоскриптов, которые он считал халтурой и завещал не печатать. А сколько писем! Он был великим мастером эпистолярного жанра – вровень с Флобером и Чеховым. Часть его писем пропала – мать уничтожила письма СД из армии. А жаль. Другая крайность – выстраивать из писем СД себе пьедестал: самый наглядный пример – так называемый эпистолярный роман, хотя на деле антироман его друга-врага. В конце концов корреспонденты возненавидели друг друга, и выживаго продолжает ненавидеть покойника спустя четверть века после его смерти. Хотя по гроб жизни должен быть ему благодарен своей, какой ни есть, а известностью, которую приобрел исключительно благодаря скандальной публикации этой переписки, несмотря на моральные, а потом и в судебном порядке возражения вдовы.
По мне, однако, лучше использовать контрабандой, себе в карман, документы замечательных людей, чем их изничтожить: варварство и вандализм! Когда на мой запрос ЮМ сообщила, что сожгла ленинградские письма к ней СД, я готов был помчаться к ней через океан, чтобы, как Настасья Филипповна пачку денег, вытащить эти обгорелые письма из огня, пока/если не поздно. ЮМ сжигала ненужные бумаги в большой железной пепельнице, это мне Соловьев сообщил. Анатолий Мариенгоф пришел в отчаяние, когда сын его умершего друга, великого Качалова, уничтожил все записи отца, которые, помимо того, что документ эпохи, содержали блестящие, пусть и едкие, характеристики известных современников. Теперь, однако, ситуация изменилась самым удивительным образом: если ЮМ действительно сожгла эти письма, то только оригиналы, и у меня в руках оказались их копии, которые Соловьев снял с оригиналов, а те ЮМ дала ему уж не знаю зачем – для литературных надобностей: тогда он как раз сочинял свой роман, либо потому, что он был в этих письмах помянут, пусть и в негативном контексте. ЮМ сделала приписку, приведенную в качестве одного из эпиграфов к этому опусу, который за меня пишет покойник. Пусть парадокс, что с того?
Горацио, есть в этом мире вещи,
Что философии не снились и во сне.
Какая интрига, однако! И не одна, а несколько переплелись друг с другом, как змеи округ прекрасной головы горгоны Медузы или в романе Мориака, так и названном «Клубок змей», – какой драйв для моей книги про СД!
Мы вернулись домой, хотя, может, и преждевременно, выдавая желаемое за действительное, называю домом свою холостяцкую квартиру. Если бы! Нина приняла душ и устроилась с письмами на loveseat, не знаю, как по-русски. Я сел за компьютер и сбросил текстовку о найденных письмах СД его вдове. Глянул на Нину – она улыбалась, а в глазах снова слезы. Первый раз вижу ее такой! Обычно сдержанная, отстраненная, даже в постели. Это про нее Пушкин написал «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…», это она нежна без упоенья и, более того, очень редко делит мой пламень поневоле, увы и увы мне. Я подошел к ней, погладил по волосам, поцеловал, хотел слизать ее слезы и моментально вспомнил соловьевский рассказ «Женские слезы, женские чары», знаю, кто прототип, молчу. Нина отстранилась:
– Слушай, – и стала читать письма СД.
…Странный вы, право, человек, Юнна! На простой к вам вопрос: «Нет ли каких поручений в Ленинграде? Какие-нибудь непошедшие рукописи забрать, оскорбить кого-либо, побить?» – вы просите меня купить вам эмалированный чайник. Самое удивительное, что я, готовый для вас на все, этой просьбы выполнить не сумел. С готовностью бы выслал, ежели бы наличествовал. Заранее, признаться, мне не верилось. Это означало бы – в Ленинграде есть что-то, кроме Медного всадника и Адмиралтейства.
А лично у меня чайника нет – отдал при разделе бывшей жене, а себе оставил алюминиевую хреновину с ручкой – для кофе. Название забыл. Похоже на имя героини Марлинского.
Короче, не поверив своему инстинкту – он же внутренний компас, – я отправился в непогоду по здешним посудным лавкам и обошел девять штук – совершенно напрасно!
Эмалированные чайники внезапно исчезли, испарились – это вам любой подтвердит! Так бывает. Месяц назад пропали куриные яйца, одновременно по всей стране – неразрешимая биологическая загадка! Джинсы легче приобрести, чем гречневую крупу или кофе. Таковы сюрпризы нашей плановой экономики.
Операция продолжается, хотя я уже не надеюсь, – ищу в пригородах Ленинграда.
Хотите, я украду Рубенса из Эрмитажа? Это проще. А чайников нет. Нормальные женщины, в отличие от вас, требуют грильяж или колготки.
Обратите внимание, Юнна, нашими эмигрантами овладевает какой-то зарубежный вид советского идиотизма. О цене колготок сообщают даже глубокие, умные люди. Откуда появилось это мерзкое слово? И какова этимология? Кол в глотке? Кал в глотке?.. Ужас!
Я это к тому, что атмосфера в Ленинграде привокзальная. Неожиданно выяснилось, что все окружающие – евреи.
В Москве, впрочем, та же история. Это грустно.
Что нам делать в этой ситуации? Пожениться и уехать в Америку? Вы бы предавались цветаевскому аскетизму и чувствительности, а я – тренировал боксеров-негритят и мыл автомобили. Что ни говорите, Юнна (физическое удовольствие произносить ваше имя), жениться на вас можно хотя бы из снобизма…
* * *
…Я убедился с горечью, что вы не потерпите моих скромных литературных дерзаний. А турнир приматов не для меня. Я не стану подвергать вас дальнейшему чтению. Найду себе других читателей – военнослужащих, баскетболистов… Я не дуюсь. В сущности, рассказы к ним и обращены. И реальны лишь те мерки, на которые эти сочинения претендуют. Шило – страшное оружие, но идти с ним на войну глупо.
* * *
Мне близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать.
В Ленинграде есть такой старый писатель – Геннадий Самойлович Гор, сейчас он сидит в психушке и канючит у всех шесть копеек, а до этого, говорят, писал, как неандерталец. Ни разу не читал, но беру его в свои учителя.
Мне нравится Куприн, из американцев – О’Хара. Толстой, разумеется, лучше, но Куприн – дефицитнее. Нашу прозу истребляет категорическая установка на гениальность. В результате гении есть, а хорошая проза отсутствует. С поэзией все иначе. Ее труднее истребить. Ее можно прятать в кармане и даже за щекой.
Юнна! Вы пишете: «Кушнер стал чемпионом по техническим причинам. Ленинградский матч не состоялся» и т. д. Вы имеете в виду Бродского? Я не понял.
Кушнер не является его Сальери, хоть и не любит его стихи. Сам-то он, говоря о Бродском и о себе, антитезу «Моцарт – Сальери» заменяет иной: «Моисей – Аарон». А вдруг в этом что-то есть?..
* * *
…В Ленинграде, между тем, проблема гениальности стоит чрезвычайно остро. Гениальны все без исключения. Москва в расчет не берется. В цене здесь красноречие, неоампирные традиции и культуртрегерство. Человек, знающий больше одного языка – хотя бы полтора, – одержим здесь манией величия. Умеющий писать стихи – гений. А пишут их буквально все – от мала до велика.
В результате – поэтическая инфляция, безответственность и одуряющая скука. Вечный турнир уязвленных самолюбий. Бесчинства неокультуренных темпераментов.
В Ленинграде – убожество. Целыми днями только и слышно: «Обо мне говорили в Пен-клубе». Как будто Пен-клуб – гулянка у Саши Кушнера или Валеры Попова. Оцените мою объективность!
А что в Москве? В Москве Богу молятся чуть ли не в трамвае, что для меня, как истинно верующего, оскорбительно. Веруют с удручающей наглядностью. Щипнет чужую жену и скажет: «Я познал Бога!»
* * *
…Знаете, милая Юнна, чего бы мне по-настоящему хотелось? Чтобы вы повидали мою армянскую родню – это моя четвертинка, а в остальном – чистокровный еврей! Все – армяне – толстые и шумные. У всех как минимум одна судимость. У моего старшего двоюродного брата – две. Одни имена чего стоят: Хорен, Арменак, Ованес, Гайк, Беглар… Мама утверждает, что в Ереване имеется троюродный брат по имени Жюльверн. С трех еврейских сторон родственники менее выразительны…
– Странно, – перебил я Нину. – СД – полукровка: отец – еврей, мать – армянка. Как шутил Вагрич Бахчанян, «еврей армянского разлива». Зачем ему понадобилось увеличить свою еврейскую половинку до трех четвертей? Поднадоели анкетные данные, и он решил представить их в несколько иной комбинации? Очередная его мистификация, коих он был большой мастер? Свою прозу он называл псевдодокуметализмом. А здесь – лжеавтобиографизм? Для него что письма, что проза – все едино.
– Так и есть! Эти письма – такая же чудесная проза, как и его рассказы. Только в ином жанре: эпистолярная проза.
В таком восторженном состоянии и правда не видел Нину никогда. Любил ее еще больше, хотя куда больше! И дико ревновал к мертвецу. Хотел обнять, приголубить, приласкать, но решил наоборот – нет, не ушат холодной воды, но слегка остудить.
– Не связано ли это с предотъездными настроениями в Ленинграде, где привокзальная атмосфера и «неожиданно выяснилось, что все окружающие – евреи»?
– Какое это имеет значение? – не унималась Нина. – Классно как сказано: «неожиданно выяснилось»…
– Да, этого у него не отнимешь – юмора…
– А что ты хочешь у него отнять? Талант? Что-то ты к нему неровно дышишь…
– Это ты к нему неровно дышишь, – сказал я.
Нина на меня как-то странно посмотрела:
– Иди сюда…
Впервые мы воспользовались loveseat по назначению. Впервые без презика. «Будь что будет…» – шепнула Нина, когда я хотел вынуть, и не выпустила меня. Обалденный секс – как никогда. Красивая – как никогда, господи! И тут меня как пронзило: Нина принимала меня за другого и принимала в себе, а теперь и в себя – другого. Ну и пусть!