Текст книги "Союз молодых"
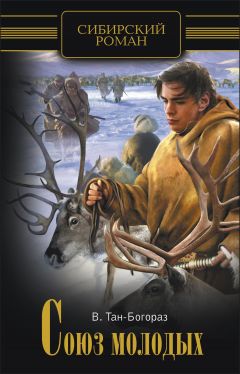
Автор книги: Владимир Тан-Богораз
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти – за что? Разумеется, за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом. Но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заместили по праву.
Они себя назвали: «Народное правительство» – почему же народное? Очевидно, неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии вестей, как-то сообщился с юга на Колыму.
Возглавляли это правительство два отставных подсудимых. Трепандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили его заочно, приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск, без сомнения, и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири.
Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе.
Другой отставной подсудимый был Бережнев Екимша, иначе Екимша Качконок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки. И оттого эту ветвь Бережневых звали Качконки, Катериничи, Бережневы, Бережные – на Колыме, это очень ветвистый корень. Есть Бережневы Ростопыри, и Бережневы Лапкины, и Бережневы Брехуны. Но Бережневых Качконков стали отличать особо. Екимшу всегда называли вместо батюшки по матушке: Еким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутскою редкой бородкой, настолько Еким Катеринин был высокий, белявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников.
Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак, Митька Ребров.
VIII
Митька Ребров писался «из якутского рода», но, в отличие от других колымчан, по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый, плечистый, работал за двоих. А если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскребленной из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина.
Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он одиннадцать рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькино было собственно двенадцать рублей, но Макарьев высчитывал рубль.
– Уж очень беспощадно изводишь табачишко, – говорил он в объяснение.
Митька помалкивал, и если в промежутках работы добудет какую лисицу или песца, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, т. е. тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством, варваретовая куртка, подбитая лисьими лапками. Варварет, т. е. плис, на Колыме дороже наилучшей лисицы-огневки.
И так одевался Ребров лучше многих колымских казаков. Пил он крепко, раз в год, весною, когда приходил главный зимний караван. Но ума он не терял и даже по-настоящему не пьянел.
Казаки задирали его:
– Почему задаешься, Димитрий, ходишь, например, в варварете, водку пьешь, а хозяйства своего не заводишь?
Но Митька отвечал рассудительно:
– На кой оно ляд, хозяйство? Худой снасти не люблю. Сети, например, с такими дырками, что пролезет медведь. А у хозяина ведется все первосортное, невод или сети, топор или, например, кочевник[19]19
Большая лодка.
[Закрыть]. Посуда у него небитая, сухари, юкола свежие. Можно промышлять. У нас вон и чашки все клееные, хозявы-раззявы. Чей невод всех больше ловит? – Макарьева-купца. – А кто у Макарьева в первых загребщиках ходит? – Митька Ребров!
Митька был холост и семейства не имел, но он приспособил к макарьевскому неводу стряпку Матрену Романцеву. У ней было бельмо на глазу, но стряпка она была отменная, в обоих рыбачьих направлениях, т. е. состряпает еду и выстряпает, вычистит рыбу на скользком рыбоделе, куда после промысла вываливают рыбу для обработки, разреза, досолки или развеса по шестам.
Так что и ели у Макарьева лучше, чем у казаков.
Одним словом, по Некрасову:
У купца, у Самохвалова,
Живут люди не робеючи.
Льют на кашу масло постное,
Словно воду, не жалеючи.
И вдруг революция нарушила эту купецкую идиллию.
Макарьев был человек деловой и стал соображать. Шкуры, пушнина, сушеная рыба копятся в амбаре без всякого соображения. Чай и табак уходят, как вода из дырявого чайника.
А главное, стало Макарьеву страшно от соседей.
– Время не то! – учуял он нутром. – Пожалуй, растащут.
И он понемногу свернул свои промыслы. Три невода было у Макарьева, шесть человек батраков. Он выслал на заимку свой особливый домашний невод с сыном Алешкой и с дочерью. А батрацкие свернул, батраков рассчитал. Для Митьки он сделал исключение.
– По двору пригодишься, – сказал он ему просто.
Митька ничего не сказал. И две недели ходил по двору, с топором в руках, отыскивая, что бы починить. Каждый колымчанин в своем роде и мореплаватель, и плотник. Но на макарьевском дворе все было уделано, починено руками самого Митьки и чинить было нечего.
Две недели Митька провел в этом странном безработном состоянии, но больше не вытерпел. На третье воскресенье он взял из сундука красную хорошую лисицу и пошел к старику.
– Дай спирту на пол-лисицы! – попросил он мрачно.
– Сколько? – спросил Макарьев лаконически.
– Покал (т. е. чайный стакан).
– Покал – за целую лисицу! – предупредил старик, тем самым поднимая цену спирта вдвое. – И то для тебя.
– Давай, черт с тобой! – ответил работник хозяину. – Да только не сыропленный.
«Рассыропливать» водку водой Макарьев не стал. Кстати, и в этом выгодном, но ответственном деле, техника лежала на Реброве.
Получив свой стакан, Митька отлил с наперсток в крошечную склянку «для второго опохмелу», а все остальное влил сразу в свое широчайшее горло. Подержал спирт во рту и словно пожевал, потом проглотил, не поморщился. А спирт был как огонь.
Но колымчане, когда можно, спирт не разводят водой и пьют сразу, чтоб лучше забрало.
День был летний, совсем бесконечный, в сущности, месяц, не день. Незакатное солнце скиталось по небу, не зная, куда ему деться. И так же скитался Ребров по купеческому загороду, не зная, куда деться. Тогда Митька Ребров задурил, забурлил первый раз в жизни. Гнев ударил ему в голову пуще вина.
Он взял камень и бросил в окно макарьевской пристройки, где были кухня и батрацкая. Посыпались стекла. У Макарьева, в отличие от прочих соседей, даже на кухне было настоящее стекло.
Выбежала на крыльцо старая Макарьиха, черная, сухая, как жердь. Митька по обычаю приветствовал ее импровизированной песней собственного сочинения:
Как макарьевски невестки,
Обгорелы головешки.
Как Макарьиха сама,
Обгорела головня.
В Колымске молодежь и всякие «дерзители» бузу заводили всегда в поэтической форме. Таков был обычай, идущий от древности.
Другая женская голова попыталась высунуться в окошко. Но окошко, даже разбитое, было для этого слишком узко.
– Ага, Катька! – сказал Митька со злым смехом. – Заманиваешь? Врешь. Ничего тебе не будет… На вот! – И он сделал рукой недвусмысленный жест.
Голова отшатнулась от окна. Митька проводил ее новой сатирической песней:
Катерина, ой, малина,
Завороченная глина.
Она вышла ка порог
И набила себе рог.
– Выйди, выйди! Я тебе рог поставлю, – прибавил он в виде пояснения.
Катерина была старшая дочь Макарьева, широкая, и толстая, и мятая, – действительно, как глина. Она вдовела лет пять, и одно время старики ладили ее спарить с Митькой. Но Митька был однолюб. К тому же он знал: Катька за Мотьку никак не состряпает.
На крик и пение вышел сам хозяин.
– Чего ты, бес? – спросил он с некоторым недоумением. Митька вообще не пьянел и не буянил.
– Сам ты бес! – ответствовал Митька. – На кой ты мне сдался? Уходи!..
– Сам уходи! – рассердился Макарьев. – Я хозяин.
– Хозяин! – передразнил Митька. – Хозявы-раззявы-халявы-гнилявы, – посыпал он рифмами. – Ежели ты хозяин, то где твое неводное хозяйство?
– С жиру сбесился, – вставил Макарьев все с тем же недоумением. – Разжирел на нашей сладкой юколе!..
– Так где же твоя юкола? – рявкнул запальчиво Ребров. – Не промышляем ее! С вашей сладкой юколы уйду на свою гнилую хачиру.
Хачира – это сушеная рыба низшего качества, пища ездовых собак и бедняков.
– Мотька, а Мотька!
Он свистнул, как будто собаке. Из-за перегородки показалась третья бабья голова.
– Сколько бабов, – язвительно сказал Митька, – а стряпать нечего. Мотька, пойдем!..
Так совершилось на Колыме восстание первого батрака против первого хозяина.
IX
Митька и Мотька приютились на Голодном Конце у безносого Кирши Токарева. И на другой день по Голодному Концу поползла удивительная весть.
Митька созывает колымских в полицию на митинг. Всех созывает вообще, казаков и мещан, якутов и всякого народу.
– А чего это – митин? – спрашивали не только на Голодном Конце, но и в богатом углу, вблизи полицейского дома.
И знающие люди объясняли:
– Митька созывает – потому оно митин.
В полдень полицейская усадьба переполнилась народом. Места в избе не хватало, люди толпились на улице. С тех пор как стоит Колымск, это было первое народное вече. Даже в церкви на Пасху ни разу не сходилось столько.
Исправницкий зальчик, в котором некогда веселые ноги кавалеров и дам откалывали лихо вальс-казак и ланцу (лансье), был набит битком. Колымчане следили друг за другом с некоторым изумлением. Откуда взялось столько? В городе было восемь десятков домов и населения пять сотен, не больше. К тому же середине люди по достатку и по возрасту и даже молодняк постарше были на дальних тонях. В городе остались старые да малые, нищие, больные, бедняки. Остались и купцы, неотступно сторожившие спрятанное добро. Были якуты из ближайших поселков, которые тщетно старались достать хоть осьмушку кирпича. Чайный кирпич резали на восемь частей и за осьмушку брали по два горностая, и то в виде милости.
Бабы, старухи и мальчишки переполняли митинг. Группа подростков с Викешей во главе, это зерно будущего комсомола, протолкались вперед и жадными глазами смотрели на зеленое сукно, покрывавшее казенный стол, широкий и пузатый.
Старухи теснились значительной плотною группой. На сборище вообще замечалось расслоение участников по разным признакам, по возрасту, по полу, по богатству, по городским концам и даже, наконец, по болезням.
Сифилитики, «больничные» и «вольные», держались особо.
Колымчане вообще к сифилису относятся терпимо: «Больного не кори! Бог накажет и рога привяжет».
Но эти были ужасны. У них приходилось на восемь человек всего два с половиной невыеденных носа. Больничные совсем потемнели и засохли от голода. С начала разрухи их кормили недостаточно и скудно, хуже, чем упряжных собак.
Только прокаженных не хватало. Их панически боялись, и им не позволяли выходить из больницы на свет.
Зальчик состоял из двух половин, соединенных аркой. А по самой середине была ступенька предательского свойства. Эта ступенька представляла удобство для официальных приемов, поднимая начальство над толпой обывателей, как будто на эстраде. Но во время танцев она была камнем преткновения для самых бойких пар и не раз подставляла им подножку и валила их наземь в самом живописном и разливчатом коленце.
Спереди были поставлены скамьи. Задние стояли.
Маленький Трепандин и тяжелый Еким Катеринич сидели за столом на эстраде, изображая правительство. Они чувствовали себя не особенно уверенно, особенно старый Трепандин. Узенькие глазки его все время перебегали по странной колымской толпе. И правда, в толпе понемногу поднялся ропот, сперва смутный, а потом совершенно явственный.
– Мука!
Овдя Чагина, корявая, язвительная баба, напомнила Екимше-командиру о сомнительных прошлых делах.
Действительно, вышло неловко: сторожами при казенном имуществе стали заведомые, патентованные казнокрады.
Арсений Дауров, жилистый, косматый старик в ровдужной[20]20
Ровдуга – местная замша.
[Закрыть] куртке и дырявых тюленьих обутках, не стал больше сдерживаться.
– Клади булаву! – крикнул он хриплым басом. Неизвестно откуда и как он откопал в глубине своей памяти этот прадедовский староказацкий призыв.
– Какую булаву? – спросил Катеринин испуганно.
Митька протолкался вперед и уверенно влез на эстраду
– Вот что, – сказал он решительно, – печать положи!
Трепандин беспрекословно вынул из кармана казенную печать и положил на стол.
– Казну и товары опосля сдадите. А теперь пошли отседова к матери!..
Толстый Екимша замялся.
– А этого хошь?
Митька с какой-то особой веселой готовностью подсунул к Екимшину носу свой жилистый темный кулак.
– Тоже сторожа… Прочь, гады!
– Объявляю, открываю этот митинг!.. Слушайте меня, старики!!..
Это было обращение традиционное, но не вполне уместное. В переднем ряду толкались мальчишки, безусые, с веселыми глазами, ничуть не похожие на стариков.
– Горожана!
Это был более понятный вариант еще непонятного нового слова «граждане».
– Как будем жить сей год? Рыбы недолов. В сети корова пролезет. Купить-продать нечего. Сами не пьем[21]21
Не пьем – чаю.
[Закрыть]и не курим. Как будем жить?
Митьке в ответ раздались вздохи старух, перешедшие во всхлипывания. Тяжко горожанам было жить без пойла и без курева. И вздохи сгустились, и стал буйный ропот, родивший единственное слово: «Табаку!»
– Трубки искрошили под курево! Табачные дощечки поскоблили. Табаку, табаку!
Весь митинг повторял это единое слово. Сифилитики, иссохшие от голода, вышамкивали тоже своими изуродованными ртами: «Табаку!»
Это было как в древней сказке про заморскую торговлю на далеких островах в океане, где все живое: и люди, и духи, и невидимые призраки, и ветер в облаках, и рыбы в подводных глубинах – взывали к подъезжающему гостю: «Табаку, табаку!»
– Пальцы ли нам зажигать да курить? – вопили старухи. – Другие вон курят!..
Костлявая Чагина вскочила и уставила длинный прямой обличающий палец в левый угол. Там на передней скамье сидело семь человек, степенных и гладких, задумчивых и молчаливых. То были колымские торговцы – «большие люди».
Сидевший с краю Ковынин, маленький, рыжий, сухой, повязанный бабьим платком, ответил Овде злым и испуганным взглядом. Палец ее выдавался вперед, как копье.
– Шаманка проклятая, – взвизгнул Ковынин голосом тонким, совсем как у старухи. – Колотье наводишь на меня. Чтоб ты сама усохла.
Русские на Колыме имели своих шаманов, не хуже, чем туземцы. И каждый шаман мог напустить болезнь и колотье не только на человека, но даже и на духа. Выставленный палец обращался в копье и насквозь пронзал обреченного незримым острием.
– Ты, небось, куришь! – кричала неугомонная Овдя. Другие старухи тоже вскочили и уставили в левый угол такие же костлявые обличительные пальцы. Это, действительно, было похоже на шаманское заклинание.
– Курите, пьете (чай)! Жирок лопаете! Все у вас есть! – визжали они исступленно.
– Слышите, обчество! Они нашу жизницу спрятали, смерть нашу выпустить хотят. Кровососы, людоеды.
Направо мужики с Голодного Конца завопили густыми голосами:
– Гады, воры!
Напротив одутловатый сифилитик успокаивал толпу: «Буде, буде!» Выходило у него гнусаво, так что нельзя и напечатать.
Митька схватил шумовку, лежавшую на столе, в виде дирижерского жезла. Ее прихватила Матрена. Она стряпала в своем жалком очаге кашу из древесной заболони. Если хорошо уварить это свежее дерево, то глотать ничего, можно. Только надо постоянно мешать мутовкой и шумовкой, чтоб варево не пригорело.
Как Митька ее кликнул, Мотька успела отставить котел от огня, а шумовку впопыхах прихватила с собой и, не зная, куда девать ее, положила на стол перед Митькой.
Теперь она ему пришлась кстати. Он схватил ее за деревянный хвост и стукнул по столу. Головка отломилась и с треском отлетела вперед на толпу, как будто граната.
– Тихо! – крикнул Митька. – Слухайте.
Крики затихли. Все ожидали, что скажет Митька.
Но Митька только повторил:
– Слухайте, тихо!
– К вам говорю, купцы! – пояснил он наконец, тыкая влево своим обломанным жезлом.
– Слышите вы, как обчество плачет? Объели вы его и обпили. Слухайте и думайте.
У старого Даурова в его неистощимой исторической памяти проснулось другое впечатление: вместо атамана с булавой – посадский голова с мошной.
– От стариков слыхал, – сказал он туманно, – случалась беда – купцы помогали обществу, кто сколько.
Настало тягостное неловкое молчание. Так, должно быть, было в нижегородской сборне, когда Минин Сухорук призывал торговцев к пожертвованиям, а они пыжились и пыхтели, и никто не хотел выступить первым.
Карамзин, как известно, утверждает, что будто купцы кричали: «Заложим жен и детей и выкупим отечество!» Но ведь это легенда, парад. На деле, очевидно, и в Нижнем на Волге было не лучше, чем в Середнем на реке Колыме.
Все глаза, как по уговору, уставились, в Макарьева. Он был купеческий козел-коновод.
– Даю, жертвую! – проговорил Макарьев отрывисто.
«Сколько? – мелькнул мучительный вопрос в уме. – Мало нельзя. Время такое, побьют. А много – так еще страшнее. Скажут: взаправду кровосос. Вот сколько припрятал добра».
– От последнего даю! Табаку десять (папуш), чаю пятнадцать (кирпичей). Платки, сахарок…
Общество молчало. Он как раз угодил. Дал мало, всего рублей на шестьдесят, но как раз столько, чтоб общество не взбесилось от злости.
Соседи его тоже молчали.
– Поддержите коммерцию! – обратился он с кривою усмешкой в сторону Ковынина. – Не я один.
– Тоже даю! – сказал один, потом другой. – Чай десять, табак пять, платки десять.
Торговцы выкрикивали названия и цифры колымской торговой валюты.
Лица у общественных стали разглаживаться.
– Покурим, – сказала Чагина с лихорадочной веселостью и облизнула губы.
Табаку и чаю в общем собралось достаточно.
– Постойте, – перебил эту радость настойчивый Митька.
– Старухи, старики, послухайте, что я вам скажу. Не нас надо пожалеть, наших маленьких деток. Голодные будут сидеть. Не нам пить и не нам курить… В чукчи надо ехать, оленей колоть, мяска натаскать. Вот что я скажу.
– Ах! – заревели старухи. Обещанное угощенье только показалось и уже угрожало уйти от ртов и носов.
– Стыд поимейте, – уговаривал Митька. – Дети наши – самое, что есть дорогое. Опустеют дома наши.
Кого будем кормить? Для кого будем жить? Подумайте, общество!
Он задел у общественных самые чувствительные струны. Дети на Колыме ценились дороже всего, даже дороже питья и курева. Мерли ребята как мухи. Были постоянно бездетные бабы и бездетные дома. И население с трудом держалось на прежнем уровне и давно перестало расти. Тем более чуткий инстинкт повелевал хранить эти скудные, быстро гаснущие человеческие искры.
Старухи заплакали в голос.
– Бери, отдаем! Твоя правда, бери! Для маленьких, для внуков, для детей!
Митька махнул жезлом, и общество опять замолчало.
– Слухайте, обчество, что я скажу: с той капелькой, что дали эти жилы, разве поедешь к чукчам? На смех да на стыд… Однодневно собак не прокормишь.
– Слухайте, купцы. Я буду говорить. По общественной раскладке приходится с тебя, Макарьев, табаку сума, чаю место, жидкой ведро, платков сотня, сахару голова, – высчитывал он безжалостно.
Купцы ахнули и взвыли. Сума – три пуда табаку, место – пятьдесят кирпичей чаю. И даже, о горе и ужас, целое ведро жидкого золота, спирту. Это была контрибуция неслыханная и нестерпимая. Но Митька громовым голосом заглушал галдеж и гам, выкрикивая страшные цифры.
– С Ковынина пуд табаку, чаю полместа, жидкой полведра.
– Не дадим! – взлаял Макарьев. – Столько не дадим! Облопаетесь, черти!
– Компания, иди! – сказал он по-казацки, обращаясь к товарищам.
– Постойте, – сказал спокойно Митька. – У нас тоже есть компания. – Ребята, вперед!
Вышли вперед восемь мальчишек-подростков и с ними шесть девчонок. Тут были Викеша, Андрей и другие. Они до сих пор сидели смирно, и на них никто не обращал внимания. Но теперь они сразу вышли вперед и стукнули об пол прикладами. И общественники увидели с удивлением, что у них были ружья, правда, не у всех, а только у четверых. Ружья эти были казацкие, брошенные служилыми казаками в сборне. В самый час митинга мальчишки заглянули на сборню и разобрали ружья, лежавшие совсем на виду.
– Слухайте, воронья охрана, – сказал Митька чуть насмешливо. – Присмотрите за этими гадами, чтоб как общество сказало, так было сделано.
– Мальчишков натравливать на нас! – кричал Макарьев вне себя. – Кто они таки, недопески!
– А ты пес! – подал свой голос впервые Викеша Казачонок.
Недопески – молодые, не дошлые песцы. Песцы бывают вольные, а псы ездовые в ошейниках. Друг против друга выступали здесь две близкие, но враждебные породы.
– Ратуйте, кто в Бога верует! – закричал неожиданно Макарьев.
Общественные засмеялись.
– Не любишь, – сказал Митька язвительно. – Ничего, слюбится.
Лицо Макарьева замкнулось и стало упрямо.
– Столько у меня нету, – сказал он твердо. – Хоть режьте меня.
– Ничего, мы найдем, – успокаивал его Митька. – Я знаю, где ты прячешь, – прибавил он значительно.
– Слухай, воронья охрана! Завтра поутру зайдите да взыщите. Вот с него первого. Товару не дадут, тащите самих. Мы их самих повезем до чукчей и поколем на мясо.
– Теперь ступайте отсель! – спокойно и жестко предложил он купцам.
Так кончился на Колыме первый митинг. «Сбор Митин», – как называли его потом в рассказах и песнях.
Ибо местные поэты тотчас же сложили песню об этом бурливом и памятном сборище.
Придите вы на митину,
Богаты мужики!
А я из вас повытяну
Чаи да табаки!
Открылся на Колыме Октябрь в июле 1918 года.
X
Рано поутру в стеклянное окошко полицейского дома постучала торопливая рука торговца Макарьева. За стеклом показалась широкая рожа Дмитрия Реброва, вчерашнего батрака, а ныне, пожалуй, колымского диктатора. Он, кстати, и домой не ушел в свою закоптелую хибарку на Голодном Конце, а остался в квартире исправника вместе со своей «очелинкой» Матреной. Запасов у исправника не было, жрать было нечего, но постель оставалась такая же барская, как была и в прежние дни.
Итак, они легли на это господское ложе. Митька заменил его высокородие, а одна очелинка Матрена заменила другую очелинку, барскую барыню, Палагу.
Митька ответил Макарьеву на стук стуком и махнул рукой, что означало с очевидностью: «Сейчас выйду».
Через минуту он показался у ворот. Был он в исправничьем кителе с ясными пуговицами вместо своей варваретовой куртки, но голову покрыл не форменной фуражкой, а тем же старым меховым шлыком. Штанов на нем не было вовсе. Митька, таким образом, с первого дня переворота явился санкюлотом[22]22
Санкюлот – буквально «бесштанник», «голодранец». Французские революционеры во время Великой революции называли себя санкюлотами.
[Закрыть].
В качестве зачинщика Митька открыл на Колыме тот своеобразный водевиль с переодеванием, который всегда сопровождает революцию. На Колыме этот водевиль начался с первого дня. Лишней одежды на Колыме мало, каждый казачий мундир или яркая пуговица имеют свою цену. На худой конец их можно обменять ламутам или чукчам за шкуры и за мясо.
– Что рано? – спросил Митька раннего гостя. – Заказы принес?
– Забрали! – прокаркал Макарьев каким-то задавленным голосом. – Эти кулюганы твои, недопески или как…
– Так ведь я им велел, – спокойно возразил Митька.
– Да они не тебе повезли! – задыхался Макарьев. – Взяли, потащили через мост на Голодный Конец.
– Зачем на Голодный Конец? – недоумевающе спросил Ребров.
– Маленький, не понимаешь! – с горькой насмешкой сказал Макарьев. – Жидкую тоже, табачок… «Погуляем!» – говорят.
– Фью! – Митька от удивления даже свистнул. Потом помолчал, засмеялся и сказал: – Эка, елова голова.
Это было самообращение. Митька разговаривал с Митькой. Он даже ладошкой похлопал по собственному лбу для пущей наглядности.
И как это он проворонил и сам не догадался наперед. Нет, видно, устраивать бунт – дело трудное. И ему приходилось еще многому учиться.
Ребров отвернулся и вошел обратно в полицию. Через минуту он вернулся. Он надел свою варваретовую куртку и подпоясался блестящей полицейской портупеей с тяжелой исправничьей саблей. Штанов же на нем по-прежнему не было.
– Дашь и еще! – сказал он, возобновляя прерванный разговор. – Мы тебе устроим такую мирики… ри-кими… микиризацию.
– Какую еще микризацию? – спросил с беспокойством Макарьев.
– Ми-ки-ри-зи-ру-ем тебя! – отчетливо, слог по слогу, произнес Ребров.
– Я и так Макарьев, – обиженно сказал купец, – почто меня макаризировать?
Митька, как заправский зачинатель, переделал для колымской практики великое слово «реквизиция».
«Макаризировать» Макарьева – это было естественно и даже благозвучно. Кстати сказать, новое слово и действие привились на Колыме с большой быстротою: макаризация купцов. Там и поднесь говорят: «макаризировать», «макаризнуть», но ныне уж только говорят и больше не делают.
– Не дам, вот Бог, – забожился Макарьев.
– А в угарную хошь?
На Колыме, как сказано, холодной не было. Но для экстренных случаев в караулке у Луковцева был такой узкий холодный чулан с огромною русской печкой. Сочетание было престранное. Печь была больше комнаты. Но при этом ее никогда не топили. Она была полуразрушена, дымила и угарила. В этот чулан запирали кого надо, и тогда затапливали печь и тотчас закрывали ее с огромным угаром. Угарного чулана особенно боялись чукчи, непривычные к клеткам.
Макарьев упрямо крутил головой.
– Ну пойдем, – предложил коротко Ребров. – Где эти мальчишки проклятые? – Он нахмурился. – Вот я их погуляю! Так их…
– Черти проклятые, – сказал он, широко осклабившись, – идем, ну!..
У Макарьева сердце упало. Утренняя встреча с недопесками не была особенно приятна. Они стучали об землю прикладами так близко от макарьевских черных обутков с их щегольской оторочкой, даже задевали обутки по острым носам. Колымская обувь мягкая и от удара ничуть не защищает.
– Черт с ними, – сказал он отрывисто, – я лучше домой пойду!..
– А ты лучше с нами пойди, – уговаривал Митька. – Все равно не спрятаться тебе! Иди, может, и ты погуляешь. Может, угостят… Так иху…
Он не докончил ругательства и опять засмеялся.
– Бык ты! Буде упираться! Идем, угощу! – пригласил он его прямо и по-своему великодушно, бесцеремонно взял под руку своего бывшего хозяина и повел через мост.
– Эка гудуть! – сказал Макарьев, качая головой. – Мертвых разбудят.
Пирование действительно шло на поляне между Голодным Концом и церковью, и почетные покойники, лежавшие у церкви, могли бы при желании привстать и попросить стаканчик прямо из могилы. Шуму было много. Тренькали балалайки, визжали самодельные скрипки со смычками из якутского конского белого волоса, даже ухал тяжелый шаманский бубен. Не хватало только церковного колокола.
Бубен притащили от старого Савки Хумулана, якута, которого протоиерей Краснов выселил из Олбута в город по подозрению в шаманстве. Олбутские якуты выли, провожая шамана. Он был их собственный поселковый шаман. Когда-то безродный сирота, о чем говорило его прозвище Хумулан – «иждивенец», – он постепенно занял положение советчика, знахаря, врача.
– Зачем забираешь наше счастье, – укоряли попа якуты, – мало тебе своего?
Они предложили ему выкуп за Савку, припрягли к его санкам двух молодых коньков, жеребца и кобылку. Поп коней взял, даже благословил (плодиться будут) и по обычаю оставил их тут же на Олбуте у старосты в стаде. А Савку все же взял с собой.
Савка ничего не сказал, остался в городе, выписал жену и детей и, разумеется, бубен и шаманский калган и рогато-оленную шапку, и стал продолжать свою практику. Он словно повысился в чине и значения. Из шамана поселкового стал кудесником общеулусным, даже общеколымским.
«Якутский протопоп!» – называли его русские. Они охотно лечились у Савкиных чертей, при звуках тяжелого бубна, под бряканье железной бахромы, когда Савка плясал у огня в кафтане и рогах, и даже протопоп настоящий, православный иерей, тот же самый отец Алексей Краснов, в январе занедужив, после доктора послал и за Савкой и попросил его отслужить ему «молебен по-черному».
Правду говорили якуты, что отец Алексей отнял у них Савку для собственного счастья.
Савка, однако, попов ненавидел, и церкви, и иконы. Скорее, пожалуй, как соперников. И теперь он зачуял новое и пошел в открытую. Сам он на площадь не вышел, был он стар и к тому же слегка параличен. Но его старший внук, парень разбитной и веселый, водивший знакомство с Викешиной командой, как только затрещали балалайки, утащил у деда его музыку и вытащил на улицу.
Пир шел на весь мир. Все люди были тут, даже больные и расслабленные. Одну старуху принесли на ковре и положили у костра. Костер горел широко и ярко, на длинных жердях висело десятка полтора огромнейших чайников. Сума с табаком зияла распахнутым устьем. Все трубки дымились, пожалуй, штук пятьсот. Табачное сизое облако клубилось до церкви и кладбища. Здесь любящие дети курили на могилках, «накуривали» покойников, стараясь и им уделить частицу от общего праздника.
Но центром всеобщего внимания была, разумеется, «жидкая». Ведро спирту влили в большую сорокаведерную бочку, на кованых обручах, и дополнили водой, правда, не доверху, а всего ведер пять – чтоб хватило на всех. Вышла и вправду «жидкая» – градусов 15–18, но это было не важно. Пьянка на севере не только техническое действие по формуле: «перегоняю водку из бутылки в глотку», – а скорее внушение. Пьют (если есть) неразведенный спирт и даже не пьянеют. Но могут пить простые ополоски и тут же захмелеть. Притом же захмелеть, зашататься и даже упасть считается шиком и светскою грацией. Иной и не хмелен ничуть, а качается нарочно: глядите, как я накачался. По улице выводит кренделя и сам собою любуется больше людей.
У бочки стоял виночерпием маленький Пака. Бочка была повыше его самого, но он взобрался на пень и царил над толпой, как волшебник или гном. В руке у него был железный уполовник с длиннейшей ручкой, каким снимают пену при выварке жиру. Жир варят в челноках раскаленными камнями и камни подхватывают из костра все тем же уполовником. Оттого ручка должна быть длинная. Пака запускал свою длинную цедилку в глубину и потом подносил ее жаждущим прямо ко рту. Они были как дети, а он раздавал им лекарство волшебною ложкой.
На лужайке плясали в кругу, не видно было кто. Только тренькала и пилила музыка. Зрители хлопали в ладоши и пели:
Ах, моя дудочка,
Серебряна юпочка!
Куды, дудка, ходила,
Юпку замочила…
XI
Увидев столь бесшабашный разгул, Митька рассвирепел сразу до беспамятства. На него иногда находили такие припадки. Тогда он бросался на обидчика с ножом, с топором. Люди говорили, что так на него напущено. Разговорить его умела только Мотька-очелинка, которою в другое время он помыкал, как рабынею.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































