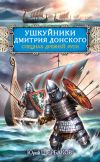Текст книги "Эхо Непрядвы"

Автор книги: Владимир Возовиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И тут Димитрию все понятно: не хотят первыми предлагать решение. Скажи за уплату дани – Донского рассердишь. Скажи против – хану станешь врагом. Есть тут такие, которые до ханских ушей непременно донесут всякое слово по ордынским делам. Вон Кореев – первый. Да и шурья его, Димитрия, княжичи нижегородские от Кореева не отстанут. Придется говорить первым. Это уступка – они ведь знают, чего хочет Донской. Вторая его уступка за последние дни.
Оттого еще сумрак томил душу Димитрия, что завтра под колокольный звон въедет в Москву Киприан – митрополит киевский и вильненский. Теперь он станет митрополитом московским, – значит, православная церковь на Руси, в Литве и Орде окажется под его рукой. Год назад, после смерти Алексия, этого самого Киприана, благословленного патриархом константинопольским, по приказу Димитрия перехватили в Любутске и с позором вышибли вон. А теперь въезжает в Москву под колокольный звон. И некого больше сажать – Сергий отказался от митры. Может, обиделся, что прежде Димитрий прочил в митрополиты своего любимца Михаила Коломенского, Митяя? И уж было посадил на место, да восстали епископы, и поддержал их Сергий Радонежский. Вечный труженик, Сергий не любил Митяя за то, что из попов, минуя ангельский чин, шагал прямо в митрополиты, за склонность к роскоши, сребролюбие и женолюбие, за наружную красоту, не монашескую дородность, за краснобайство и нахальство. Митяй платил Сергию тем же и пригрозил однажды, что, как только наденет митру, выгонит его из Троицы, сошлет в Заустюжье и обитель превратит в женский монастырь, заведет в нем общие бани и со всем святым клиром станет ездить туда париться. Димитрий, узнав о том, сначала осерчал, потом смеялся – ибо грозил Митяй невозможным. Хотя он многое мог и умел, на удивление легко и быстро осуществляя всякую волю великого князя. При таком митрополите церковь была бы в руках Димитрия безраздельно. Он прощал Митяю даже взаимную влюбленность с Евдокиюшкой – знал: его княгиня одинаково влюблена и в старца Алексия, и в Сергия – едва ли не во всех, носивших монашеское одеяние, ибо стояли они ближе к всемогущему богу. Ей было за что благодарить всевышнего – за молодого любимого и любящего мужа, сильнейшего из русских князей, за его военное счастье, за многих детей, из которых пока умер лишь один, за мир в семье, которого не в силах нарушить даже противоречия ее отца и братьев с мужем. Димитрий пробовал ей выговаривать за то, что в его отсутствие напускала в терем бродячих «божьих людей» без разбора, ночами простаивала перед иконой, истязала себя постами – то и на детях сказывается: ведь едва одного отнимала от груди – другой на свет являлся, – но она зажимала ему рот: «Молчи, Митенька, молчи, – ему, только ему одному да святой деве обязаны мы всем, что имеем. Молись лучше со мной». В конце концов отступился. Он отдавал должное Спасу и святым, но не имел времени на лишние поклоны. Для него бог олицетворялся в единой Руси – этому богу служил он всей жизнью, чего же еще? И церковь нужна была, чтобы крепить свое государство, не выпускать из-под руки князей и бояр…
Как бы теперь не ушла от него русская церковь – Киприан, говорят, обидчив, то подтверждают и письма его к Сергию после выдворения из Любутска. Обидчив – ладно, был бы не злопамятен.
Ах, Сергий, и ты не без греха, святой провидец. Мамая помог сокрушить – спасибо, но не хочешь ведь простить, что покойного Митяя посылал князь к патриарху за благословением на митрополичий стол. Или в скромной обители своей ты выше митрополита, некоронованный патриарх русской земли, и эта честь тебе дороже? Но не грех ли и то?..
Собрание, притихнув, смотрело на погруженного в думы государя. Димитрий очнулся, встал.
– Моего слова ждете, князья? А спросили вы тех ратников, што зарыты над речкой Непрядвой? За что они жизни свои отдали в мученичестве добровольном? За то ли, чтобы снова ханы, как вурдалаки, сосали кровь их детей? Молчите. Един их ответ, и каждому здесь он слышен. Теперь я свое слово скажу. Великого хана Золотой Орды мы почитаем царем – ему будут от нас и почести царские. Посольства ли правим, караваны ли с товарами в Орду посылаем – великому хану и женам его и ближним людям его будут дары знатные и поминки по чину. Так же и другим государям русской земли поступать надобно. Купцам ордынским зла не чинить, препятствий не делать. О всяком посольстве из Орды слать немедля вести ко мне, ни в какие договоры с ханами и мурзами без ведома нашего не вступать. А данейвыходов в Орду не даем. Мамай, Арапша и Бегич опустошили многие наши земли, битва на Непряди обескровила Русь. Выправимся – видно будет. Так ли приговорим, князья?
– Так! – оглушил думную густым басом Федор Моложский.
– Так! – Владимир припечатал кулаком колено.
– Так, так! – послышались новые голоса. Иные кивали, не открывая рта. И уже после, когда слово государя окончательно приговорили к исполнению, когда князья ставили свои печати на особую грамоту, Димитрий, следя за их лицами, снова спрашивал себя: чего тут больше с их стороны – воли или неволи? И в который уж раз стиснуло в груди от невозвратимой утраты: прошли перед ним лица князей Белозерских, Тарусских, Брянских, верного Бренка, многих других, кто спал в сырой земле Задонщины, прошли и растаяли.
После вечерни Димитрий звал гостей в столовую палату.
– Пиром начинали, пиром и закончим дело нашего согласия и единения. – Великий князь улыбнулся. – Да вот беда: ни рассола, ни кваса у нас теперь ковша не нацедишь – перестарались в трезвые дни. Так што не обессудьте, сами виноваты.
Гости смеялись – ведь еще в обед слуги божились, будто после пиров у них не осталось ковша пива или хмельного меда, – а Димитрий вдруг подумал: напиться, что ли, до изнеможения, чтоб завтра не вставать, не слушать колокольного звона, не видеть этого проклятого Киприана? Погорячился, однако, с отцом Пименом Переславским. Да и как было не погорячиться, коли и Пимен был среди тех, кто не уберег Митяя на пути в Константинополь? А после смерти его святые отцы передрались, и Пимен, склонив на свою сторону свитских бояр и стражу, повязал соперников, под заемную грамоту великого князя взял у купцов большие тысячи – для патриарха и клира его – да и купил себе митрополичий сан. По возвращении Пимена из Царьграда разозленный Димитрий велел содрать с него белый клобук, а самого заточить в глухом монастыре. Может, зря? Хоть вор, да свой.
Ох, правы новгородские еретики-стригольники: эти нынешние святые отцы торгуют митрами и клобуками, что барышники скотом. Своими же руками разрушат, убьют веру – на чем тогда стоять государству? На одних княжеских копьях?.. И почему так идет жизнь? Одни бескорыстными трудами созидают храм, кости свои кладут в его стены. Когда же храм выстроен, когда люди признали его кумирней – тут и начинают пробираться в храм проворные, изворотливые, подловатые людишки с загребущими руками обезьян и прожорливостью свиней. Засядут на готовом жрецами, будут петь те же святые молитвы, а под громкое славословие богам, которым они никогда не верили в душе своей поганой, начнут грабить поклоняющихся, обворовывать самый храм, жрать и пакостить, блюя тут же от пресыщения. И так все разворуют, изгадят, испоганят самую веру, что когда спадет с глаз людских пелена, то, чему поклонялись, предстанет зловонной клоакой, которую надо немедля снести и зарыть. Неужто и православной церкви грозит нашествие подобных мерзавчиков? Неужто и то великое, святое, за что он, князь Донской, и верные люди его готовы положить голову – единая крепкая власть, единое могучее государство, – когда-нибудь окажутся в руках правителей и их приспешников только средством обирать и душить народ, наживаться и купаться в роскоши, как свинья в грязи?
Располагая богатейшей на Руси казной, Димитрий, как и отец, и дед его, вел строжайший учет имуществу – вплоть до шапки и пояса, которые носил. Каждая ценная личная вещь великого князя передавалась наследникам по письменному завещанию, как принадлежность титула, государственное достояние, которое наследники обязаны умножать, но не транжирить. Излишки доходов от собственных владений он неизменно отдавал в государственную казну. Ей, казне, принадлежала и та столовая роскошь, что так поразила гостей. Все это золото и серебро в любой день могло обратиться в хлеб, одежду, жилища, снаряжение и оружие для войска. Большую часть добычи, взятой после разгрома Мамая, он велел боярам раздать участникам похода, не забыв о семьях убитых и раненых воинов. В годы неурожая и падежа он кормил тысячи людей из своих житниц или на свои деньги, как делали его отец, дед и прадед, – он не мог себе представить, что государь или господин, владеющий людьми, может поступать иначе. Да, правителю надо быть скупым, но не из личной корысти, а для пополнения общей казны на черный день. Но в последние годы, когда великое княжество окрепло и забогатело, стал замечать он в иных вотчинниках звероватую темную жадность. Ладно бы для дела жадничали – дружины добрые содержали, устраивали вотчины и ремесла, – так нет, в скудоумное чванство и похвальбу ударяются. Коли у соседа две бобровые шубы – у меня их три должно быть, у соседа кафтан серебром шит – у меня золотом, у него по перстню на каждом пальце – у меня по два, он трех соколов держит – у меня их вдвое больше, да и сокольничих тоже, его жена в жемчугах – моя в изумрудах и яхонтах. И отцы святые ангельского чина – туда же, значит, за светскими боярами.
Нет, не зря он содрал с вора Пимена белый клобук, не зря засадил его в келью под строгий досмотр – авось покается. Пусть Киприан себя покажет. Великий князь московский и его сумеет при случае согнать с высокого стола. Тем более что есть для Киприана изрядное пугало – «запасной митрополит», рукоположенный в Константинополе и запрятанный в Чухлому.

IV
Невелик город Тана, зато боек и многолюден – не всякий стольный сравняется с ним пестротой и многообразием лиц, шумом базаров и богатствами. Стоит Тана близ устья многоводной реки Дона, от этой реки и дано ей название, ибо многие народы, плавающие по Русскому морю, все еще называют Дон древнегреческим именем Танаис. Построен город на возвышении, улицы в нем пыльные, узкие – чтоб только разъехаться двум арбам, разойтись вьючным верблюдам. Зато просторны базары. Дома больше из самана и белого камня, но есть и деревянные. Лес сплавляют сюда по Дону с далеких русских равнин – для отправки за моря. Из него строят и небольшие суда, похожие на русские струги, а главное – бочки. Тана – город рыбный. С весны и до зимних штормов много больших судов уходит от причалов города в далекие страны, увозя в трюмах ящики вяленого леща, тарани, чехони, копченого сазана, жереха и стерляди, бочки соленой осетрины и черной икры, высоко ценимой в закатных странах. Тана – город хлебный: здесь на те же морские суда – галеры, каторги, дракары и нефы – перегружаются с гужевых обозов, с речных ушкуев и паузков пшеница и рожь, овес и ячмень, горох и просо, чтобы кормить народы в тех далеких странах, где хлеб растет плохо и растить его не умеют. Но рыба, хлеб и дерево еще не все богатства, уплывающие к берегам, населенным турками и арабами, греками и фрягами, испанцами и франками, англами и датчанами, немцами и норманнами. В Тану сбегаются караванные пути с Волги и Кавказа, из Сибири, Средней Азии и даже Китая. Здесь на постоялых дворах, у торговых контор и складов, на пристани и базарах сходятся караваны, навьюченные шелком и хлопком, сибирскими мехами и алтайским серебром, шемаханскими коврами и ювелирными поделками из Хорезма и Самарканда, казанским сафьяном, иранским ситцем, китайским фарфором и чаем. Сюда пригоняют косяки изящных, диковатых текинских коней, стада скота из Орды. А бывают дни, когда в городские ворота вступают вереницы рабов под неусыпной стражей каменноскулых воинов. Тогда купцы, бросая все дела, спешат на невольничий рынок.
Тана – город купцов. Верховодят здесь венецианцы, но в совете города, состоящем из богатейших людей, есть и генуэзцы. Между двумя купеческими общинами фрягов идет давнее соперничество; местные жители – аланы, греки, татары, русские – в те дела не мешаются, ибо можно легко нажить беду.
Город окружен каменной стеной, но жители знают: охраняет их от кочевников не каменная стена, а ханская грамота и ханская благосклонность, которая ежегодно оплачивается серебром и подарками. Что делать, если благорасположение правителей не всегда сочетается с тем, что написано в их старых ярлыках, если ханы в Орде меняются часто, а мурзы их разбойны?
Как и во всяком торговом городе, на базарах в Тане не только скупают и продают привозное, ведут обмен и заключают договоры. Близ торговых рядов теснятся харчевни, шорни, маленькие кузни, где и коня подкуют, и снаряжение подправят, а то и продадут из-под полы, беспошлинно, такой булат, который режет железо, как дерево, – было бы чем платить! И вертятся среди торговых людей зазывалы от всяких злачных мест…
Шел по танскому базару приземистый, плечистый человек с проседью в бороде и волосах, широко, по-матросски расставлял ноги, внимательно оглядывал товары, но ничего не покупал и зазывал не слушал – знал, видно, чего ищет. Напротив крайнего торгового ряда, в деревянной небольшой кузне чернобородый мужик, прикованный цепью к наковальне, сваривал лопнувшую тележную шину – сам и горн раздувал, сам и обруч в огне держал, сам края его схватывал, поругиваясь такими выразительными словами, что изумленно скалился даже черный, как сажа, эфиоп – погонщдк-раб, оставленный господином при телеге.
– Ча скалисся, тьма египетская, мать твою бог любил чрез конский хомут! – сердился кузнец. – Надень-ка вон рукавицы да подержи ободье-то, быстрей управимся, рожа твоя дегтярная. Ча пятисся, ча ты пятисся, дурачок агатовай? Небось в самой преисподней тя вылепил сатана из смолы горючей, а кузни пужаисся, уголек те за пазуху, чугуночек ты копченай!
Негр, махая руками и бормоча что-то, боязливо отступал от раскаленного обода, кузнец плюнул, начал молотить по железу.
– Хрен с тобой, а я не себе кую! Вот лопнет обручец дорогой, ты меня ишшо попомнишь со своим жидком-купчишкой.
Прохожий, посмеиваясь, остановился рядом:
– Здоров, добрый человек! Што ж те хозяин помощника не даст?
Кузнец зыркнул на подошедшего темным половчанским глазом.
– Нашел человека! – Он с силой тряхнул зазвеневшей цепью. – Коли тебя кажинный день пороть – черту кочергу сладишь!
Прихрамывая, коваль подошел к широкой кадке с водой, сунул в нее раскаленный обод, потянул парок носом, тоскливо вздохнул.
– Недавно, што ль, вериги-то нацепил?
– Недавно. С Куликова поля.
– Ай, врешь! Вы ж там будто бы Мамая в пух расшибли?
– И на царском пиру костью давятся.
– Аль пожадничал, на царском-то пиру? – Прохожий добродушно усмехнулся. – Ты не злись – я сам на ноге такие ж погремки носил. На Русь хочешь?
– Выкупишь? – Голос чернобородого сразу сел.
– На то казны не хватит. Кузнецы тут дороже красивых полонянок. Хотя не искусник ты, погляжу, а деньгу мурзе все ж зашибаешь.
– Так че пыташь, че душу травишь разговорами? – Кузнец хромовато повернулся, позванивая цепью, подошел к горну.
– На то травлю, штоб домой сильнее захотелось. А то вижу – в руках молот, на ноге – цепь.
Кузнец оставил мехи.
– Ну, раскую – и куда ж мне? Без обувки, без одежки, без полушки да в зиму глядючи? Степь велика. А я и хром, да здоров, не калика перехожая. До первого татарина – и опять в колодки?
– Коли будет все, о чем сказал, да лошадка, пойдешь?
– А ты как думаешь? – буркнул кузнец.
– Ладно. Я подожду твово стража, договорюсь о работе на вечер. На-ко вот, займись пока обручем, да не попадись, гляди. – Незнакомец сунул в руку чернобородого маленький напильник. Тот схватил, сунул под наковальню, зычно крикнул:
– Эй, уголек еллинскай, давай-ка сюды колесо!
Кузнец быстро насадил шину, знаками велел покатать телегу.
– Теперича езжай со своим купчишкой хоть в саму преисподнюю. Ну, ча ты скалисся, бедолага, чему рад? Чему нам с тобой смеяться, брат ты мой некрещенай, уголек горючий? Оба мы рабы, кощеи, скоты безответные, прости, господи, не на тя ропщу я. – Кузнец перекрестился, и негр тоже начал креститься, затараторил:
– Христиан, христиан!
– Ай, ефиоп, да ты, никак, христианского корню, православного? – опешил кузнец. – Ну-ка, ишшо, ну-ка!.. Вот горе-то, у тебя, поди-ка, и мамка есть? Эх, душа горемычная, да ты ж не в цепях – пристукни свово сукина сына купчишку да и ступай в свою землю-черномазию, к мамке ступай.
Негр улыбался, согласно кивал.
– Время-то полдничать. Есть, поди, хочешь? Меня хотя держат в сытости, я – скотина тяглая, то и мурза смекает. А тебе, поди, не кажинный день и похлебки-то дают?
Кузнец дохромал до лавки, достал из мешка круглую темную лепешку, жаренную на бараньем сале, разломил, протянул негру. Еще не кончили закусывать, когда в толпе на площади перед кузней появился верхом на ослике сутуловатый человек в желтой хламиде и широкополой шляпе с опущенными краями. Острые, настороженные глазки его быстро шныряли по толпе, в заплетенной курчавой бородке поблескивала медная пластина с рисунками и письменами – ханский знак, дающий право на торговлю в Орде дозволенным товаром.
– Твой иудушка. – Кузнец указал глазами, и негр вскочил, давясь неразжеванным куском, бросился навстречу купцу. Тот сошел с ослика, долго осматривал колесо, заставляя раба катать повозку, достал медную монету, но кузнец, ухмыляясь, выставил кукиш.
– Грошен давай, как уговорились. Серебряный грошен клади и ступай подобру, не то кликну караул.
При последнем слове купца будто хлестнули, он аж подскочил, кинулся к повозке, стуча пальцем по сваренному месту, плевался.
– Мели, Емеля, цену работе мы знаем. Вот крикну – они тя и на гульдены да на талеры раскошелят. С меня-т што взять?
Заказчик зло швырнул под ноги хромому круглую белую монету – то ли немецкий, то ли франкский грошен, тот невозмутимо поднял и опустил в кошель. Негр, отъезжая, обернулся, оскалил в улыбке белозубый рот, кузнец крикнул вслед:
– Помни, што я те сказал, уголек еллинскай!
Пополудни явился господский надсмотрщик – старый алан из доверенных рабов, опорожнил кошель кузнеца, проверил цепь на ноге, отомкнув тяжелый замок, сводил по нужде. Появился давешний незнакомец. Раскланялся с аланом, мешая фряжские, татарские и греческие слова, объяснил, что вечером ему надо подковать лошадей. Работать, возможно, придется при факелах, но со стражей сам дело уладит – у него не табун, работа скорая. В залог протянул ордынскую серебряную деньгу.
Вернулся гость на закате, ведя в связке трех лошадей; две под седлами, одна навьючена кожаными мешками. На боку его теперь висел легкий прямой меч, к седлам приторочены саадаки с хорошим запасом стрел – явно спешил в дорогу.
– Бери, кузнец, первого жеребца в стойло, а я с караульщиками потолкую. – Он заспешил навстречу черно-камзольной ночной страже, уже обходившей торговые ряды, зазвенели монеты, и стража молча прошагала мимо открытой кузни.
– Эй, хозяин, где ты там? – позвал заказчик. – Запали-ка витень, посвети нам – скорее плату получишь.
Алан тотчас явился, держа пеньковый осаленный факел, сунул в горн, поднял зажженный, стал светить. Быстро управились, алан пошел с горящим факелом в пристройку, где хранился запас железа и где на лавке коротал ночи кузнец-невольник. Гость двинулся следом, прихватив с наковальни молоток. Кузнец услышал глухой удар и тяжелое падение, свет метнулся в отворенной двери, тотчас появился гость с факелом, негромко приказал:
– Разгибай кольцо, снимай цепь.
– Да я ж… Да ее ж расковать надоть.
– Што же ты, в креста и мадонну, ворон ловил!
– Да он тут вертелся… – У кузнеца тряслись руки, он начал поспешно и неловко тереть ножное кольцо напильником. Незнакомец остановил его, одной рукой легко опрокинул наковальню.
– Подними ногу, ставь обруч на острое ребро. Так. Руки убери. – Несколько точных ударов, и кольцо лопнуло. – Разгибай. Возьми у него ключи, цепь отомкни и спрячь в закут. Его халат и сапоги – на себя, чалму – тоже.
В темной пристройке кузнец трясущимися руками развязал на убитом пояс, отцепил ключи, раздел труп, стащил сапоги, коснулся было чалмы, но, ощутив мокрое, отдернул руку, кое-как оделся и обулся в растоптанные кожаные моршни, выскочил наружу, словно из преисподней. Освободитель его постукивал о наковальню молотком, слышался близкий говор проходящих стражников. Кузнец отомкнул цепь, бросил в пристройку и торопливо запер дверь.
– На коней! – приказал незнакомец.
Сели, тронулись. Кованые копыта гремели по утоптанной земле, словно бубны ночной стражи, поднимающие город, но никто не сбегался на этот гром. Проехали через пустое торжище, в воротах окликнул стражник, поднял факел, узнал переднего, отступил и даже поклонился. Выехали в темную кривую улицу.
– Как звать тебя? – спросил кузнеца освободитель.
– Романом.
– А я – Вавила. Во, брат Роман, как нас – поклоном проводили.
Роман молчал, еще не веря в свободу, вздрагивая от каждого звука – вот-вот позади раздастся крик погони. И как этот бес может так медленно ехать, спокойно говорить?
Большие ворота были заперты, рядом – притвор, через который мог пройти навьюченный конь без всадника. Появился десятник стражи с горящим факелом, Вавила, не говоря ни слова, стал развязывать кошель, зазвенело серебро, и тяжелая, окованная дверь медленно распахнулась. Ведя лошадь в поводу в узкий проем, Роман старался не показать хромоты, почти висел на узде. Стражник подхлестнул коня, и тот едва не стоптал мужика. Окованная дверь затворилась – словно вытолкнула их из человеческого мира в пустыню. Под ущербной луной смутно серела пыльная дорога, серая земля лежала вокруг, вытоптанная, объеденная скотом. Ни домов, ни стен, ни стражников – простор без конца, свобода. Уперев короткую ногу в стремя, Роман подскакивал и не мог взлезть на седло. Спутник понял, подхватил и поднял как ребенка. Долго ехали молча по тускло-серой дороге, луна скатывалась за смутный степной увал, пофыркивали лошади, цикады уже молчали – в эту пору они оживают только днем. Вавила придержал коня.
– Ну, брат Роман, ехать нам до утра. Переднюем где-нибудь в овраге, али урмане, и чем дальше – тем лучше. Теперь сказывай про сечу Куликовскую. Все от начала. Все знать хочу. Уж лет десять по чужим краям – и рабом был, и матросом, и даже послом. После расскажу, сначала – ты. И душу облегчишь.
Степные кони шли спорым, неутомимым шагом, поматывая головами, и Роман, расслабясь в седле, стал рассказывать о походе… Его сотня, состоявшая из конных охотников-ополченцев, стояла в тылу большого полка и вступила в дело в момент прорыва лавины ордынцев на левом крыле. Он видел, как полегли его земляки, и, бросаясь в серый поток врага, Роман считал себя последним звонцовским ратником. Как уцелел в кровавом бучиле, сам не помнит. Дважды сменял убитых коней, окруженный, рубился у огражденных щитами телег, когда ударил засадный полк.
– Мы ж про нево забыли и не поняли, што случилось. На беду, конь подо мной татарский был, косматый, злой, по-нашему – ни лешего: што ни крикни – только сильней прет. И как Орда назад кинулась, он закусил удила и – за ней. Соскочить – растопчут. Так и побежал я с татарами, от своих. И русскую стрелу поймал затылком – будто кочергой саданули. Небо – колесом, земля – тож, ловлю гриву руками, валюсь на нее – и все!..
– Случается, брат.
– Да уж хуже некуда. Очнулся – лежу поперек седла, привязанный веревкой. Конь бежит, голова моя болтается – моченьки нет. Вывернуло меня, татарин, што коня в поводу вел, оборачивается, смеется: якши, мол, скоро очухаешься. А я снова обеспамятовал, очнулся уж в сумерки. Чую – льют мне воду на лицо, рожа чья-то безбородая мельтешит, потом – флягу кожаную в зубы мне ткнули. За свово приняли, оттого и не бросили. Я по-татарски изрядно понимаю, а язык еле ворочался, и в голове жернова стучат. После уж смыслил: нельзя себя открывать. Притворился, будто речь потерял и слуха почти лишился. Утром один подошел, тычет мне в грудь: «Алан? Буртас? Кыпчак?» Я башкой мотаю: нет, мол. «Якши», – говорит и лошадь мою велит подвести, лепешку с печеным мясом сует в руки. А я думаю: чуть оправлюсь – уйду.
– Ушел?
– Ага. Ушел заяц от волка, да шкуру в гостях забыл. Прибился наш отряд к мурзе-купцу, тот вел обозы в Тану, а стражи у нево не хватало. Меня он брать не хотел – хромой да малосильный, а к тому же почти глухонемой. Мне б радоваться – на волю пускают, да кабы раньше-то! Далеко зашли от русской земли, по степи рассеянной татарвы бродило бессчетно; голодная, злая – одного-то враз пришибут. Сотник за меня заступился: негоже, мол, бросать свово увечного. Мурза, неча делать, взял и меня. Я же, дубина, вздумал благодарить за корм. Мне всякое дело знакомо – сбрую им латаю, сапоги чиню. Сотник доволен, мурза языком пощелкивает. Как-то помог ихнему кузнецу сварить ось тележную в походном горне да коня подковал – тут в меня и вцепились. Посадили в кибитку – силы беречь, корму прибавили. Они ж; табунщики, горазды скот пасти да воевать, мастеровые у них редки, все больше наш брат, невольник. Как-то под вечер стали, раздули горн, мурза подошел. Поглядел нашу работу, сотника покликал и спрашивает: сколько, мол, он за меня получить хочет. Тот ворчит: не раб, мол, и неведомо, какого племени, – нельзя продавать. Мурза – свое: ты спас его и твой-де он с потрохами, продай, а уж там моя, мол, забота. Да кошель изрядный показал. Тут сотник не устоял. Скоро подходят ко мне трое здоровых нукеров, один кладет в огонь тамгу железную. Я виду не подаю, ухмыляюсь, как дурак, на кобылу показываю: метить, што ли? Мурза – рожа сальная, што блин, – тож ухмыляется и нукерам знак подает. Те меня растянули по земле, штаны содрали, а мурза и приложил раскаленную тамгу к голяшке. Я от испуга и не пикнул, отпустили меня, салом мазнули ожог, штаны даже помогли натянуть. И тут, Вавила, дошло до меня, што оне, псы поганые, надо мной, христианином, учинили. Со всего плеча вкатил одному в ухо – он с ног долой, я же схватил молот – и на мурзу. Боров боровом, а под телегу мышом скочил. Нукеры – за мечи, я же и вовсе позабыл себя – кидаюсь на душегубов, крою по матушке. Их поначалу ошеломило: немой заговорил! Потом как завизжат: «Урус! Шайтан урус!» – ив два аркана взяли. Думал – смерть. Нет, мое ремесло их злобу перетянуло, да и серебра стало жаль мурзе. Выпороли, на цепь посадили, кормили тухлым кавардаком, а без работы не оставляли. Правил я им стремена, оси, ножя и топоры, подковы делал, клевцы острил, заварил даже порубленную мисюрку. Мурза чуть подобрел, корм сменил, и понял я, Вавилушка: затаиться надо, злобу их утишить, не то изведут. А пришли в Тану, тут меня мурза и велел поставить на торжище. Цепь, однако, не сняли – нукер-то оглох на ухо.
– По цепи я тебя и спознал, брат, – засмеялся Вавила.
– Сам ты кто? – осторожно спросил Роман, все еще робевший перед своим избавителем.
– Бронник я коломенский. Да тому уж лет десять минуло, как из-под Ряжска увели меня татары… Однако сворачивать пора – небо вон блекнет. Нам встречные на сей дороге ни к чему.
Он остановился, отыскал нужную звезду, поворотил коня на полночь. Привычные к ночным бездорожьям степняцкие лошади пошли бойкой рысью. Небо серело. Роман пил воздух, словно душистый мед. Росные ковыли, распрямляясь, прятали след прошедших коней. Откуда-то налетела сова, занятая утренней охотой, молча шарахнулась и пропала, далеко заскулил не то шакал, не то волчонок и смолк, застыдясь, – таким одиноким был его голос.
– Где-то Дон близко – чуешь, рекой пахнет?
– Переходить, поди, надоть, а вода не летняя.
– Перевезут, брат Роман. Теперь много рыбарей на реке.
Дон открылся на заре, полноводный даже и осенью. На алой воде просыпались дикие гуси, картаво приветствуя друг друга, с шумом и шорохами прокатился над всадниками вытянутый огромный шар – смешанная стая осенней утки, пронзительно вскрикнула речная чайка. Посреди широкого залива покачивались долбленые челны. Вавила первым спустился к воде, сложил ладони и громко позвал по-татарски, потом – по-фряжски…
Весла и течение быстро несли челны к противоположному берегу, привязанные лошади, сердито храпя от холодной воды, бойко плыли за кормой. Прибились к отмели, забрали имущество и седла, Вавила протянул старику белую монету. Тот удивленно взвесил ее на ладони, оглянулся на свою ватагу, мешая русскую и татарскую речь, стал объяснять, что нет размена. Вавила махнул рукой, и тогда старик пошел к своей лодке, откинул рогожу в носу, взял крупного шиповатого осетра с тугими боками, поднес с поклоном.
– Вот нам и уха, и жаркое. Благодарствуем, отец.
Лишь когда обогрело солнце и сошла роса, остановились в заросшей низине, на берегу родникового ручья. Роман занялся лошадьми, Вавила собрал сушняк, добыл огня кресалом, развел костер под шатром рыжего дубка – чтобы дым, уходя в крону, бесследно рассасывался, подвесил над огнем котел с осетриной. Остатки рыбы присолил и сложил в холщовый мешок. После завтрака велел Роману спать. Сам раскинулся на зипуне, подставляя лицо теплому солнышку и слушая, как на близкой поляне с хрустом щиплют траву и пофыркивают стреноженные кони, посвистывают поручейники и тревожно стрекочет в кустах сорока. Его душа растворялась в запахах, ощущениях и звуках, возвращалась в свое природное состояние, из которого когда-то, давным-давно, вырвали ее вместе с плотью Вавилы – вырвали силой, связав, сковав тело, побоями, голодом и жаждой, угрозой смерти заставив его мускулы служить прихоти других людей. Тело двигалось, глаза видели, уши слышали, даже ум временами трудился, а душа спала мертвым сном. Он видел синие моря и черные бури на тех морях с ветвящимися переплетениями адских молний, мгновенно прорастающих сквозь бездны вод и небес, следил за полетом парусов, легких и быстрых, как облака над гибкой лазурью, глаза его помнят и кудрявые изумрудные пальмы в соседстве со стройными кипарисами на берегах зеркальных бухт, оливковые и лимонные рощи в золотых плодах, росистые от дождя виноградники, скалы розового, серого и белоснежного мрамора, глядящие в прозрачные лагуны, уютно устроенные города и селения в горах и на равнинах, изукрашенные дворцы, голых людей, черных, как березовая смола, и красивых белых людей в пышных нарядах, но ничто не оставило следа в его груди, не всколыхнуло душу хотя бы до вздоха – словно кто-то запер ее на замок и забросил ключ в бездонный колодец. Она оживала только ночами, когда засыпало тело, и сколько раз он пробуждался в слезах, увидев во сне рожь на знакомом пригорке, мать и сестру с серпами по пояс во ржи, тропинку через росистое поле к березовой дубраве, ощутив запах лесной сырости и брусники, услышав ключевой перезвон родников, куличиный посвист и гогот весенних гусей. А однажды ему приснилась сорока. Белобокая русская сорока с сине-зеленым отливом по черному перу – он так отчетливо слышал ее стрекот, что даже приподнялся. И опять свалился от сильного удара в бок – его, вздремнувшего у стенки каменоломни, пинал надсмотрщик. Поскрипывало железо – невольники распиливали мраморную глыбу, этот скрип и навеял ему сорочье стрекотание. В тот день он не вынес зноя и пыльной духоты каменоломни, решил – пусть убивают и свалился прямо на камень. Разбуженный ударами, встал, взялся за кирку, моля бога, чтобы дал ему силы на один-единственный точный удар. Но так ясно и чисто вдруг ожил сорочий голос, таким желанием отозвался – хотя бы еще раз услышать шелест ржи и голоса вечереющего бора, – что он переломил ненависть, шагнул к забою, размеренно и тупо стал молотить по камню, не замечая, что может обрушить глыбу себе на голову. Все же он выдал себя, и надсмотрщик, конечно, не захотел держать рядом опасного раба: кайло даже в руках скованного человека – оружие серьезное. Скоро случился набор крепких невольников на каторги и галеры, Вавила попал в число «избранных». Однако в Генуе все капитаны забраковали его – Вавила тогда словно усох, потерял молодую силу, часто кашлял. Хозяйский пристав спросил, что он умеет делать, Вавила признался: был бронником до пленения, тянул проволоку, вязал кольчуги и панцири. На него посмотрели с недоверием, однако же вскоре отправили невольничьей дорогой в другой италийский город – Флоренцию, в мастерскую оружейного цеха. Работа от зари до зари, однообразная, изнуряющая. Он никогда не старался показать сметки и прилежания, хотя мог не только многое перенять от мастеров, но кое-чему и поучить фрягов. От отца и деда Вавила слышал, что кольчуга и кольчатый панцирь, в старину именовавшиеся «броней», – русское изобретение. От ордынского ига русские оружейники пострадали как никто другой, за ними специально охотились не только во время набегов. Поэтому-то князья никогда не дарили ханам и темникам оружия, изготовленного на Руси. И все же, несмотря на великие утраты, Вавила с тайной гордостью примечал: кольчужные панцири флорентийских мастеров слабее русских из-за упрощенной связки наложенных броней. Русский панцирь как ни поворачивай, отверстия колец перекрывались и дважды, и трижды, поэтому и бронебойная стрела, и острие копья, кончара, клевца или рапиры обязательно наталкивалось на сталь. Во флорентийском этого не было, оттого противопанцирное оружие вернее поражало воина. Не делали здесь панцирей из плоских узорных колец, как и дощатых броней – самой надежной защиты ратника от всякого оружия. Зато латники здесь были искуснее русских, он, наверное, любовался бы их работой, не будь душа на крепком замке. Глаза только видят, а любуется душа. И уста его молчали обо всем, что видел, руки были неловки и грубы. Ремесленники считали его туповатым скифом, годным лишь раздувать печи и горны, махать кувалдой, ворочать раскаленные поковки. Даже секретов, тщательно оберегавшихся в замкнутых цеховых объединениях ремесленников, от него не таили, как не таят их от рабочего мула.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?