Текст книги "Алтайская баллада (сборник)"
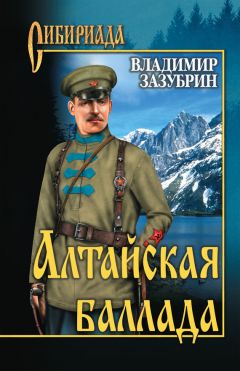
Автор книги: Владимир Зазубрин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
II
Когда железными лапами мял, плющил, ковал железо – было все просто. Когда в серой шинели, в сером, грязном окопе лежал с винтовкой – знал свое место, знал, что нужно делать. Когда командовал партизанским отрядом – все понимал. Но в Упродкоме, в шипящем шелесте бумаги, в скребущем скрипе перьев, в стрекотне, щелканье счетов, часто терялся. Временами Аверьянову казалось, что бесчисленная бумажная саранча с шипящим шумом крыльев, со стрекочущим треском ног, со скрипом, со щелканьем челюстей набрасывается на тысячи пудов, штук, аршин – хлеба, мяса, масла, сала, льна, конопли, сена, соломы, соли, спичек, шкур, шкурок и тысячи тысяч пудов, штук, аршин пожираются, исчезают бесследно.
…шшш-ш-ссс-с-ттт-т-ччч-ч-шшш…
Продукты выдавались, распределялись, грузились, отправлялись по нарядам, по ордерам, по карточкам – фунтами, пудами, тысячами пудов, аршинами, тысячами аршин, штуками, миллионами штук.
Продукты выдавались, продукты воровались, продукты портились. Контора бесстрастно отмечала на своем тарабарском языке выданное, украденное, испорченное.
…дебет, кредит, пассив, актив, баланс, транспорт, сальдо…
…шшш-ш-ш-шшш…
Бездушная бумажная саранча, прожорливая саранча. В самой ее гуще, среди стрекочущих, скребущих, щелкающих, шелестящих множеств – мечущийся, махающий руками, ругающийся рыжий комиссар.
Саранча бумажная – муть бумажная. Муть в голове уставшего, изголодавшегося Аверьянова. И в пестрой мути бумажной с бумажкой из Учрабсилы выплыл Иван Михайлович Латчин. (Революция, конечно, не бумажная муть. Бумажная муть только мутится, крутится, плывет по поверхности потока Революции.)
В бумажке из Учрабсилы было сказано, что Иван Михайлович Латчин направляется в Упродком как спец по продовольственному делу. Аверьянов встретил его с радостью, с радостью немедленно назначил своим секретарем, свалил на него всю канцелярскую работу.
– Вы, Иван Михайлович как спец по бумажной части навертывайте здесь в кабинете.
Латчин почтительно опустил бритое, пухлое лицо, полузакрыл большие, черные, круглые глаза.
– Слушаю-с.
– Мы с вами так и сделаем. Я, значит, по ссыппунктам, по постройкам буду лазить. Вы знаете, я затеял здесь элеватор? Хлеб негде хранить. Уж я надеюсь, что вы, как спец…
Латчин вежливо перебил. Встал, щелкнул каблуками, прижал правую руку к груди, широко раскрыл завлажнившиеся глаза.
– Товарищ Аверьянов, я никогда не забуду, что вы спасли меня от расстрела. Полагаю, что вы, хотя, может быть, и случайно, но не напрасно сохранили мне жизнь.
У Аверьянова гора с плеч. Аверьянов стал пропадать на складах, на ссыппунктах, на бойнях, на постройках. (Строился элеватор, мясосклад с подвалом, ремонтировалась большая паровая мельница.)
В Упродком на час, на полтора – подписать бумаги, принять посетителей. В Упродкоме стал хозяйничать Латчин.
С черными дымящимися змеями обозов ползли по городу, расползались по уезду черные черви слухов. Черные, липкие, холодные черви облепляли головы мужиков:
…разоряют, крадут, гноят… разоряют, крадут, гноят… красная тигра Аверьянов… красная тигра пьет крестьянскую кровь…
Аверьянов как не слышал, как не видел. У Аверьянова в руках уже гремел, накрывался железной крышей мощный элеватор. Уже пыхтела, перемалывая тысячи пудов в день, паровая мельница. Закончен, завален мясом мясосклад.
В Укоме, в Уисполкоме Аверьянова ругали за грубость, за стремление к «самоопределению», хвалили за работу, посмеивались… грубиян, матерщинник, партизан, самостийник, огненный комиссар, работяга, «тигра»… разверстку сорвал в срок… «тигра»… и налог возьмет вовремя, не спустит… огненный комиссар… «тигра»…
Аверьянов работал, ковал. Знал, что работает, создает, кует.
Видел, что работа не валится из рук, идет. Чувствовал, что твердо ходит по твердой земле. Увереннее стали движения. Упрямо, настойчиво, смело смотрели зеленые глаза. По-прежнему только раздражал шелест бумаги, скрип перьев, стрекот машинок, щелканье счетов. Но это только в конторе. (А в конторе бывал мало.) В конторе сидел ловкий Латчин. Латчин аккуратно заготовлял к его приходу документы, бумаги, не задерживал ни на минуту. Латчин мягкими, пухлыми, ловкими пальцами листал бумаги, скороговоркой вполголоса передавал содержание, почтительно изгибался. Аверьянов корявыми, негнущимися пальцами расписывался, нагораживал заборчики негнущихся, ломаных букв.
Не любил эти часы. Не любил бумагу.
Шипит, шипит в ушах, и слов много непонятных, долго нужно думать, вдумываться, разбираться…
шшш… дебет… кредит… шшш… пассив… актив… шшш…
И все это непонятное, шелестящее, шипящее нужно загораживать заборчиком своих подписей.
Нехорошо. Скорее, скорее. На лошадь. И…
…Снова Уком, Уисполком, мельница, элеватор, мясосклад, ссыппункт, тысячи тысяч пудов, штук, аршин, тысячи лошадей.
Но не пугали тысячи тысяч, не пугала огромность размаха работы. Аверьянов убежден, что все пройдет гладко, что склады, и ссыппункты будут вовремя отремонтированы, на полном ходу будет мельница, будет открыт элеватор. Не сгниет, не испортится ни пуда, ни штуки.
Дело крепло, налаживалось.
Как-то на мельнице встретился с заведующим ссыппунктом Гаврюхиным.
– Товарищ Аверьянов, чего вы никогда не пишете мне записок на муку?
Аверьянов не понял.
– Каких записок? На какую муку?
У Гаврюхина черные глаза светятся хитростью, светятся жиром, блестят черные, жесткие волосы на голове.
– Неужто не знаете? Ну, скажем, там у вас пайка не хватает, а у нас тут лишки бывают. Для комиссара всегда можно пудик, другой…
У Аверьянова кровью-огнем зажглись глаза, полезли из орбит, лицо побагровело, залилось кровью, точно сразу под кожей лопнули все сосуды и кровь потекла по лбу, по щекам, по подбородку.
– Ах, язви тебя, сучье вымя! Ты что это, красть хочешь да краденым меня угощать? А?
Гаврюхин струсил. Лицо испуганное, посеревшее, как мукой обсыпанное.
– Да если ты… Да если я еще услышу… Да я тебя, сучья рожа, в тюрьме сгною…
Трясущийся, тщедушный Гаврюхин, дрожащими руками дергающий жидкие усишки, был гадок. Хотелось ударить, прогнать. Сдержался. Не было, не хватало работников.
В Упродкоме, в кабинете, подписывая бумаги, рассказал Латчину. Латчин почтительно изогнулся, приложил руку к сердцу.
– Конечно, это гадость. Но тем не менее, товарищ Аверьянов, вам надо лучше питаться. Выглядите вы очень скверно.
Аверьянов покраснел, точно ему стало стыдно от того, что он плохо выглядит. На Латчина посмотрел смущенно, ласково.
– Разве?
– Конечно. Знаете, что я вам предложу. Не сочтите только это за гаврюхинскую гнусность. Приходите сегодня ко мне обедать. Я вас угощу.
Улыбнулся, поднял голову.
– Не подумайте только, что краденым. Жене родные кое-что из деревни привезли. Право, приходите запросто покушать. Не грех…
Хорошо сказал Латчин. Как приласкал, как по голове погладил. И правду сказать – ныла последнее время дважды простреленная грудь, кровью иногда харкал, в глазах часто круги зеленые ходили, а под глазами не сходили синие. Паек мал. Много работы. Работы много больше, чем в кузнице, чем на фронте. Сразу стало как-то жалко себя, разбередилось что-то внутри больное. Вот так же иногда бывало в окопе, в германскую войну, когда ночью в затишье лежал один и думал. Вспомнил жену, детей – погибли от тифа в тайге во время скитаний, во время борьбы с белыми. Хорошо говорит Латчин, как отец ласкает. Никого нет у Аверьянова. Бобыль. Плакать хочется. Не помнил, как сказал:
– Да, приду.
Да, на фронте или на работе, когда не думаешь о себе, то и ничего, так и надо. Задумаешься – плохо. Нет, лучше не надо. Эх, разбередил…
Неловкость какую-то почувствовал, когда подходил к квартире Латчина. Обстановка у него барская. Кресла, креслица, столы, столики, и круглые, и четырех– и треугольные, и какие-то игрушки, финтифлюшки кругом, кружева, занавески – негде повернуться, не знаешь, куда и сесть. Тесно и неловко. И Латчин, хоть и секретарь его, хоть и подчинен ему, а все-таки барин. Жена же – барыня настоящая. Пухлая, круглая, белая, надушенная, шуршащая шелком, сверкающая драгоценными камнями. Когда здоровался, показалось, что рука у нее резиновая, надутая воздухом. Мнется, мягкая, холодная, и костей нет.
– Серафима Сергеевна – моя жена.
Латчины приняли Аверьянова ласково. Усадили за стол с белоснежной скатертью. Иван Михайлович сел напротив, стал угощать хорошим табаком. Серафима Сергеевна загремела посудой. Поблескивая кольцами и тарелками, не торопясь, ходила около стола.
– Мы без прислуги живем. Вы не смотрите на меня как на барыню. Я все могу делать.
Латчин смотрит то на жену, то на Аверьянова, с улыбкой расправляет плечи, грудь, поднимает голову. Под подбородком у него надувается жирный синеватый вал. Аверьянов чувствует, что Латчин хочет без слов сказать ему – смотри, какая у меня хорошая жена. Аверьянов молчит, курит, не знает, что говорить. Табак вот действительно хорош у Латчина. А Серафима Сергеевна уже поставила на стол миску с супом.
– Разрешите, я вам налью, т… то… простите, как вас по имени отчеству?
– Николай Иванович.
Отчего-то покраснел, уронил на скатерть горячий пепел.
Неловко замахал длинной корявой рукой, сшиб со стола ложку.
Зазвенело серебро на полу – засмеялось.
Нагнулся поднимать – стукнулся головой об стол. Стыд, стыд. Лучше бы провалиться. Ложку взять не успел. Латчин, улыбающийся, покрасневший, уже поднимался из-за стола. Ложка у него в руках блестит-смеется. Но Латчин серьезен, озабочен, ласков.
– Ничего, ничего, Николай Иванович. Сима, дай чистую.
На столе засверкал граненый графин с разведенным спиртом. Аверьянов не заметил, кто и когда его поставил. Латчин внимательно, как тяжелобольному, заглядывает в глаза.
– Николай Иванович, пропустим по маленькой для аппетита. А?
А сам уже налил. Аверьянов не пил давно – захотелось. Где-то мелькнула мысль – для храбрости. Выпили по одной. Повторили. И еще по одной, и еще, и еще. Серафима Сергеевна не отставала. Аверьянову было смешно, что пила она морщась и, поднимая рюмку ко рту, далеко отставляла маленький пухлый мизинец. Закусывали вкусным вареным мясом с солеными огурцами и грибами. Аверьянов молчал, но пил и ел жадно. Латчин подливал спирт, занимал разговором.
– Да, ворья у нас в Продкоме порядочно. На днях вот была история с Прицепой. Я вам не докладывал – пустяк. Он прицепился к одному налогоплательщику. Давай, говорит, лошадьми меняться, а то скидку на сено сделаю.
Аверьянов проворчал:
– Выгнать надо.
Вступилась Серафима Сергеевна:
– Ну как вы жестоки, Николай Иванович. Ведь Прицепа пошел на это с голоду. Вы подумайте, сколько ваши служащие получают?
Аверьянов неожиданно грубо спросил:
– А у вас родственники в деревне? Привозят?
Напудренное лицо Латчиной, белое, кругловатое, как яйцо. Брови на нем резкими подчерненными дужками. Глаза – черные кружочки.
– Ну да, родственники… привозят. А что?
– А спирт у вас откуда?
Спросил и разозлился. Что-то липкое, раздражающее было в глазах Серафимы Сергеевны. Латчин, в белой, чесучовой рубахе, улыбнулся, показал крепкие желтоватые зубы, ответил:
– Спирт, Николай Иванович, я, уж извините, специально для вас взял в Продкоме у завхоза. Для такого гостя, думаю…
Аверьянов сморщился, затеребил усы.
– Сердитесь, Николай Иванович? Напрасно. Спирт у нас для рабочих на бойне. Расходуется безотчетно. И неужели мы с вами не заслужили эту несчастную бутылку?
Голос у Латчина мягкий, глаза ласковые. Пожалуй, он и прав. Неужели не заслужил? Что это я на них разозлился?
– Вы меня извините, я человек грубый. Негде было учиться вежливости.
Латчины оба к нему. Дернулись, наклонились над столом. Протягивают руки с рюмками, улыбаются. И в один голос:
– Полно вам, Николай Иванович… Мы всегда всей душой… Да разве мы… Пейте…
Спирт горячий, суп горячий. Горячо в желудке, горячо в голове. Кружится голова. А Латчины липнут, липнут, наливают. Тяжело сидеть, окаменел, прирос к стулу. Скатерть белая, рубашка у Латчина белая, кофточка у Латчиной белая, руки белые, лица белые. Бело, бело в глазах. Булькает в графине спирт. Булькает в ушах. Уснуть бы…
Потом пошло по шаблонной скучноватой схемке:
Утром проснулся в квартире, в постели Латчина. С трудом сообразил, почему и как.
За утренним чаем не смог отказаться от настойчивых приглашений Латчиных переехать к ним на квартиру.
Переехал на квартиру к Латчиным.
Стал жить у Латчиных «на полном пансионе». (Ведь Латчин уверил, что жена у него прекрасная хозяйка, сможет устроить приличный стол из двух пайков и некоторой добавки из деревни от родственников. Латчин уверил, что за некоторую часть добавки Аверьянов с ним расплатится, когда будет улучшено положение ответственных работников. Латчин доказал, что ничего предосудительного в этом нет, что это просто-напросто товарищеская взаимопомощь.)
А по городу, по уезду ползали, крутились, клубились черные черви слухов:
…воруют… воруют… обвешивают… обманывают… мошенничают… тащат… воруют… тащат… растаскивают… воруют…
Аверьянов слышал, знал, считал мелочами, сплетнями, обывательской злобой. Знал, что не чисты на руку завссыппунктом Гаврюхин, завсенскладом Прицепа, завбойнями Брагин, весовщики Рукомоев и Шилов. Вызывал их всех к себе в кабинет, материл, грозил тюрьмой, но оставлял, потому что не было, не хватало людей, не было возможности в разгар кампании уволить нужных работников.
Схема работы Аверьянова была такова:
Тысячи тысяч пудов, штук, аршин, тысячи бумаг, циркуляров, телеграмм, запросов, отношений, тысячи людей. Склады, ссыппункты, мясопункты, бойни, мельницы, элеваторы.
Разверстка, продналог.
Упродком, Заготконтора (был назначен завзаготконторой).
Поручено наладить, поставить уездное отделение акц. о-ва «Хлебопродукт». (Это уже при нэпе.)
Валюта, курс, калькуляция и с ними тысячи золотых рублей, тысячи тысяч, миллиарды, триллионы бумажных рублей – совдензнаков.
И, кроме всего этого, в порядке партдисциплины, точно, то есть безоговорочно, безапелляционно, своевременно и непременно:
Партсобрания – ячейковые, районные и общегородские.
Собрания профессиональные.
Субботники и воскресники (отменили при нэпе).
Доклады на собраниях партийных, профессиональных, на широкобеспартийных (не слушать, а делать).
Лекции в партшколе и на профкурсах (не слушать, а читать).
Беседы в ячейке. (Не просто беседовать, а вести.)
Работа в марксистском кружке (самообразование).
Ты кузнец, ты коммунист – вези, работай, куй. Нагрузку тебе на плечи предельную – чтобы не лопнул только спинной хребет. Ты коммунист – тащи.
Революция…
Безропотно, безапелляционно, безоговорочно в порядке парт… проф… сов… и прочих дисциплин и без них работал, вез коммунист, кузнец Аверьянов.
Дома бывал только утром, в обед и ночью. Спать ложился редко рано. Сытно ел у Латчиных. Но не сходили синие круги из-под глаз, крутились в глазах круги зеленые, лиловые, фиолетовые. В ушах шипела, шелестела бумага, стрекотали машинки, скрипели перья, щелкали счеты.
…шшш-сс-ччч-ттт-шшш…
Даже ночью, даже дома в постели шипело в ушах, шумело в голове.
…шшш-шшш…
И это шипение, шум, непонятные слова конторские часто стали пугать.
…дебет… шшш… кредит… пассив… актив… шшш… Саранча. Бумажная саранча.
А вдруг только и есть одна бумага? Вдруг ничего нет за ней? Вдруг все слопала бумага, бумажная саранча? И нет на складах тысячи тысяч пудов, штук, аршин?
Кидался на склады, на ссыппункты, на мясопункты, смотрел, спрашивал, щупал. Как будто все было на месте. Но не успокаивался. Недоверчиво, настороженно напрягались нервы.
В городе, в уезде шевелились, не затихали черные черви слухов:
…воруют… воруют… воруют…
Раньше не обращал внимания, старался не замечать. Теперь заползли в грудь, в голову черные черви. Шумело, шипело в ушах, в голове, ныло в груди.
…шшшш… воруют… шшшш… воруют… шшш…
Так вот и завертело всего. Нет сна, нет покоя.
III
Аверьянов не мог понять, почему Латчины, когда вечерами к ним заходила вдова Ползухина, уходили из квартиры, оставляли Ползухину наедине с ним. Не нравилась Ползухина Аверьянову. Глаза у нее черные, засахаренные, липкие, как у Латчиной. Нос тонкий, крючковатый, хищный. Подбородок широкий, двойной. Груди двумя дрожащими шарами лезут из-под кофточки. Но главное глаза, глаза, взгляд. Уставится и смотрит, разглядывает. Не вытерпел, как-то спросил:
– Ксенья Федоровна, чего это вы на меня как на диковину какую смотрите?
Ползухина усмехнулась. Опустила концы накрашенных губ, прищурила подведенные глаза.
– А вы маленький мальчик, не знаете, не понимаете?
Аверьянов передернул плечами, опустил голову, задергал усы, посмотрел на Ползухину исподлобья.
– Понимал бы – не спрашивал.
Ползухина встала, подошла к Аверьянову (Аверьянов сидел на маленьком диване), села рядом с ним. И совершенно серьезно, бледнея, смотря ему в глаза расширенными черными зрачками, обжигая горячим дыханием, прямо ему в ухо вдруг осекшимся голосом:
– Потому, что хочу за вас замуж, Николай Иванович.
Ползухина напряженно наклонилась в сторону Аверьянова, ждет. Аверьянов спокоен, неподвижен. Аверьянову противно, что от Ползухиной пахнет пудрой и потом. Полунасмешливо, полусерьезно процедил, не выпуская изо рта папиросы:
– Лучшего никого не нашли?
Ползухина вздохнула, чуть отодвинулась.
– Лучше вас с Латчиным женихов не найти. Только, конечно, Латчин-то уж женат. Ну а вы…
– Почему не найти?
– А потому, что самые вы хлебные люди.
Аверьянов скосил на Ползухину холодные зеленые глаза (когда Аверьянов спокоен, глаза у него зеленые, когда волнуется – рубины, яшма).
– С чего это вы взяли? Мы получаем гроши. А если живем еще ничего, то это только благодаря родственникам Латчина.
Ползухина хихикнула, глаза у нее заиграли липким, сахарным блеском.
– Родственники, р-о-д-с-т-в-е-н-н-и-к-и. Знаем мы этих родственников. У вас с Латчиным все завскладами, все завхозы в Заготконторе и в «Хлебопродукте» родственники?
– Что вы этим хотите сказать?
У Ползухиной капризная гримаска. Руки нервно дергают беленький батистовый надушенный платочек.
– Эх, будет вам, Николай Иванович, ломаться. Не знаю я, что ли, откуда у вас с Латчиным все это благополучие.
Ползухина сделала жест рукой – показала на обстановку.
– Прошлый год Латчин мне поставлял дрова и керосин и в нынешний понемногу дает и будет давать, пока…
Аверьянов вскочил.
– Нет, уж больше вам ничего не попадет.
Поднялась и Ползухина. Смерила презрительно прищуренными глазами комиссара. Бросила с гневом:
– Пока вы с Латчиным не выплатите мне полностью ваш долг, пока я не получу всего за взятые вами у меня вещи…
– Какие вещи?
– У, ломака! Извольте, напомню. Вы у меня с Латчиным взяли беличью шубу, песцовый горжет, жеребковую доху, вот этот диван, на котором мы с вами сидели, вот эти кресла, вон тот шифоньер.
Ползухина схватила Аверьянова за руку.
– Идемте в прихожую.
Потащила почти насильно.
– Вот эта жеребковая доха чья здесь висит? Кто ее носит?
Ползухина сорвала с вешалки огромную бурую доху. Аверьянов, волнуясь, ответил:
– Эту доху ношу я. Мне ее на время дал Латчин.
– Ага, дал Латчин. Ну, эта доха моя! И вы еще будете упираться, говорить, что ничего не знаете? И если вы посмеете меня надуть, мне недоплатить, то я вас с Латчиным выведу на свежую водицу, я вашу керосино-дровяную и мучную лавочку раскрою.
У Аверьянова лицо белое и неподвижное, как кость. Глаза – кровяные рубины. Рубины в костяной оправе век. Усы из красной меди на костяном, на окостеневшем лице как язычки огня. Рыжие волосы на голове – горящая копна соломы. Губы тонкие, окислившиеся от меди усов, зелены.
– Ксения Федоровна, мы с вами сейчас же поедем в ГПУ, где вы должны будете повторить все, что говорили мне.
Ползухина схватилась за грудь, как от удара закрылась.
– Нет, нет! Ни за что!
– Без разговоров! Одевайтесь сию же минуту.
Снял с вешалки беличью, крытую черным шелком, шубку. Корявые пальцы цеплялись за шелк, шелк скрипел. Одел силой. Насильно затолкал пухлые, рыхлые руки в рукава.
– Надевайте шапку и идем.
Оделся сам. (В доху. С полу поднял.) Схватил под руку – повел. В дверях, бледные, волнующиеся, столкнулись со спокойными, раскрасневшимися Латчиными. Латчины обменялись красноречивыми, многозначительными взглядами. Латчин оскалил желтоватые ровные зубы, вежливо приподнял шапку.
– Эээ, очень приятно. Счастливого пути. Наконец-то наш Николай Иванович понял, что мужчина должен быть кавалером. Не грех, не грех…
Дверь захлопнулась. На синем снегу в синей тьме ночи черный, тяжелый узел щелка, меха и мяса повис на руке у Аверьянова.
– Николай Иванович, умоляю, оставьте это дело. Я пошутила! Ничего у меня Латчин не брал и мне ничего не давал.
– Такими вещами не шутят.
Ползухина заплакала. Ей было жаль Серафиму Сергеевну. Они вместе кончали одну гимназию.
– Николай Иванович, зайдемте ко мне на квартиру. Если я не выпью валерьянки, то все равно ничего не скажу в ГПУ – буду только реветь. Зайдемте.
Неохотно согласился. Шли долго. Звонко хрустел под ногами снег. Ползухина тяжело висла на руке, спотыкаясь. Вел. В двухэтажном доме поднимались по темной, скрипучей лестнице. Стучались. Прошли темный коридор, ярко освещенную столовую с ярко начищенным шипящим самоваром на столе, с удивленными незнакомыми рожами за столом. И в столовой же – толстые, неуклюжие, в дохе и шубе затоптались у двери в комнату Ползухиной. Аверьянову показалось, что она возилась с ключом и замком не менее пяти минут. А сзади, в абсолютной тишине столовой, на столе самовар шипел, свистел, как паровоз. Кололи затылок, спину недоумевающие, любопытные взгляды.
Наконец, вошли в комнату. Щелкнул выключатель. Комод, зеркало, безделушки, коробочки, флакончики. Кровать под кружевным одеялом. Сбросила на стол шубку. Стала среди комнаты. Аверьянов у комода.
– Николай Иванович, милый, пощадите Латчиных, не губите меня. Что хотите со мной делайте, но в ГПУ я не пойду. Хоть убейте – из комнаты никуда не выйду.
Не успел опомниться, отстраниться – подошла, обняла, повисла на шее, положила голову на грудь.
– Милый, ну зачем тебе это?
Тихо полуоткрылась дверь, просунулась прилизанная грловка хозяйки. На секунду только показалась острая, сухонькая старушечья мордочка, блеснули узенькие мышиные глазки. Как в норку испуганный зверек, юркнула за дверь маленькая головка. Дверь захлопнулась.
Аверьянов рванулся всем телом, затряс головой, плечами. Но руки у Ползухиной цепкие, как лапки зверька. В зеленом платье, зеленой ящерицей впилась. Не оторвешь. Тяжело шагнул к кровати. Свалились, провалились в мягком пуху перины. Крепким, костлявым кулаком левой руки ткнул в левый бок против сердца. Охнула, разжала руки. Такой же крепкий и костлявый кулак правой с силой воткнул в дряблое мясо лица. Взвизгнула, застонала. Пачкаясь в пудре, в краске губ, схватил обеими руками за обвислые щеки, отхаркался, плюнув в черные, липкие глаза. Разорвал кофточку, лиф, рубашку, юбку, панталоны. Хватал, мял тело женщины. Харкал, плевал на грудь, на живот, в лицо.
– Сука! Сучье вымя! Вам бы только жрать сладкое! Красть! Краденое жрете! Ну-ка, я посмотрю, что у тебя за устройство? Тьфу. Сволочь! Все как у всех! Всем голодать, а вам жир нагуливать. Я вам с Латчиным покажу мягкие диваны, песцовые меха! Сволочи! Тьфу. Харк! Тьфу! Тьфу!
Выскочил за дверь. Через столовую бегом. Рукавом задел, свалил на пол, со звоном разбил стакан. У двери запутался в запорках. Сзади, торопливо шмыгая туфлями, подошла хозяйка.
– Сейчас, сейчас открою, господин товарищ.
С лестницы сбежал, как с ледяной горы скатился. На улице звонко звенел под ногами снег, звенел в ушах звон разбитого стакана. В голове вертелись, крутились отдельные бессвязные мысли, слова.
…керосин… дрова… дохи… диваны… диваны… дрова… дохи… керосин… мука… шесть бочек негодного керосину… шесть бочек негодного керосину… шесть бочек… шесть бочек… откуда это?.. что это?.. шесть бочек… а-а-а-а-а-а… вот… нашел… нашел… поймал кончик… а-а-а…
Аверьянов вспомнил, что на днях Латчин давал ему на подпись акт об уничтожении шести бочек негодного керосину. Не проверял, не подозревал. И теперь, припоминая разговор с Ползухиной, – я раскрою вашу керосино-дровяную лавочку! – неожиданно ясно представил себе картину кражи.
Латчин – вор. Латчин украл. Но с кем? Один не мог. И опять в голове завертелось, закружилось, закричало торжествующее… а-а-а-а-а-а-а…
Кладовщик хозчасти Мыльников. Мыльников. Без него не мог взять. Но тогда и завхоз Гласс. Конечно – Мыльников, Гласс, Латчин. Втроем.
Подошел к Заготконторе. В бухгалтерии был свет. Бухгалтер Карнацкий занимался сверхурочно. Постучался – открыл сторож, чернобородый Мордкович. Заперся в кабинете. Не раздеваясь, в дохе сел в кресло. Голова была ясная, свежая. Мозг работал остро, легко, без малейшего усилия. Закурил. Папироса задымила густо и крепко.
Ползухина подозревала его. А почему бы и не заподозрить его и Мыльникова? Берет секретарь… Почему секретарь не может действовать с согласия заведующего? Ага. Вот… Надо начинать с Мыльникова. Не клюнет ли?
Сидел, курил, думал, строил планы.
Карнацкий давно ушел. Мордкович уснул. Ярко горела на столе лампа под зеленым абажуром. Зеленовато-серые тучи табачного дыма висли, покачиваясь, перед глазами Аверьянова. А может быть, это просто в глазах было зелено-серо от усталости, от бессонницы, от малокровия.
Перед рассветом, засыпая в кресле, слышал звон снега (может быть, под окнами кто проходил, а может быть, казалось, чудилось), слышал звон разбитого стакана, шорох струйки утекающего из бочки керосина, шипящий шум хлеба, сыплющегося по трубе элеватора:
…зи… зи… зи… си… си… си… дзинь… дзинь… шшш.
И в голове —
…вижу… вижу… вижу… дохи… диваны… дрова… доха, доха-то на мне…
…ш-ш-ш-шшш…
…бумажная саранча… песцовый горжет…
Утром Латчин, увидев дремлющего Аверьянова в дохе за столом, удивился, развел руками.
– Ба, ба, ба, кого я вижу? Однако у вас личность-то весьма основательно помята. Видно, бурно провели ночку. Хе-хе-хе.
Латчин хитро подмигнул правым глазом, потрепал Аверьянова по плечу. Аверьянов дернул плечом, стряхнул руку Латчина, поморщился.
– Не нравится? Ну, не буду, не буду. А все-таки с законным браком разрешите поздравить. Бабенцию вы подцепили знатную. Вдова полковника. Хе-хе-хе. Не кое-как.
Аверьянов встал, надел шапку.
– Куда это вы?
– Поеду на мельницу.
– А… Ну, отлично, отлично. Пора вам и за ум взяться. Только не злоупотребляйте. Самое лучшее по Лютеру – два раза в неделю. Хе-хе-хе.
Кучеру велел ехать к складу хозяйственной части.
Мыльников был в кладовой один. Отозвал в дальний темный угол, зашептал:
– Товарищ Мыльников, чего же это вы нас надули с Латчиным?
– Как надули?
В полумраке, в морозе кладовой лица Мыльникова и Аверьянова походили на ожившие старые портреты, давно написанные, потемневшие от времени. Аверьянов быстро шептал:
– Ведь вы сколько бочек нам обещали?
– Три.
В голове, в мозгу Аверьянова радостным ожогом —
…есть, есть, клюнул, попался…
– Вот и я думал, то есть знал, что три, а прислали только две.
– Что вы, товарищ Аверьянов, я вчера последнюю отправил вам на Лиственничную, 7.
– Ах, ну тогда простите, значит, мне Латчин не успел рассказать…
Торопливо пожал руку.
Кучеру крикнул радостно, торжествующе:
– В гэпэу. Дуй.
Потом, сидя в кабинете, нервно мял газету, посматривал на телефон – ждал звонка из ГПУ. Латчин посматривал на него полуудивленно, полунасмешливо.
– Что это вы сегодня, Николай Иванович, все в кабинете сидите?
Аверьянов огрызнулся:
– Дело есть, вот и сижу. А что, разве я мешаю вам? —
Латчин пожал плечами:
– Вы сегодня положительно не в духе.
Звонок залился серебристым звоном. Аверьянов вскочил, схватил трубку.
– Да. Я. Ага. Три бочки. Указали на Латчина. Так.
Латчин насторожился.
– Гласс сознался? Ага. Две бочки. Мыльников одну. Ага. Ползухина подтвердила? Ага.
Лицо Латчина стало белее его рубашки.
– Хорошо, жду.
Повесил трубку, посмотрел на Латчина холодными зелеными глазами, цвета зеленой яшмы.
– Поняли?
Латчин провел ладонью по лицу.
– Н-н-нет, нне понял.
Аверьянов спокойно вытащил из кармана браунинг, положил около себя на стол, сел в кресло.
– Чего вы дурака валяете, господин Латчин? Ползухина созналась, Гласс сознался, Мыльников сознался. На Лиственничной, 7 нашли три бочки керосину, хозяин квартиры Аганезов указал на вас, сказал, что керосин получил от вас для сбыта. Ну?
Латчин, вздрагивая, щелкая нижней челюстью, сполз со стула, мешком свалился на пол, стал на колени.
– Товарищ Аверьянов, пощадите. Ведь пустяк…
– Я ворам не товарищ. Встаньте.
С портфелем, с наганом, в высоких сапогах вошел уполномоченный ГПУ. За ним в дверях с винтовками остановились два милиционера в высоких черно-красных кепи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































