Текст книги "Хамам «Балкания»"
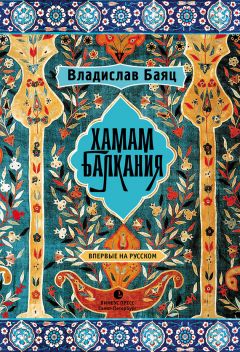
Автор книги: Владислав Баяц
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Владислав Баяц
Хамам «Балкания»
Перевод на русский язык осуществлен при финансовой поддержке Министерства культуры и информации Республики Сербия
Перевод с сербского Василия Соколова
© Hamam Balkanija, Vladislav Bajac, 2008
© ООО «Издательство К. Тублина», 2016
* * *
В этой книге все имена вымышлены.
Как и все образы, включая образ всезнающего автора.
Хамам, или Искусство бытия
Весьма вероятно, что знаменитую синтагму «чудеса природы» придумал древнегреческий философ-материалист Эпикур (341–270 гг. до н. э.). И вот почему: в своей этике и понимании человеческого счастья он опирался на уверенность в том, что без познания природы невозможно достичь истинного наслаждения. Он был убежден, что наслаждение есть высшее благо. Полагать эти постулаты целью жизни вовсе не означает предаваться вульгарным, распутным наслаждениям или идти по пути удовлетворения неумеренных гастрономических удовольствий, как считают непосвященные. Напротив, в первую очередь они означают избавление от телесных страданий и душевного беспокойства.
Достижение духовного покоя базируется на натуралистической и индивидуалистической основе.
Вера Эпикура в гедонизм была настолько прочной, что ее не смогли поколебать даже мрачные дни распада царства Александра (свидетелем недавней силы и величия которого был Эпикур), а его последствием стало все что угодно, но только не наслаждение. Несмотря ни на что, он думал, что «ничего не стоит слово философа, которое не лечит человеческие страдания. Потому как, насколько бесполезна медицина, если она не в состоянии изгнать болезнь из тела, точно так же бесполезна и философия, если она не может изгнать из души страдание».
Следовательно, тот, кто мог избежать телесной боли и духовного беспокойства, тот, для кого чувственные наслаждения и духовные радости (слившиеся воедино) суть высшая ценность существования, тот, кто познал искусство наслаждения, в первую очередь и попадал в эпикурейское братство – существующее и по сей день.
Его духовный отец – основатель киренской школы Аристипп (435–355 гг. до н. э.) из Кирены, лучшего и самого прогрессивного поселения в Ливии. Пиндар описывал это место как холм, занимающий прекраснейшее местоположение, богатый источниками воды, искусно орошающими его плодородные террасы. Великолепные окрестности украшали маслиновые рощи, виноградники и плантации пряностей, равно как и просторные пастбища со стадами овец, коз и лошадей, тех самых, которые стали родоначальниками знаменитых арабских скакунов. Несмотря на постоянные стычки с египтянами и ливийцами, киреняне сохранили высокоразвитую торговлю, которая превратила их отечество в одно из самых богатых эллинских государств. Так что его гражданам не приходилось расходовать силы исключительно на труд, и потому они усовершенствовались в познании роскоши и наслаждения, «которое рождается из изобилия и рафинированного восприятия жизни». Это было место, которое теперь воспринимается как древняя античная модель утопических городов-государств, описанных прежде всего Томасом Мором и Томмазо Кампанеллой.
Нет ничего удивительного в том, что мыслитель, провозгласивший наслаждение главным жизненным принципом, Аристипп, родился именно в Кирене. Однако он остался создателем этого принципа под иным названием: гедонизм. Он провозгласил удовольствие единственным добром, в то время как боль счел единственным злом. Чувство наслаждения, говорил он, выражается в движении: «Легкое ощущение движения, похожее на ветер, наполняющий паруса, есть источник удовольствия; грубое движение чувств напоминает бурю на море, оно – источник равнодушия, равно чуждого и удовольствию, и неудовлетворенности». Но Аристипп ни в коем случае не считал возможным целиком подчинить человека погоне за сиюминутными чувственными наслаждениями; напротив, он учил, что мудрый человек, руководствуясь разумом, не подчиняется удовольствиям, но властвует над ними. Такое свое убеждение он доказал своим ничуть не равнодушным отношением к гетере Лаиде, как и своим знаменитым изречением: «У меня есть Лаида, но у нее нет меня».
Весьма соответствует этому положению этический эвдемонизм (названный так по имени древнегреческой богини счастья и блаженства), который счастье и блаженство полагает главным мотивом, стимулом и целью всех наших устремлений. Однако всем видам гедонизма, от грубо чувствительного до рационально-духовного, присущ исключительно выраженный индивидуализм.
История, последовавшая после этих эллинистических «школ наслаждения», показала, что некоторые ее серьезные и оставшиеся в нашей памяти создатели, наравне с многими анонимными и незапечатленными индивидами, несмотря на всю грубость собственной жизни и жизни своих народов и государств, пытались хотя бы частично стать и остаться наслаждающимися. Они от всей души старались почувствовать удовольствие, несмотря на огромную и абсурдную разницу в понимании гедонизма как наслаждения собственной или чужой красотой либо своей или чужой смертью.
Впрочем, в любом случае они доказали неизменность роли этического релятивизма.
До начала
У Вишеграда, как и у всякого другого города, есть своя истинная жизнь. Но как ни в каком другом месте, у него есть иная, заумная жизнь. Мое общение с метафизикой Вишеграда началось в апреле 1977 года, на подходах к нему, прежде чем я увидел мост на Дрине, который наверняка сделал его вечным в истории. В сохранившуюся по сей день тетрадку, куда я записывал свои хокку, я занес геопоэтический комментарий «на гальке Вишеграда», рядом со стихом, который я усмотрел в окно автобуса:
Валун меж двух сосен
раздел положил
в этом лесу.
Мой хозяин и товарищ студенческих лет, Жарко Чигоя, полагал, что мост Мехмед-паши Соколлу (Sokollu, по-турецки) 1571 года – мост Андрича – вполне достаточный объект для любования, так что даже не стал мне показывать иные достопримечательности родного городка. Он даже предположить не мог, насколько я эгоистичен и одновременно несчастен из-за того, что вынужден этот величественный мост делить с другими объектами. Однако разве мог я предположить, что посвящение в тайны вишеградских окрестностей следовало заслужить, приобретя опыт, который позволил бы наслаждаться тем, что будет предложено? Опять-таки тут речь шла о некоем тайном братстве. И мне пришлось ждать целых двадцать шесть лет, прежде чем вступить в него! Но оно того стоило. Выжидать меня научил именно Иво Андрич – вновь перечитывая на лекциях по литературе его шедевр, я все еще не был в состоянии увязать текст с жизнью: так, я небрежно прошел мимо сведений о начале строительства моста – о его сущности – о «доставке камня из рудника, который стали разрабатывать в горах у Бани, в часе ходьбы от городка». Мало того, два самых важных, по крайней мере, в литературе моста во всей Боснии – этот, на Дрине, и тот, на Жепе[1]1
Имеется в виду рассказ Иво Андрича «Мост на Жепе» – первоначальный набросок к роману «Мост на Дрине» (прим. пер.).
[Закрыть], – были построены из того же самого белого камня из моего стиха хокку: любовью и деньгами потурченцев, или принявших ислам сербов, Мехмед-паши Соколовича и Юсуфа Ибрахима, а увековечены скупыми и мудрыми словами Андрича, человека, который своему герою подарил свой девиз «В молчании – уверенность».
Когда я пожаловался другу, что, похоже, мое желание писать практически иссякло, он ответил, что беспокоиться не стоит. У него есть лекарство от этого недуга. Вот, кстати, к нему приезжает в гости турецкий писатель Орхан Памук с таким же диагнозом, так что мы оба можем воспользоваться его рецептом.
Единственное, что я знал о Бане, Бане Соколовича, вишеградской Бане, как ее все называли, помимо того что там брали камень, из которого построили Вишеградский мост, так это то, что в пяти километрах от города били целебные источники. На них Мехмед-паша Соколович, дожив до глубокой старости, выстроил хамам с куполом, желая еще что-то подарить родным краям. В брошюре 1934 года я прочитал, что эта радиоактивная вода (на высоте более четырехсот метров над уровнем моря) лечит от ревматизма, невралгии и женских болезней. В ней утверждалось, что эта вода великолепно воздействует на женское бесплодие. «Если бесплодная женщина пройдет полный курс и вскоре после этого родит ребенка, все суеверное население сомнительно покачает головой и скажет: “Вот те крест, кабы не купалась да кабы не ворожила, так бы и не родила…”».
Так и я частым лесом отправился в хамам по редкостной, растущей только здесь траве волшебного облика, которую я назвал русалочьей косой. Радовался предстоящей встрече со старым знакомым Орханом Памуком, самым знаменитым турецким писателем родом из Стамбула. Меня немного удивляло, что и он страдает от неписания, поскольку он был известен своей плодовитостью. Если в какой-то период писательской жизни он и не выдавал новинок, то следующим плодом его творчества становилось довольно крупное дитя.
Я же рожал детей намного реже, и чаще всего они были среднего веса. Такой уж у меня был ритм. Однако в этот последний год я не зачал ни одного, и это меня весьма обеспокоило. Поэтому я отправился на встречу с камнем, который рожал воду: его плодовитость возвращала мне уверенность. Камень, на который я наступил, топтали более четырех веков! Камень цвета травы и мха! Вода горячая, но не кипящая, ровно райской температуры. И тело, превращающееся в дух! Жив, но и мертв! Памук и наш хозяин пытаются переговариваться сквозь водянистый туман, но слова исчезают в стеклянных окнах купола и теряют всяческий смысл. Мы становимся героями фильма с суфийским названием «Барака» режиссера Рона Фрике, которые, стоя на месте, плывут по поверхности, превращающейся в дымку, и переходят в иное агрегатное состояние, теряя вместе с собой всяческий интеллект. Веки смыкаются, но глаза не уходят в сон. Когда становится опасно, я проталкиваюсь сквозь тяжелую воду и подставляю плечи под сильную струю, льющуюся из камня в этот небольшой бассейн. Она со страшной силой избивает меня. Но я счастлив до глупости. Здесь встречаются каббала, дзен, суфизм, православная аскеза, католическое уничтожение боязни греха, художественный ислам… Как папоротник «русалочий волос» не может расти на ином месте, так только здесь. Вода поднимается с глубины в сто восемьдесят метров и из еще более серьезной исторической глубины в тридцать восемь тысяч лет. Возраст достаточный, чтобы не усомниться в причинах существования источника и его обращения к миру.
Отсюда и мое общение с прошлым. Древность, которую ты вдыхаешь здесь, подлинна, и ты не можешь воспротивиться ей. Сначала дух теряет ориентацию, после чего исчезает понятие времени, а тогда и тело теряется в пространстве, как и само понятие о нем. Эта своеобразная нирвана превращает меня в огромный вопросительный знак. А не обслуживал ли в этом хамаме бесплодных женщин некий мужчина, известный своим здравым семенем? Не был ли этот бассейн мужским гаремом для безутешных нерожавших женщин? Каким же наслаждением мог быть этот плещущийся бассейн для бегов, пашей, визирей или султанов, хозяевами они там были или гостями, не все ли равно! Какой бы пол ни обслуживал эту активную воду и купающихся в ней – говорят, в одном утраченном тексте утверждалось, что занятия любовью под горной струей (температурой тридцать четыре градуса) равны наслаждениям в райских садах, валгалле и дзену.
Этот хамам мог бы стать идеальным местом для караван-сарая. Сколько бы денег оставили здесь путешественники! Но природа, да и судьба пожелали укрыть его в стороне от слишком оживленных путей и пристроили его на высоте, отпугивающей усталого путника самой мыслью о предстоящем подъеме. Потому и камень хамама шлифовали десятилетия и века, а не никчемная рука человека. Хотя, следует признать, эта рука встревала, куда и где только могла: именно по этой причине можно найти цитаты в старинных текстах (узнавая их по языку без необходимой ссылки на источник и время создания), которые совпадают с днем нынешним: «Рядом с Баней воздвигнуто здание, в котором один популярный арендатор содержит ресторацию и комнаты для ночлега. Перед этим зданием есть большая веранда, с которой открываются величественные панорамы природы».
Не знаю, насколько популярен нынешний арендатор, частник он или нет, но он не избавился ни от «ресторации», ни от «веранды». Потому что совершенно точно, что удовольствие, полученное от купания в крохотном райском бассейне, не было бы полным, если бы после него нельзя было пройти по чему-то вроде моста на ресторанную террасу. Она представляет собою большой висячий незастекленный балкон над глубокой горной пропастью, с которого открывается великолепный вид, захватывающий дух, и мысли ваши, распространяясь, отталкиваются от боснийских гор и ущелий и возвращаются к вам бесплодными, так что мурашки бегут по коже. А еда! Помимо всех местных закусок, вас ожидает королевское блюдо – за час до этого заказанная по телефону и доставленная из Златибора только что выловленная в ближайшем горном ручье юная форель. Та, что перезимовала без пищи и только что начала питаться не прокисшим еще кормом.
Но это достижение цивилизации в виде ресторана не следует смешивать с караван-сараем XVI века. Это совсем не то. Сегодня для тех, кто хочет наслаждаться красотой несколько дольше, неподалеку находится отель – реабилитационный центр под именем «Русалочий волос» со всем необходимым комфортом и с современным бассейном, который, естественно, не лишен термальной воды. Радиоактивность ей придает радон, а где радон, там и физиотерапевты. Конечно, вам не обязательно быть больным, да и не надо особо заботиться о своем здоровье, чтобы приехать сюда. Именно здоровым прибыв сюда, вы докажете себе, что вовсе не лишены гедонизма.
Но Мехмед-паша Соколович не сделал из хамама, из «прекрасной бани с куполом», караван-сарай, а выстроил его несколько ниже, «у реки Дрины как каменный хан Соколовича, или караван-сарай, который мог принять около десяти тысяч коней и верблюдов». Вы думаете, цифры преувеличены? Я бы не сказал. Вы только представьте, как выглядело строительство моста вроде Вишеградского в семидесятые годы XVI века! Во времена Мехмед-паши в Вишеграде было около семисот домов, мечеть по имени Селимия, фонтаны, примерно сотни три лавок, имарет, приютивший городских сирот, монастырь дервишей – текия. В селе Соколовичи (которое получило название по паше, или паша получил имя по нему, без разницы) была мечеть Соколовича и церковь, на фундаменте которой, по преданию, паша воздвиг храм для своей православной матери. Это, конечно, не должно никого удивлять, потому что большинство населения знает: именно Мехмед-паша Соколович, визирь турецкого дивана, в 1557 году лично восстановил сербский Печский патриархат и поставил во главе его своего брата Макария в то время, когда, как сообщают источники, «православие пребывало в хаосе и распадалось, а национальная мысль сербского народа стала угасать в тяжких оковах рабства». Некоторые историки полагают, что позже «великий визирь этим актом в действительности спас сербский народ от окончательного истребления и гибели». Это утверждение вовсе не так далеко от истины, если учесть, что в то время сербский народ, не имея собственного самостоятельного государства, уповал на единственную существующую замену государственности – церковь. Отсюда и весьма распространенное мнение о Мехмед-паше Соколовиче, который был «непоколебимым мусульманином и в то же самое время… истинным патриотом, достойно служившим своему народу». Он верил, что тем самым примирил ислам со своей боснийской родиной, сербскими корнями и христианской православной верой.
Вот почему в моих мыслях здесь, в хамаме, вместе со мной появился самый лучший, самый популярный и, откровенно говоря, самый спорный современный турецкий писатель Орхан Памук. Он посвятил свои книги связям Востока с Западом, продолжив тем самым путь, которым шли некоторые из его предков. В этом я имел возможность убедиться, беседуя с Памуком, а не только читая его книги. Его шедевр, роман «Меня зовут Красный», рассказывает об Османской империи времен Мехмед-паши, а также о последствиях, вызванных той эпохой. Он познакомил меня с важными особенностями турецкой системы – агрессивным правлением и завоеванием новых пространств искусства внутри этой империи, то есть с тем, о чем я ранее не имел ни малейшего понятия. За такой труд Памук заслужил виртуальное (для него, возможно, и дервишское) купание. Впрочем, чистоты и очищения никогда не бывает довольно. Равно как и наслаждения, или ашкамлука, «боснийского обычая сидеть вечерами на травке, обычно у воды, и пить ракию, беседуя и напевая песни».
Что бы мы были за писатели, если бы время от времени не ашкамлучили понемножку рядом с хамамом! При условии, что это действо воспринимали бы одновременно гедонистически и философски.
Одна из многочисленных писательских проблем состоит в том, что действительность у писателя часто смешивается с выдумкой. Отсюда и происходит то самое знаменитое стирание граней между случившимся и пережитым. Так происходит и со встречами с близкими мне людьми; я хочу сказать, что приблизил к собственному времени тех, кто жил за пять веков до меня, а себя и своих друзей (или образы, без разницы) запросто перебросил в те жизни, что на века старше нас самих. Потому наши настоящие и придуманные встречи стали более частыми.
Это стало одним из способов исполнить писательскую мечту о всесильном во времени слове.
Впрочем, именно из этой мечты возникают книги.
Конец
Ему захотелось, чтобы его кто-нибудь убил. Да, именно так. Очень просто – быть убитым. В последний год многое из того, что было ему дорого, и много тех, кого он любил, исчезли из его жизни. Конечно же, не случайно. Все было старательно спланировано и точно так же осуществлено. Он вынужденно признал – соперник все сделал безошибочно, так что с точки зрения ловкости и мастерства содеянного его ни в чем нельзя было упрекнуть. Кроме самой сути замысла: зачем противники привели в движение весь этот механизм да к тому же потратили столько времени, денег и сил, чтобы уничтожить все, что ему дорого, если было бы намного быстрее, дешевле и легче сначала – и только – убить его?
А ведь он знал. Они добивались именно того, чтобы он постоянно задавался этим вопросом и в конце концов, так и не найдя ответа, почувствовал себя настолько одиноким и прежде всего покинутым, что сам пожелал бы перестать быть. Потому что смотреть, как на его глазах один за другим исчезают любимые, дорогие и преданные, было больно, и боль эта не прекращалась. Если бы его первым и сразу убили, не было бы мук, которых они ему желали, потому они и решили поступить так. Правда, после стольких десятилетий пребывания во власти, на самой ее вершине, ему следовало ожидать подобного низвержения. Так, кажется, заведено с начала времен: взлет чаще всего связан с падением. Кто вознесся наверх, должен оказаться внизу. Но не со всеми случалось такое. Да, каждый, оказавшийся наверху, до вознесения побывал внизу. Но непременно ли каждый должен после вознесения низко пасть? С ним – случилось. Или, как говорят, на роду было написано. Или он сам вызвал падение.
По правде говоря, его падение было каким-то странным. Никто его не заменил, не сверг и не обошел при очередной раздаче должностей. (Однако это не означает, что все это не было запланировано.) Он пал после одного-единственного жестокого удара ножом прямо в сердце и теперь, лежа в крови, обозревал всю свою минувшую жизнь, стараясь сжать ее в комок, чтобы не забыть.
Вот и исполнилось его желание: он убит.
Странно, но смерть может принести такое облегчение!
Конечно, убийцы вовсе не стремились быть милосердными. Во время его правления насильственная смерть стала обычным, повседневным явлением; она отличалась лишь видом или степенью болезненности и жестокости. Империя подразумевала постоянное насилие в любом облике. Пока он был великим визирем, отнятие чужих жизней вовсе не было его властной привилегией или, не дай боже, личной или характерной особенностью. Это было составной частью сохранения системы; даже не защитой собственной власти. Это был усовершенствованный веками механизм, который ни один индивид, какое бы положение во власти он ни занимал, при всем желании не мог остановить, не говоря уж о его замене. В сражениях, войнах, походах и завоеваниях смерть была другим именем приветствия. И в мирные дни она частенько встречалась, правда, была не такой массовой.
Разве он не стал знаменитым великим визирем, в частности, потому, что правил при трех султанах! Кто еще мог похвастать этим? Редко встречались визири, которым удавалось пережить смену султанов, а что уж говорить о том, что он выдержал трех! Каждая смерть исходила от верховного правителя: разве каждый султан после восшествия на престол не поступал по неписаному закону, убивая поначалу родных братьев (а кое-кто и собственных детей), чтобы они самим своим существованием не подвергали сомнению его власть?
Было бы неправильным утверждать, что он ждал своей смерти. Просто она не удивила его. О самой смерти он знал все: вряд ли можно было найти кого-то, кто превзошел бы его в знаниях ее причин и последствий, видах и способах. Возможно, он не блистал в вопросах ее целесообразности: не было ни такого учителя, ни властелина, который бы посвятил его в такие тайны, потому что они сами никогда не задавались вопросами ее необходимости.
«Возжелать» смерть не означало «страдать» по ней. Желание помогло ему спокойно дождаться неминуемого. Оно избавило его от излишнего недоумения.
Впрочем, теперь все перестало быть важным, и в первую очередь то, что требовало дополнительного времени на размышление. Времени теперь не было ни для чего. Кроме смерти.
Самое начало
Поскольку я сам себе (только мне известным способом) доказал, что как писатель еще не иссяк, то действительно смог начать борьбу с целью решения проблемы: к написанию какой из трех задуманных книг приступить в первую очередь? Две другие задуманные книги упоминать не буду, потому что, как видите, я уже начал писать эту, которая победила. Конечно, решению в ее пользу способствовали тонкие причины, поскольку я и для двух других будущих книг из упомянутого списка уже опубликовал серьезные и объемистые предварительные статьи, без которых невозможно начинать сочинительство.
Из этих тонких причин важнейшими стали те, которые все вместе я мог бы назвать локально-патриотическими. Иначе говоря, во время недавнего разговора с одним из коллег на тему актуальных противоположностей и крайностей, какими в литературе являются национализм и глобализм, я впервые понял, что суровые защитники «отечественного» вообще ошибались, не обзывая меня открыто и уничижительно космополитом, а оценивая мягко и с оглядкой, хотя на самом деле лукаво («писатель, известный тем, что не использует в творчестве национальную тематику»). Мне показалось странным, что я столько лет (до момента этого нового, недавнего осознания) легко мирился с тем, что кто-то другой определяет мою литературную судьбу, причем делая настолько лживые выводы! А что, если они даже не читали мои книги? Или читали, но я так и остался так называемым непрочитанным писателем? Достаточно было просто напомнить, что действие четырех моих романов из пяти написанных, по крайней мере, начинается в Белграде или в моей стране и что из семи книг прозы (не считая, конечно, этой) шесть придерживаются той же самой топографии! Как не стыдно – той, единственной! Но вина остается вечной: может, эти книги по сути своей или по посланию были слишком космополитичными, так что ни географическая привязка, ни место действия не помогли им. Они не смогли возвыситься до уровня национальных мифов, что, откровенно говоря, мною и не замышлялось.
В избранной теме таились и новые западни, не только писательские, но и упомянутые ранее – идеологические. Но если бы человек оглядывался на все это, то, вероятно, никогда ничего толкового не написал бы. Итак, я решил написать о сербе, который стал кем-то другим. Меня интересовало это «другое». Даже не столько, сколько это «серб», хотя даже если бы я и захотел, то не смог бы отделить его от Другого. Если бы я погрузился совсем глубоко, то признался бы, что меня, в сущности и в действительности, интересовало исключительно существование перехода из Одного в Другое, само это действие.
И я погрузился в исследование, поиск, накопление, отбор, принятие и отказ… Короче говоря, в так называемый сбор материала. Но и в этой собирательской деятельности следовало руководствоваться каким-то методом или, по крайней мере, последовательностью действий. Сведения, будучи чем-то вроде лейтмотива процесса, всегда могут возникнуть из ниоткуда и влиться в ряды уже накопленных. Впрочем, они чаще всего так и возникают, как бы попутно и почти случайно, словно привычка заставила их самостоятельно обнаружиться и явиться автору. Между тем были и другие пути, ведущие к важным деталям. Одним из них были поиски следов героя. Так, я в течение нескольких лет (параллельно с другими способами изучения темы) посетил многие главные, если не все, места, по которым ходил или в которых работал Мехмед-паша Соколович: Вишеград с окрестностями и большую часть Восточной Боснии, Западную Сербию (включая реку Дрину), Герцеговину с Дубровником, Воеводину с Южной и Центральной Венгрией, ее западную часть с центром бывшей Австро-Венгерской империи – Веной, всю Болгарию в ширину (или, точнее сказать, в толщину), бывшую столицу Османской империи Эдирне / Едрене, а потом сердце державы – Византий / Царьград / Стамбул / Истанбул, а также все моря в ее окрестностях (Адриатическое, Черное, Мраморное, Эгейское). Поиски я завершил в Юго-Западной Турции и в самом конце – на Принцевых островах. Везде я побывал по несколько раз. И только Персия оказалась вне досягаемости. Мне помешали войны по соседству с Турцией – в несуществующей сегодня Персии. До этого войны вокруг Сербии, в несуществующей сегодня Югославии, помешали мне кое-что углядеть в собственном дворе. (Белград, бывший для меня решающим местом, подразумевался мною как топоним. Впрочем, с него все начиналось, на нем почти все и закончится.)
Другим параллельным изучением посредством путешествий стало посещение архитектурных чудес зодчего Мимара / Коджы / Синана, второго образа будущей книги, современника Мехмед-паши. Посетил я и особу по имени Орхан Памук, равно как и В. Б-а, с которым я встречался чаще всего. Двое последних были второй парой другого действия запланированного романа.
Эти четверо стали главными действующими лицами данной книги (правда, представленными в разных ее главах) – она всех их и втянула в заговор против истории, которую я знал.
Перед самым концом
Перед смертью, естественно, была жизнь. Долгая и богатая. Сильная, но неуверенная. Насколько его, настолько и чужая. Обладание собственной жизнью время от времени выскальзывало из его рук. Если бы речь шла о Боге – царе царей или божьем посланнике, выбор был бы простым: Мухаммед или Христос. Или оба одновременно. Но кто-то или, скорее всего, нечто совсем иное время от времени присваивало себе его жизнь и лишало важнейшей возможности решить самому, кому именно он должен принадлежать.
Может, это само по себе и не стало бы неразрешимой загадкой, если бы эта проблема с возрастом не возникала так часто и упорно. Даже сверх всякой меры. Поскольку он не мог найти тому легкое и понятное объяснение, он и не сумел ее разгадать. А когда на бремя лет сваливается Тайна, жизнь превращается в кошмар. Возможно, приближение (или, иначе говоря, желание) смерти сделало свое дело; запах ее близости мог изменить уже усвоенную и тысячу раз проверенную картину мира, вывернуть ее наизнанку и превратить в совершенно отвратительную истину. Но он даже такой не заслужил! Он думал, что согласился бы в своем бессилии на самую страшную, но только не на такую.
Он никак не хотел принять два возможных объяснения. Первое подразумевало: на то воля Аллаха! Этому нельзя и невозможно было противиться. Понятно. Но поскольку это был его разговор с самим собой, то ни обществу тут нечего было делать, ни Аллаху.
Второе объяснение никак не могло обойтись без Всемогущего. Можно было сказать, что именно для него выковали Судьбу. Но и ее он не принимал, поскольку это выдумали немощные, чтобы оправдать собственное бессилие.
Истину он постиг – вот в чем ирония! – когда лезвие ножа вонзилось в грудь: он обладал своей жизнью только наполовину. Второй ее половиной обладала другая половина его личности. Или, точнее говоря, первая по порядку, которая предшествовала ему в Сербии и Боснии.
Он был и турок и серб. И серб и турок.
Какое облегчение.
Умереть.
После начала
Планирование структуры романа подразумевает два начала и два конца или два вида начала и конца. Одно начало и конец касаются самого действия: как и когда начать и когда закончить. Для читателя это, пожалуй, самая важная тайна книги. Для писателя же самой значительной могла бы стать другая тайна, та, которая относится к началу и концу идей, которые щекочут автора. Точнее говоря, какой вопрос или какая проблема заставили автора вообще задумать книгу, вынудили оттолкнуться от этой идеи / проблемы и начать писать, и что это за желательная, заключительная идея, которая могла бы завершить книгу.
Еще когда структура этой книги была для меня весьма абстрактной и скрывалась в густом тумане, я знал, что ее герои предлагают мне возможность создать богатый рассказ о национальном самосознании и сознаниях, а также об их изменениях. Это могло бы стать так называемой стартовой позицией, с которой просматривается и финиш: что происходит с людьми и их окружением, если им случается обрести двойное национальное самосознание.
Главный спусковой крючок этого романа, Мехмед-паша Соколович, принял от моего имени решение о причине и поводе написания. (Вспоминаю, как в начальной школе нас готовили к логике, которую предстояло изучать в гимназии, но одновременно и к логике жизни, а на примерах войн учили различать причину и повод. Большинству это не давалось, а если и давалось, то с большим трудом. Тем не менее я, как и все прочие, после тяжких трудов усвоил раз и навсегда: причина долго и основательно подготавливается, а повод можно и придумать, потому что он просто рычаг для приведения в действие давно задуманного плана. Больше всего нас любили обучать на примере Первой мировой войны.)
Итак, причиной заняться Баей Соколовичем явилось знание того, что в результате знаменитой дани кровью его увели в Турцию, когда ему было уже восемнадцать лет (!), и был он вовсе не малым дитем, которое вряд ли в состоянии запомнить, откуда оно родом. Я задался вопросом: почему в будущие янычары забрали взрослого парня? Это весьма необычный для турок поступок – забрать у сербских родителей ребенка, который уже не был совсем или в достаточной степени маленьким. Турки, готовив детей к службе в своей армии, не запрещали им помнить свои корни, но по праву считали, что чем меньше сохранится у них воспоминаний о родных краях, тем меньше они к ним будут привязаны.









































