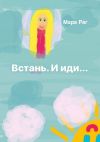Текст книги "Дагги-тиц"

Автор книги: Владислав Крапивин
Жанр: Повести, Малая форма
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Спичечный коробок
Инки помусолил палец, взял на него муху, переложил на ладонь. И стал сидеть на полу, прислонившись спиной к твердой стенке под замершими ходиками. Жидкое солнце просочилось из-за туч в окно, уронило на руку Инки желтое пятно. Он теперь впервые разглядел муху близко и подробно – ее согнутые лапки, прижатые к животу, похожему на ядрышко кедрового ореха; головку, будто сложенную из двух коричневых зернышек. Слюдяные крылышки с микроскопической сеткой прожилок… Инки погладил Дагги-Тиц глазами, но вдруг ему стало неловко: будто он разглядывает голую… ну, не девочку, конечно, а пластмассового, без всякой одежды пупсика. Он почему-то стеснялся смотреть на таких кукол, будто в этом крылось недозволенное подглядывание.
Очень осторожно Инки перевернул муху брюшком вниз. Сдвинул растопыренные крылышки. Теперь муха была совсем как живая. Инки на миг даже понадеялся на чудо: вдруг взлетит? Конечно, не взлетела. Лежала совершенно неподвижная и совершенно невесомая…
Стенанья автомобильного сигнала за окном прекратились, навалившаяся тишина сделалась совсем плотная, ватная. Но скоро сквозь нее стал проталкиваться слабенький звон. Это на кладбищенской церкви за поселком подал голос робкий колокол. Или праздник отмечали какой-то, или, наоборот, хоронили кого-то…
Вместе с редкими, еле различимыми сигналами колокола стала толкаться в Инки мысль о его вине. Нет, не мысль даже, а просто горькая догадка…
Инки очень редко думал о Боге. И без интереса. Марьяна говорила не раз, что Бог есть и надо почаще просить у него прощенья, чтобы жизнь была не такой пакостной. Инки в споры не вступал. Бог, наверно, и в самом деле был – невозможно представить, чтобы откуда-то сама собой взялась громадность и бесконечная хитроумность мира: от невероятных галактик до… этого вот мельчайшего узора из прожилок в мушиных крылышках. Кто-то же должен был вначале это придумать… Но то, что Бог существует, никак не влияло на Инкину жизнь. Создатель мира и мальчик Инки были каждый сам по себе – со своими делами, планами и хлопотами. Инки если и вспоминал по какому-нибудь случаю о Боге, никогда ничего у него не просил: ни помощи, ни радостей, ни прощенья. Может, прощенья иногда и стоило просить, но Инки чувствовал, что Творец галактик просто не догадывается о затерянном во Вселенной пацаненке по фамилии Гусев. Что у него, у Творца, нет других забот, покрупнее?…
Но сейчас догадка стала похожей на толчки боли – в том же редком ритме, что удары далекого колокола…
– Но я же не хотел, – шепотом сказал он мухе. – Я же просто так сказал им… Ну, потому что достали… А по правде я и не думал, чтобы кто-то из них сдох…
Но понимание вины делалось все четче. Связь между пожеланием гибели тем, в директорском кабинете, и гибелью крохотной Дагги-Тиц казалась уже бесспорной…
„Пожелал одним, а случилось… с другой…“
„Но почему с ней-то? Пусть уж тогда бы со мной!“
„Какой хитрый! Лежал бы сейчас и ничего не помнил, не чувствовал. Это не наказанье. А вот теперь сиди и мучайся… Ей-то что? Она будто уснула. А ты… будто предал ее…“
„Но не хотел же я!!“
„А кому ты докажешь? Что сказано, то сказано…“
Неизвестно, такими ли словами думал тогда Инки, но чувствовал именно это. И некуда было деться от этого. Он понял, что придется теперь так и жить. С таким вот пониманием непоправимости. Однако надо было еще привыкнуть к такой жизни. И обмякший Инки с Дагги-Тиц на ладони сидел, привыкая. Сосудик у глаза дергался беспрерывно. Инки не успокаивал его. Потому что не от кого было скрывать слезы. Тяжелые капли просочились на коленях через суконные штанины и заштопанные колготки, ядовито разъедали кожу…
– Но я же не хотел… – опять сказал Инки. И мухе, и себе, и… обступившей его тишине.
Он и правда не хотел. Он вообще не терпел, когда убивали. Никогда не ловил бабочек и стрекоз, хотя детсадовские ребята любили делать из них „коллекции“. Ненавидел жильца восьмой квартиры Гвоздилина, который топил новорожденных котят (не только своей кошки, но и соседских). И фильмы со стрельбой и дуэлями смотрел только потому, что знал: люди там – артисты и умирают не по правде. И все равно при этом морщился. Морщился даже, когда с врагами разделывался Гамлет, хотя уж его-то враги – гады и предатели – заслуживали всяческой погибели… При этом о собственной смерти (которая случится когда-нибудь) Инки думал почти без боязни. Смешно (и скучно как-то) бояться того, что рано или поздно происходит с любым человеком. Он, Инки, что, разве не такой, как все? Вытерпит как-нибудь… Он чувствовал, что в смерти страшно не то, что исчезает кто-то живой, а в прощании. В том, что он расстается с другими, с теми, кто у него есть. Но у него, у Инки-то, кто был? Мать? Ну… да. Но где она? Появится и опять не поймешь куда пропадает. Была Полянка, но она тем более – где?… Была Дагги-Тиц (смешно, да?! – крохотная муха, которую любой „нормальный“ человек мог бы прихлопнуть мимоходом). И что теперь?…
Инки мотнул головой, стряхивая капли со щек. Папаша Бригады сказал про него лишь одну правильную вещь: что такие „плачут редко“. Однако если они плачут, то долго и неудержимо. Когда рядом нет никого… Но всяким слезам приходит конец. Инки толкнулся от стены лопатками и встал. Осторожненько положил муху на облупленный подоконник. Пошел на кухню, взял с полки у плиты коробо́к, вытряхнул спички в мусорное ведро (из него пахну́ло вчерашним винегретом).
В туалетной тумбочке, где Марьяна прятала всякую свою парфюмерию, Инки нашел комок чистой ваты, дернул клок, сделал в коробке́ подстилку. Положил на вату (вернее, посадил, как живую) Дагги-Тиц. В непослушном ящике комода, где лежало его бельишко, Инки отыскал чистый носовой платок, вырезал из него прямоугольник по размеру коробка. Накрыл муху. Задвинул ящичек под крышку. Побаюкал коробок на ладони…
Надо было похоронить Дагги-Тиц. Инки подумал: „Где? Может быть, где-то в траве на кладбище?“
Но… муха все-таки не человек, и, наверно, не полагается так. А может, снаружи, у бетонного кладбищенского забора?…
Инки показалось, что решение появится само, когда он выйдет на улицу. И стал одеваться. Но в эту минуту пришла Марьяна. На обеденный перерыв, что ли? Разве уже середина дня? Не поймешь теперь – часики стоят…
Марьяна сразу спросила:
– Ты чего такой зареванный? Опять побили?
Инки не стал говорить „отвяжись“, „не твое дело“, „иди ты…“. В го́ре не огрызаются. Или молчат, или…
Он ответил через слезную сиплость:
– Муха умерла… Я пришел, а она на полу…
У Марьяны хватило ума не утешать его (мол, „да ладно, подумаешь, какая беда…“ или „ну, чего уж теперь…“ и „муха ведь, а не человек…“). Сказала сразу:
– Ох ты горюшко… С чего это она?
– Не знаю…
– Слушай, я тут ни при чем. Я ее никогда… Наоборот. Даже молоко подливала в пробку…
– Я на тебя и не говорю…
– А ты куда собрался?
Он вскинул сырые глаза:
– Куда-куда… Надо где-нибудь закопать…
– Умойся сперва. И поешь. Я вареники принесла, с творогом. Ты ведь их любишь.
Инки любил. И к тому же внутри сосало от голода. Горе не уменьшилось, но как бы отодвинулось в сторонку. На время. Инки вымыл лицо в ванной клетушке с побитой эмалью и ржавым душем. Потом съел несколько вареников. Но голод вдруг пропал, будто внутри что-то отрубилось. Инки затошнило даже. Опять навалилась душная тишина.
„Надо посмотреть, что там с часами, – вдруг понял он. – Может, просто засорились шестеренки, я их ни разу не чистил…“
Может, и так…
А что, если ходики остановились от горя, когда ослабевшая Дагги-Тиц соскользнула с маятника и упала на половицу?
А почему ослабела-то, почему соскользнула? Потому что пришла осенняя пора, когда мухи умирают повсюду? Но ведь здесь-то, в тепле и сытости, в безопасности могла бы жить да жить…
Значит, виноват все-таки он, Инки?
Виноватость снова сделалась тяжкой, как тошнота. И тут же подумал Инки, что станет легче, если ходики пойдут вновь, станут повторять имя мухи. Выйдет так, будто она снова здесь (ну, хоть чуть-чуть!). И это докажет, что Инкиной вины нет (а если и есть, то небольшая).
Инки разобрал часы. Марьяна ушла, а он возился, возился, как старый мастер над хитрым корабельным хронометром. Нарочно оттягивал момент, когда надо будет проверить, идут часы или замерли насовсем? Он продул механизм тугой струей из старого пылесоса „Урал“. Долго чистил шестеренки мягкой кисточкой для акварели. Затем старательно протер жестяной циферблат с черными числами на белых бляшках, с домиком-картинкой (Сим, Желька, вы здесь?), с верхом в виде кокошника. Покрутил стрелки, заново продернул цепочку…
Наконец он встал на табурет, повесил ходики, толкнул маятник. Тот защелкал: „Дагги-тиц, дагги-тиц…“ Вернее, „Дагги-Тиц“, потому что часы выговаривали имя. И не останавливались – минуту, пять, десять… „Ну, вот видишь…“ – мысленно сказал Инки мухе с горьким облегчением. Та лежала в коробке́, а коробок в кармане куртки, висевшей у двери, но все равно Дагги-Тиц снова будто оказалась под часами.
За окнами набухали дождливые сумерки. Инки сходил в комнату к Марьяне, глянул на ее бесшумный будильник. Была половина восьмого. Инки снова забрался на табурет, поставил стрелки, как надо. „Дагги-тиц… Дагги-Тиц…“
Идти сейчас хоронить муху не имело смысла. Не в том дело, что темно и сыро (хотя и в этом тоже), но разве найдешь подходящее место… И к тому же Инки почувствовал, какой он измотанный. Видно, из-за всех сегодняшних горестей. Облепила его, легла на веки вязкая сонливость. Сразу. Инки через силу стянул с себя костюм, бросил пиджак и брюки на спинку стула. И хотел упасть сам – на свою узкую, будто корабельная койка, тахту. И вдруг увидел свою тень на стене.
Рефлектор лампочки-грибка в изголовье тахты был повернут так, что свет падал на стену с часами. На блеклые обои с подтеками. На обоях чернела Инкина тень. Инки мигнул и подумал, что тень своей щуплостью похожа на канатоходца Сима. Поболтал руками, покачался на тонких ногах. Потом… потом он шагнул к лампе ближе. Понял, что тень вырастет и тогда… тогда станет похожей на Гамлета перед последним боем.
А бой был нужен
Инки ощутил это каждой жилкой – они струнным дрожанием прогоняли сонливость.
Инки взял с подоконника длинную линейку с примотанной скотчем перекладинкой. Это была его шпага. Он сжал рукоятку, сжал губы, сжался внутри. А потом как бы освободил пружину! Тень вскинулась, клинок вычертил стремительный изгиб. И еще! Еще!.. Силуэт датского принца заметался по стене, по штукатурке потолка и половицам. В его гибкости, молниеносных взмахах, выпадах и разворотах была злая ломкость и надрыв. Но это вначале. А потом – стремительность больших птичьих крыльев… Инки крутнулся на пятке, очертил шпагой полный круг, устремил шпагу вверх, рассек ею воздух до пола, сделал моментальный, но плавный оборот снова.
Он жил этим боем и был теперь не Инки, а… он был тем, кто на стене (как на экране!) – восставшим королевским сыном, не боящимся гибели и воюющим против измены и тоски. Выпад, разворот, замах!..
Он никого не убивал, нет! Но он прорубался сквозь обступающее со всех сторон зло.
Это зло было похоже на жирные лианы – черные, как и сражавшийся с ними силуэт, но скользкие, тяжелые, с присосками, будто на щупальцах осьминога. Толщиной с гигантскую змею анаконду и с запахом протухшей селедки. В них пряталось все, что было на свете обманного и безжалостного. И поэтому оказалось их так много… И воздух между ними – клейкий, не продохнешь…
И все же Инки был сильнее – своей отточенностью движений, стремительностью взмахов, меткостью ударов. Рассеченные на части, обрубки зла извивались и таяли в темном пространстве. Стало наконец совсем просторно. Сверху пробился желто-оранжевый луч. Лишь тогда Инки (все-таки – Инки!) опустил клинок, шагнул к постели и упал на нее поверх одеяла.
Старое жесткое одеяло было привычно кусачим. Полушутя, но ощутимо кололо щеки, голые локти и даже ноги сквозь колготки. Но Инки не сопротивлялся, знал, что больше не шевельнется до утра.
Инки проснулся, укрытый пушистым пледом. От пледа пахло сладковатой косметикой. Оно и понятно – Марьянина вещь. Инки благодарно улыбнулся и решил полежать еще. Лампочка не горела, за окном еле намечался мутный рассвет. Рано еще… А сколько? Инки хотел щелкнуть выключателем, чтобы разглядеть циферблат… и тревога смела его с постели: ходики-то молчали!
В свете рефлектора Инки увидел, что ведерко висит значительно ниже, чем вечером. Похоже, что часы шли до середины ночи. А потом – что? Почему?…
Инки толкнул маятник. Ходики защелкали поспешно и виновато: мол, прости, мы и сами не знаем, отчего так вышло.
Они были ни при чем. „При чем“ был Инки. Прежняя виноватость вернулась к нему, и не одна, а с пониманием: остановка часов – это лишь начало сегодняшних неприятностей. Ясно ведь, что вчерашних слов у директорши и ухода с уроков ему не простят. Что будет, угадать невозможно. Ясно, однако, что хорошего – ничего… А еще и Бригада. Может быть, отец и в самом деле выдрал его, а потом все же свозил в поликлинику, на рентген. А там обнаружился у „Валерика“ перелом какого-нибудь сустава. Тогда у подполковника Расковалова переменится настроение. Бригаду он пожалеет (ведь родной сын все же!), а Гусева сгребет за шиворот и отправит в отделение. А там, глядишь, и в детприемник. И все скажут, что по закону Расковаловы правы…
Эта боязнь, однако, не была слишком сильной. Скорее тоскливой, тягучей такой. А главной была печаль из-за мухи. И забота – где ее похоронить?
Вот выберет он подходящее место, а потом будет иногда приходить к нему и вспоминать, как Дагги-Тиц качалась на маятнике. В этой мысли была сладковатая горечь и… что-то похожее на утешение.
Но искать место для мухи утром уже не хватало времени. Пока оделся-умылся, пока съел приготовленную Марьяной овсяную кашу, ходики показали, что до уроков осталось полчаса. (Надо же, тикают! Только надолго ли хватит их?) Инки подтянул до верха ведерко с песком, сунул руки в рукава старой куртки (другая, которая поновее, осталась вчера в школе).
– Я пошел…
– Ты, Сосед, хоть бы спасибо сказал после еды. До чего неотесанный…
– Да спасибо, спасибо… Легче тебе стало?
– Уроки-то учил вчера?
Ага, до уроков ему вчера было! Что за привычка – сказать вслед человеку гадость…
На дворе подошел к арке, заранее съежился. Навстречу дунуло моросью и запахом прелых тополиных листьев (хотя ближние тополя были спилены). Все как всегда. Инки поднял воротник и стал думать на ходу о часах. Почему все-таки закапризничали? Неужели правда из-за мухи (и значит, из-за него, из-за Инки)? Или просто ослабел, постарел механизм и просит добавочной нагрузки? Может, в самом деле? Надо положить в песок большую гайку или шарик-подшипник… Эта простая мысль приободрила Инки, и даже появилась надежда, что злоключения сегодня минуют его…
Не миновали. Начались у порога. Оказалось, при входе в вестибюль дежурные восьмиклассники устраивают „шмон“ – проверяют у входящих мальчишек сумки и карманы. Здесь же была и дежурная учительница – пожилая, недовольная, шумная. Инки ее почти не знал (говорят, преподавала у старших историю). Она мегафонным голосом объясняла недовольным, что проверка делается по директорскому приказу. „Потому что хватит приносить в школу курево и прочие гадости, а кто недоволен, могу проводить прямо к Фаине Юрьевне!“
Инки сразу и не понял, что ему грозит. Пацаны были натренированные, тряхнули и умело обшарили его сумку, запустили лапы в карманы куртки.
– Ага! Спички?!
Это были не спички, а коробок с Дагги-Тиц. Долговязый восьмиклассник с прыщавым подбородком обрадованно поднял трофей над головой.
– Дай сюда! – Инки подпрыгнул.
– Не лапай! – гоготнул восьмиклассник, довольный добычей.
– Дай сюда!! Это не спички!
– Что за вопли? – развернулась в их сторону историчка.
– Лилия Гавриловна, вот! Принес да еще орет, инфузория… – Восьмиклассник злорадно передал коробок своей наставнице.
– Та-ак…
– Отдайте! Это не спички! Это вообще… моё! Не трогайте!
Небывалое отчаяние захлестнуло Инки. Потому что… потому что отбирали последнее, что у него было! Гады! Ну, чего им от него еще надо!
– Не смейте!..
– Что за истерика? – сморщилась Лилия Гавриловна. А восьмиклассник ухватил Инки за бока. Тот дернулся:
– Там же не спички!!
Историчка глянула со смесью брезгливости и любопытства.
– Если не спички, то что?
– Не ваше дело! Не трогайте!
Но она, конечно же, выдвинула ящичек из-под крышки. Ногтями подцепила белый лоскуток. Дрогнула морщинистыми щеками.
– Что за гадость… Зачем это тебе?
„Не ваше дело!“ – хотел опять крикнуть Инки. Но остаток благоразумия тормознул его.
– Это… для коллекции! Отдайте…
– Чушь какая! Коллекция дохлых мух! Не смей носить в школу всякую заразу… Засохин! Выброси эту мерзость в урну!
Восьмиклассник Засохин с готовностью протянул руку (и отпустил Инки). Инки ринулся наперехват! Он успел выхватить приоткрытый коробок из пальцев исторички. Сжал в ладони. Спиной вперед рванулся к двери. И замер там, ощетиненный и задохнувшийся от сухого плача.
Лицо дежурной учительницы по имени Лилия Гавриловна стало малиновым.
– Засохин! Отбери у этого паршивца!..
Но все, кто смотрел на Инки, видели: отобрать коробок, пока мальчишка жив, невозможно…
– Засохин, не надо… Как у него фамилия? Впрочем, узнаем по дневнику… – пальцем за ремень она подцепила упавшую Инкину сумку с каменного пола. – Бросаться на педагога… Пусть родители сегодня же явятся в учительскую. Сумку они получат у завуча!
– Подави́тесь вы ею, – отчетливо сказал Инки. И толкнул спиной дверь.
Скамейка
Он брел, брел, брел. Сперва моросило, Инки натянул капюшон. Потом дождик перестал, слегка прояснило. Инки сбросил капюшон, мотнув головой. Он делал это машинально, мысли были не о погоде. Да и не было связных мыслей…
Инки ни о чем не жалел, ничего не боялся. Хуже, чем есть, быть уже не могло. Оставалось просто ждать. Как ждать, где – это все равно… Хотя нет, надо было еще похоронить Дагги-Тиц.
Среди затоптанных листьев на асфальте Инки вдруг зацепил глазами один – чистый и ярко-желтый, как цветок одуванчика. И вспомнил настоящие одуванчики – на улице Торфодобытчиков, напротив магазина „Хозтовары“. И понял, где он должен зарыть коробок…
Улица была не шумная, с двумя рядами кленов, которые отделяли панельную пятиэтажку с магазином от дороги. Среди кленов стояли скамейки со спинками и сиденьями из реек на бетонных подставках. Со скамеек был виден кирпичный забор с узкой решеткой наверху, за ним располагались незаметные с улицы мастерские. Неважно какие! Важно, что вдоль забора тянулась на небольшой глубине труба с горячей водой. Она прогревала землю, и здесь раньше, чем в других местах, весной пробивалась зелень, зацветали мать-и-мачеха и одуванчики. Кругом еще рыхлый снег, а здесь – лето. И осенью одуванчики могли зацвести! Ведь бывает, что они повторно расцветают в конце лета и в сентябре! А здесь, может быть, и того позднее…
Инки прошел до середины кленовой аллеи и сел на сырую скамью. Откинулся к спинке. Клены почти облетели, но кисти сухих семян-крылышек висели густо и были похожи на серую листву. Сквозь них Инки видел и дорогу, и кирпичи забора, и сохранившуюся зелень у его нижнего края. Нет, одуванчиков там не было. Но желтела храбрая сурепка и дерзко сиял солнечными цветами куст осота. Цветы его были похожи на одуванчики, только более крупные. Инки тихо порадовался им, однако спешить не стал. Сидел откинувшись.
Он открыл коробок. Белого лоскутка не было, муха сразу – вот она. Видимо, зацепилась мертвыми лапками за ватную подкладку и во время всех перетрясок осталась на месте, посреди коробочки… И была как живая… Инки тронул ее пальцем. Нет, не шевельнулась… Зато в Инки шевельнулась надежда. Слабенькая, почти никакая, но все-таки…
Сперва-то он просто хотел закопать коробок над трубой, чтобы муха не лежала в ледяной закоченелости (как скрюченная от холода стрекоза, которую Инки однажды видел в мерзлой траве). А сейчас подумал: вдруг она в апреле очнется здесь, в тепле, от лучей и запахов свежей зелени? Вспомнил даже, что слышал где-то, будто с насекомыми случается такое…
Инки перешел дорогу, разгреб отсыревшими ботинками увядшую лебеду и лопухи, нашел местечко, где трава зеленела по-летнему (и будет зеленеть даже под снегом). Закрывать коробок полностью Инки не стал, сохранил щелку, чтобы Дагги-Тиц могла выбраться, если проснется. Положил коробок среди травинок, укрыл мягким, как тряпица, лопухом. Сверху набросал сухих стеблей, но не густо, слегка…
Вот и все. Он погладил сосудик у глаза и вернулся на скамейку. Уходить отсюда не хотелось. Лучше, чем в этом месте, ему сейчас все равно не будет нигде. Здесь… ну, хотя бы спокойно. И внутри словно дрожит капелька тепла…
Это место Инки открыл для себя в апреле, где-то через неделю после того, как повесил у себя ходики. Он бродяжничал по окрестностям в поисках Строительного Вала и оказался у кирпичного забора, где желтела россыпь одуванчиков. Было пасмурно, а они светились неожиданно и празднично.
Назавтра Инки пришел сюда опять. Сначала стоял у забора и смотрел, просто так, потом пересек дорогу и сел на скамью среди кленов. Чтобы передохнуть и вернуться к маленькому, пробившемуся на свет лету…
И здесь он познакомился с Борисом.
Случилось это неожиданно и просто. Прохожих не было, лишь один мужчина прошагал мимо скамьи, где сидел Инки. В рыжей мешковатой куртке и вязаной шапочке, молодой (про такого можно сказать не „мужчина“, а „парень“). Длинный, нескладный, с болтающимися руками. Он шагал широко, сутулился, кисти рук мотались почти у колен. (Впрочем, в левой руке он тащил тяжелую сумку.) И казалось, что весь он в своих заботах, всё, что вокруг, ему до лампочки. Но он прошел шагов десять и остановился, будто стукнулся лбом о стекло. Развернулся, старательно переступая высокими шнурованными ботинками. Двинулся обратно. Сел на край Инкиной скамьи. Глянул искоса. И вдруг спросил хрипловато:
– Неприятности?
Конечно, первый ответ, прыгнувший в мозгах у Инки, был „тебе-то что“. Второй – более четкий: „Иди ты…“ Но прежде, чем послать непрошеного собеседника, Инки глянул ему в лицо.
Лицо было удивительно некрасивое. С рыжеватыми щетинистыми усиками, с такими же торчащими бровями, с голубыми глазками – они сидели близко от мясистой, будто распухшей, переносицы. Сидели, смотрели на Инки, и… не было в них ничего, что Инки терпеть не мог у взрослых. Ни подозрительности (чего, мол, тут расселся, небось гадости на уме), ни притворной заботливости. Только простое, совсем не назойливое сочувствие. И некрасивость незнакомца вовсе не отталкивала. Скорее… наоборот.
Однако эта „некрасивая симпатичность“ не подкупила Инки. Он отметил ее лишь мельком и остался в холодной ощетиненности. Он был не лопух и знал, что есть среди взрослых всякие подонки: примажутся к пацану, уведут куда-нибудь и делают с ним разные гадости. А то и совсем – поминай как звали…
Но все же Инки не сказал „иди ты“. Потому что незнакомец смотрел… ну, так, будто он знал, что пацана зовут Инки. И тот смешался на миг. И вдруг решил ответить правдой. Иногда правда крепче отшибает любопытных собеседников, чем всякие „не твое дело“.
Инки, глядя прямо, сказал:
– Да. (В том смысле, что да, неприятности.)
Рыжеусый не удивился. Смотрел по-прежнему.
– А что случилось? – Это он без лишнего любопытства. Сочувствую, мол, но не настаиваю на ответе.
– Улицу потерял, – в упор сказал Инки.
Незнакомец опять не удивился. Кивнул:
– Бывает… – Откинулся к спинке и стал смотреть перед собой. Вернее, через дорогу, на одуванчики. Это отсутствие интереса слегка царапнуло Инки. И он спросил досадливо:
– С тобой тоже бывало?
Собеседник опять кивнул:
– Со мной много чего бывало… А что за улица-то?
В простом вопросе Инки опять почудилось неназойливое сочувствие. Он не огрызнулся, а хмуро объяснил:
– Называется Строительный Вал… Один раз я там был, а теперь никак не могу найти…
– Случается… А он, этот Вал, тебе зачем?
Тут уж точно пришла пора обрубить такое приставание. Но Инки сказал (тоже глядя на одуванчики):
– Там хорошо…
– Понятно…
Ему правда было понятно? Или он так просто? Инки быстро глянул сбоку, они встретились глазами. Рыжеусый, кажется, чуть смутился.
– Я знаю улицу с похожим названием. Земляной Вал. Причудливая такая… Но это не здесь, далеко…
– А где?
– Там, где я живу. За триста верст отсюда…
Наверно, он думал, что мальчишка спросит: „В каком городе?“ Но Инки лишь заметил:
– Пешком не добредешь…
– Это уж точно… На поезде почти шесть часов, а на автобусе и того больше. Но мне приходится часто мотаться туда-сюда…
Инки, разумеется, не был вежливым ребенком. Но тут спросил именно из вежливости:
– А зачем?
Рыжеусый откликнулся охотно:
– У нас городок маленький. Правда, он рядом с большим, но многих товаров и там не сыщешь, а здесь подходящие магазины. Вон в том… – он кивнул через плечо, в сторону „Хозтоваров“, – полно всяких нужных инструментов. Иногда пополняю арсенал…
– Понятно, – сказал Инки. И вдруг почувствовал: досадно будет, если рыжеусый парень сейчас встанет и уйдет. Хорошо, если бы посидел здесь еще немного.
Скамейка была длиной метра два, они сидели на разных концах. Незнакомец вдруг попросил:
– Если не трудно, согнись, пожалуйста, запусти руку под сиденье. Там внутри у подставки есть выемка, в ней сигаретная коробка. Это мой секретный запас. Достань… – И добавил опять: – Если не трудно…
Инки было не трудно, любопытно даже. Он изогнулся, пошарил под рейками, отыскал на ощупь в холодном бетоне квадратное углубление, а в нем гладкую коробочку „Явы“. Подъехал по рейкам к собеседнику.
– Вот…
– Благодарю вас, милорд… Дома курить не велят, а я совсем отвыкнуть не могу. Поэтому, когда оказываюсь тут, отвожу душу. Хотя чувствую себя клятвопреступником… А ты, наверно, еще не куришь?
Полагалось бы возмущенно фыркнуть. Но Инки сказал просто:
– Не-а… Но некоторые думают, что курю.
– Потому что худой и бледный?
Инки не обиделся.
– Потому что прозвище „курительное“…
– Какое же? – спросил рыжеусый, распечатывая пачку.
– Смок.
Тот глянул внимательно.
– Не такое уж курительное. Скорее джеклондоновское. Такая книжка есть…
– Я читал, – сказал Инки с тайной горделивостью. – Но имя не от книжки…
– А от чего?
– От артиста Смоктуновского… (Ну, прямо как тогда, при комиссии.)
Рыжеусый даже чуть присвистнул.
– Во как? А ты… выходит, тоже артист?
– Нисколько… Просто давным-давно играл муравья в басне, а один парень сказал: „Прямо Смоктуновский“. Потому что я, как и он, Иннокентий… Ну и пошло…
Рыжеусый машинально разминал сигарету и смотрел на Инки не отрываясь. И вдруг сказал:
– Ты удивительно четко излагаешь свои мысли…
Инки вспомнил недавний спор с завучем Клавдией из-за сменной обуви.
– Говорят, я излагаю их хамски…
– Одно другому не мешает… Кстати, думаю, что про тебя немало врут…
Инки неопределенно повел плечом.
Рыжеусый толкнул сигарету в губы. Достал зажигалку.
– Смок – это прозвище. А имя, выходит, Иннокентий…
Инки чуть поморщился, но кивнул. Сказать свое настоящее имя он не был готов.
– А я – Борис… – услышал он.
– Понятно… – Имя было не хуже других.
Рыжеусый закурил и спросил, глядя сквозь синий дым:
– А ты видел какие-нибудь фильмы со Смоктуновским?
Инки наклонил голову.
Рыжеусый сказал:
– Наверно, „Берегись автомобиля“? Недавно показывали…
– „Гамлета“…
Борис вынул изо рта сигарету.
– Ну и… как?
– Что?
– Понравилось?
– Да… – сказал Инки в сторону.
– А… что именно понравилось?
Инки вдруг почувствовал, что надо тронуть висок у глаза (с чего бы это?).
– Ну, вообще… Гамлет… Как они все на него, а он… все равно…
Борис хотел снова взять сигарету в зубы и раздумал. Секунды две смотрел на Инки непонятно.
– Смок… а ты, наверно, одинокая личность, да?
Инки оттопырил губу. Будто бы от возмущения, а на самом деле от растерянности. Никогда его не спрашивали про такое…
Похоже, что Борис ощутил неловкость вопроса. Опять спрятался за сигаретным дымом. Потом попросил Инки засунуть сигаретную пачку обратно в тайник. Инки засунул.
Они помолчали. В молчание пробился тихий, но отчетливый перезвон.
– У тебя мобильник сигналит, – насупленно сказал Инки.
Борис завозился, длинными пальцами с рыжими волосками полез под куртку.
– Это не мобильник. Это… вот… – И вытащил большие карманные часы на цепочке. Те продолжали мелодично звонить. Борис нажал кнопку, остановил игру, откинул крышку (в нее ударил луч пробившегося солнца). – Таскать часы на руке я не люблю, можно легко расшибить. А это еще дедовы, он их после войны из Германии привез. Швейцарская работа…
Борис положил часы на ладонь, протянул Инки, хотя тот не просил. Инки вежливо присмотрелся. Циферблат был золотистый, узорчатый, с черными римскими цифрами и похожими на перышки стрелками (стрелки показывали два часа). И слышалось тиканье. Чуть различимое, но… знакомое. В привычном для Инки ритме. Словно маленький швейцарский механизм пытался выговорить такое же, как у ходиков, „дагги-тиц“.
– Похоже, – не удержался, выдохнул Инки.
– Что похоже?
– Тикают, как мои…
– А у тебя какие? – Борис глянул на торчащие из обшлагов Инкины голые запястья.
– Они не здесь. Дома висят… – И почему-то захотелось рассказать дальше. – Я их на помойке нашел, починил… Старые такие, ходики называются…
– Знаю, видел такие… Точно идут?
– Да. Я наладил… Только гири нет, пришлось банку с песком прицепить. – Признаться, что это детское ведерко, Инки постеснялся.
Борис метко отправил недокуренную сигарету в стоявшую неподалеку урну. Захлопнул и спрятал часы. Сказал так, будто вопрос обсуждался давно:
– Я могу тебе помочь. С гирей.
– Как?
– У меня в кладовке где-то валяется гиря от ходиков. Литая, в виде еловой шишки. Моя бабушка ею когда-то орехи колола. Найду – привезу…
Инки смотрел вопросительно. Мол, специально, что ли? Борис объяснил:
– Ровно через неделю приеду снова, у меня заказ тут в магазине. Давай увидимся в это же время, ровно в два.
– Д-двавайте… – неуверенно сказал Инки (и не заметил, что впервые обратился к Борису на „вы“). И добавил тверже: – Ладно!
– Значит, до встречи… – Борис встал, согнулся, протянул руку. Инки тоже протянул. Длинная ладонь Бориса пожала Инкину ладошку твердо, но аккуратно. Потом он широко и слегка неуклюже зашагал по сырому песку. Сумка в левой руке обвисала до земли (наверно, там лежали купленные в „Хозтоварах“ инструменты). Ни разу не оглянулся. Ну, Инки тоже не стал долго смотреть вслед. Поднялся и пошел домой…
Больше они с Борисом не виделись.
Потому что в следующий четверг Анна Романовна всех заперла в классе после уроков. Накануне была самостоятельная работа по математике, почти никто ее толком не решил, Анна Романовна раскричалась. Мол, в конце учебного года показывать такие знания (то есть никаких знаний!) – это бессовестное разгильдяйство, и теперь они будут писать работу заново.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?