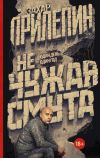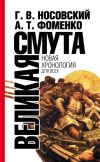Текст книги "Рождение династии. Книга 1. Смута"
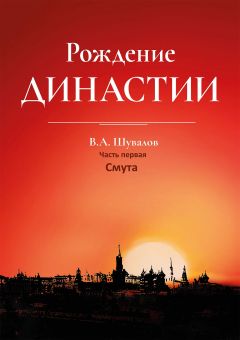
Автор книги: Владлен Шувалов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Так что никакого подлога не было и быть не могло: слишком много было свидетелей этого трагического события, кроме того, гроб с телом царевича две недели находился в соборной церкви, где каждый желающий мог проститься с ним.
Да и расследование было дотошным и наказания жесткие. Многие виновные в гибели царевича по недосмотру были сразу же убиты разъяренной толпой, которую через минуту призвал набат колокола соборной церкви.
Иные, после расследования сосланы в Сибирь, в Тобольский острог. Туда же был сослан и церковный колокол, который Шуйский приказал сбросить со звонницы, высечь кнутом и вырвать ему язык.
Мать Дмитрия Мария Федоровна Нагая была пострижена в монастырь под именем Марфа.
Нет, подлога быть никак не могло.
Царевич погиб случайно, играя в «тычку» в компании с маленькими ребятками, жильцами Петрушей Колобовым и Важеном Тучковым, сыновьями постельницы и кормилицы.
Были тут и Иван Красенский и Гриша Козловский. Были рядом и мамка Василиса Волохова, и кормилица Арина Тучкова, а также постельница Марья Колобова.
В руках у царевича была свая – заостренный четырехгранный гвоздь, которым он тешился в очерченное на земле кольцо. И вдруг у него начался приступ «черной немочи», царевича стало крутить, и он ударил себя сваей в горло.
Многие на допросах подтвердили, что страдал Дмитрий «падучей» болезнью, во время припадков бился о землю и грыз руки людям, которые пытались ему помочь.
Об этом и сообщил народу с Красного крыльца боярин Василий Иванович Шуйский.
А если бы и случился вдруг подлог и чудом спасся царевич от заговора, то ничего бы это не изменило.
Не мог он быть наследником царского престола по канонам православной веры. Дмитрий рожден был седьмой невенчанной женой царя Ивана. Следовательно, брак считался незаконным, а ребенок, рожденный в нем, незаконнорожденным. Об этом и грамота была именем нового царя Федора Ивановича подписанная.
Да не нужен никому этот мальчик – ни самому Федору Иоанновичу, ни Бориске Годунову, ни Шуйскому, ни Романову, ни Мстиславскому, ни Бельскому, претендующим на власть. Да и святым отцам не нужен этот бастард грозного Ивана. Следовательно, не может быть никакого «законного» царя Дмитрия, а человек, присвоивший себе это имя – самозванец.
Так рассуждал сам с собой архимандрит Филарет, пристально глядя на мигающую свечу. Потом он взял лежащий перед ним указ, развернул его и стал жадно пробегать глазами.
– Великий государь Дмитрий Иванович! – шептал он про себя с улыбкой презрения. – Обманщик наглый… Ставленник польский и казацкий… И на престоле попущением Божьим… И где слава, где мощь всесильного лукавством царя Бориса?.. Темны и не изведаны пути Господни…
И не льстили ему, не привлекали его те милостивые речи, с которыми обращался к нему новый «великий государь», дерзко и самовольно называвший его своим родичем, суливший все блага жизни… Ему легче было вспомнить обо всех ужасах перенесенной им опалы, разорении и ссылке, нежели о тех почестях, милостях и богатствах, которые ему предстояло получить из рук самозваного царя Московского, каким-то невероятным чудом вознесенного на высоту престола.
– Но как же быть? Что делать? Как решиться идти на обман и об руку с обманщиком? А если не идти, если презреть его…
Мысль о жене, о детях, о свидании с ними вдруг властно вторглась в эти рассуждения и помыслы и вызвала слезы на глазах подневольного отшельника.
– Детушки, детушки милые! – воскликнул он шепотом и не мог сдержать рыдания…
Рыдая, опустился он на колени перед иконою Спаса, висевшей в углу, и стал молиться, и плакать, и изливать горячую исповедь души перед Богом, души, давно наболевшей от всех бедствий и зол, какие на него так обильно пролились за последние годы. На него, ни в чем не повинного, и так страшно, так беспощадно испытуемого судьбой!
И вот теперь, вслед за этим горем и бедствием, надвинулась на него новая волна, против которой еще труднее будет устоять.
Будущее манит его счастьем, свиданием с родными и близкими, манит мирскими благами, от которых он успел отвыкнуть, которые научился презирать… Но для того, чтобы достигнуть этого счастья и этих благ, надо было нарушить мир души своей, порвать со своею совестью, поклониться кумиру, которого должно бы повергнуть в прах.
– Что делать, что думать мне? Куда стопы мои направить?! – скорбно взывал он в молитве своей, и луч света, озаривший душу его после долгого и восторженного умиления перед Всеблагим указал ему наконец, выход из этой тьмы противоречий, лжи и обмана…
– Кто знает пути Господни? Кто дерзнет похвалиться, что они ему ясны и видимы? Мирские блага меня теперь не соблазнят, и власть не привлечет меня, и суета не ослепит своим коварным блеском!.. Нет больше во мне боярина Романова: он обратился в инока смиренного, и это смирение должно теперь спасти меня от соблазна…
Эта ряса, которую надел я против воли, которую я ненавидел долго, как тяжкие оковы, с которою потом я свыкся, наконец, и примирился… Это ряса, которую нельзя стряхнуть с себя и сбросить, как сбрасываем мы одежды мирские, она теперь послужит мне бронею против зол и соблазна, она мне не дозволит занять места на пиршестве человеческой подлости…
И если даже я только детей своих спасу от уз обмана и лжи, укрою от зла, разве этого мало? Разве не стоит для этого идти туда, где зло водворилось? И зло и обман сносить до той поры, пока Господь не укажет ему предела, не потребит его гневом Своим?
Но нельзя и ждать сложа руки. Нужно бороться за правду. А правда в том, что только он, Филарет Никитич Романов, является истинным наследником престола русского. Правда, были еще Шуйские из суздальской ветви Рюриковичей. Но он, Романов, двоюродный брат почившего законного царя Федора Ивановича. Сан, который он принял, не позволяет ему возложить на себя царские бармы.
Но у него есть сын Михаил… Ради этого стоит жить… И он опять стал плакать, и молиться, и просить у Бога сил и помощи в предстоящей ему борьбе, и молился долго. Рассвет уже проглянул в окошко, когда он поднялся с молитвы успокоенный, примиренный со своею совестью и готовый вполне сознательно сказать себе:
«Да будет во всем Его святая воля!»
* * *
Самый дальний скит, куда, наконец, привезли инокиню Марфу, был мало пригоден для жилья: на берегу озера, почти у самой кромки воды стояли три избы, да хозяйственные постройки, чуть дальше «холодная» церковь, да мостки с привязанной лодкой. Тут нашли приют пожилой священник Ермолай Герасимов да три инока.
А чуть дальше ютились два крестьянских поселения: в два и три двора.
Опальную черницу разместить было негде, поэтому последовал приказ срочно срубить новую избу на пригорке возле скита. Крестьяне меж собой назвали ее «терем», но кто в том тереме живет никто не знал; всякое общение с пленницей было запрещено. Изба была тесная, в одну горенку и хотя стояла она на возвышенном месте, но виды, открывавшиеся из ее окон, не могли ласкать, а скорее удручали взоры узницы. Зимой кругом расстилалась печальная снеговая поляна Онега, в другие же времена года, хотя картины и были разнообразнее, но все же в суровых строгих тонах: хмурое небо, да серые холодные волны озера.
Особенно же уныла была осень в этом «царстве камня, воды и леса», оглашаемом шумом и гулом свирепых онежских волн, катящихся с необозримого озера-моря и дробящихся о каменистые толвуйские берега.
Раз в неделю чернец на лодке привозил из монастыря припас для монахов и стражников, а ежели буря расходилась на воде, то припаса и вовсе не было.
Потому питание инокини-заточницы хоть и было за счет казны, но недостаточное и плохого качества. Да к тому же, стражники, которые не ограничивались строгостью присмотра, старались всячески унизить некогда гордую московскую боярыню.
В монастырских летописях сохранилась запись некоего монаха, что «дан был «царице» Марфе Ивановне столик малый, под столиком в чаше вода, а на столике овес ей есть».
Но все изменилось с весною 1602 года; по царскому указу, пристава умерили строгость заключения инокини Марфы и впоследствии были уже в добрых отношениях с нею.
А крестьяне, идущие в церковь, изредка могли видеть сидящую на камне возле самой кромки воды молодую монахиню, бормочущую что-то про себя. Жаль человеческая, столь присущая русской душе, быстро сблизила местных крестьян с невольной инокиней-боярыней.
Они берегли и покоили, как могли, московскую «гостью» в своих теплых избах, когда она навещала их и даже умудрялись к ее приходу готовить свои знаменитые пироги с сигами.
(Потом, через много лет, повелела Великая Государыня инокиня Марфа поставлять толвуйских сигов к царскому двору).
Не только местные крестьяне, но и жители дальних деревень, приходя в церковь, обращались к священнику:
– Не откажи, батюшка, передай инокине-матушке вот сигов свеженьких, карасиков запечённых, грибочков, клюковки…
Показали местные крестьяне инокине ключ с особенно вкусной водой. Потом, пять лет спустя, когда вышло освобождение и уехала инокиня Марфа к своим детушкам, местные жители, не сговариваясь, назвали тот ключ «Царицыным ключом», а поселения возле ключа: Ближнее Царево (3 двора) и Дальнее Царево (2 двора). Больше всего расстраивало местных жителей, что инокиня Марфа всегда была грустной и никогда не улыбалась. Что угнетало ее? Почему не могла смириться она с судьбой? Священник не единожды пытался вступить в разговор с инокиней, но она всегда отвечала одно и то же:
– Моя судьба в руках Божьих. Уповаю на милость Всевышнего!
Но однажды отец Ермолай все же узнал причину тоски заточницы: проходя по берегу, он увидел неподвижно сидевшую на камне инокиню и тихо подошел, чтобы сказать какие-то ободряющие слова. И вдруг услышал тихие причитания:
– Милый муж мой, Федор Никитич, милые детушки мои, Танюшка и Мишенька! Где вы теперь? Живы ли? Маленькие, бедные, сиротами остались! Кабы свидеться с вами! Тем и живу, скрепив сердце верою. Мне же что надобно? Лихо на меня муж да дети; как помяну вас, ино, что рогатиной в сердце толкает…
Жаль, будто обручем сдавила сердце старого священника. Тихо отошел он, так ничего и не сказав.
Через приставов узнал отец Ермолай, что «большой» боярин Федор Никитич Романов, а ныне чернец Филарет заточником находится в Антониево-Сийском монастыре, а дети с дальними родственниками в суровом Белоозерском остроге.
И задумал отец Ермолай опасное дело: нарушить указ государев и, добравшись до Архангельского уезда, привести от заточника Филарета весточку инокине Марфе.
Дальняя, тяжелая была дорога. Знал Ермолай: коль проведает кто – не сносить головы. Но пошел.
К тому времени вышло послабление в заточении чернеца Филарета и по повелению царя ворота Сийского монастыря открылись для богомольцев, а Филарет Никитич получил дозволение стоять на клиросе в церкви во время службы. Здесь и встретил его отец Ермолай.
– Здравствуй, батюшка, – поздоровался он, подойдя к чернецу.
– Ты кто? – нахмурился Филарет.
– Протодиакон церкви Толвуйского Егорьевского погоста отец Ермолай, – тихо сказал священник, – весточка у меня к тебе от супруги твоей в миру Ксении Ивановны.
Лицо чернеца застыло.
– Говори что там, не тяни душу – хрипло прошептал он.
Отец Ермолай рассказал все как есть.
– Ты не кручинься, батюшка, – успокоил он Филарета: – мы все: и я, и послушники, и крестьяне местные оберегаем инокиню Марфу, помогаем, чем можем в горе ее.
Ты бы отписал ей письмецо какое, вот радость бы ей была.
Марфа прочитала письмецо и, посмотрев на отца Ермолая просветленными глазами, сказала:
– Батюшка, Бог не оставит тебя своей милостью. И от меня тебе благодарность будет великая.
Старый священник и не ждал милости. Какая может быть милость от опальной черницы? Но по его просьбе еще несколько раз добирались толвуйские крестьяне Гаврила и Клим Глездуновы, Никита, Мороз и Сидор с Кижского погоста до Сийского монастыря и передавали весточки несчастным узникам.
А милость все-таки пришла через много лет. Старого священника и еще несколько крестьян с Толвуйского погоста вызвали в Москву, в самый Кремль. И вручили Грамоту царскую «обельную», в которой было сказано, что награждаются они «…за душевное расположение к заточнице и во всем вспомогание ей в великих скорбях напрасного заточения и за то, что про отца нашего здоровье проведывали и матери нашей Великой Государыне старице Марфе Ивановне обвещали…».
Отец Ермолай получил четыре деревни с землями и угодьями для рыбной ловли в 10 тысяч десятин, а семьи крестьянские по две деревни тоже и «навечно освобождались от всех налогов и податей под угрозой боярам и государевым людям царской опалы».
С богатыми дарами крестьяне были отправлены домой, а протодиакон Ермолай Герасимов повелением инокини Марфы был назначен ключарем кремлевского Архангельского собора, где и прослужил до конца своих дней.
* * *
Хоть и вышло инокине послабление, но охраняли ее крепко: два пристава да десять стражников. А зачем, и сами не знали.
В этих краях даже тележных путей не было. До Новгорода 700 верст, до Москвы – 1200. Только против весточек охрана была бессильна.
Весточки, которые получала инокиня от Федора Никитича немного скрашивали ее тоскливые дни. Приходили и плохие, и хорошие вести. Узнала Марфа, что через год ссылки все три брата: Михаил, Александр и Василий Никитичи, почти одновременно были умерщвлены: Филарет же Никитич, не испытав нового телесного озлобления, был еще более закреплён на поприще священства, дарованием ему сана архимандрита.
Так и жила она, томясь жизнью, одинаково равнодушная ко всему, и дожила до лета 1602 года – до лета, которое заглянуло в Толвуй, не раньше Петровок.
Случилось как-то, что старуха-баба, прислуживавшая инокине Марфе, невыносимо начадила в избе, и притом как раз в такое время, когда обычно заглядывал в избу пристав. Тот заглянул и тотчас раскричался на старуху, а к инокине Марфе обратился со словами:
– Изволь-ка выйти на крылечко… Да побудь там, пока я здесь чад выпущу в сени… А то еще угоришь, и мне из-за тебя в ответе не быть бы.
Она повиновалась беспрекословно и вышла на крыльцо – и странное вдруг испытала ощущение. Это был первый ее выход с начала весны: солнце светило ярко, от леса тянул легкий ветерок, насквозь пропитанный смолистым ароматом сосен и елей. Птички какие-то малюсенькие, краснозобые, превесело перепархивали с куста на куст, с дерева на дерево, старательно и неутомимо выводя и высвистывая свои незатейливые, но гармоничные песенки.
Инокиня Марфа присела на крылечко и залюбовалась летней погодой.
– Ступай-ка в избу, там теперь чаду нет. – Раздался над нею голос пристава и его слова прервали ее мысли.
Она машинально поднялась и, не оглядываясь кругом, вернулась вновь в свою могилу. И ей даже на память не пришли те мысли, которые были навеяны на нее щебетанием птичек. После этого прошло еще около месяца. И вдруг произошло нечто совсем необычайное: пристав не явился как-то ни разу в день.
Не явился и на второй день… Даже инокиня Марфа это заметила и уже собиралась о нем спросить, как вдруг дверь отворилась настежь, и в избу, без шапки, вошел пристав и не стал ходить козырем вокруг да около, а стал около притолоки навытяжку и пропустил в избу какого-то другого мужчину средних лет и благообразной наружности.
В руках у того был какой-то свиток.
– Это, что ли, инокиня Марфа? – спросил новоприбывший вполголоса у пристава.
– Она самая и есть, – отвечал пристав.
– Изволь-ка встать, – продолжал прибывший, обращаясь к затворнице: – государева указа слушать…
Она поднялась с лавки так же машинально, как тогда по приказу пристава поднялась с крылечка, и приготовилась слушать, совершенно равнодушная к тому, что ей собирался читать неизвестный посланец государя.
«Куда же меня сошлют? В Соловки, в Пелым?» – смутно мелькнуло в ее сознании.
И она стала слушать, не вникая, почти не отдавая себе отчета в словах, долетавших до ее слуха.
…А по сему изволил великий государь, – громогласно читал посланец, – по неизреченному своему милосердию в благости, изменника своего жену, Ксению Ивановну (а в иночестве Марфу) помиловать… приказать ее из Толвуйского заонежского погоста отправить на Белоозеро, где сосланы, живут ее, Марфы, дети, да его же изменника государева сестра и зять…, а оттоле всех их вкупе сослать, не разлучая, в Юрьев-Польский уезд, в вотчину Клин, что прежде была Романовых, а ныне на него, великого государя, отписана…
– Что это он читает? Зачем он издевается надо мной? Зачем мучает? – зашевелилось на душе у инокини Марфы.
– Слышала, чай? – нетерпеливо спросил пристав, удивленный молчанием несчастной и недоумением, которое выразилось на ее лице.
Но тот, кто читал указ государев, по-видимому, понял тягостное внутреннее состояние инокини Марфы. Он стал неторопливо и спокойно истолковывать ей прочитанное.
Когда он ей объяснил, что ее приказано везти на Белоозеро, и разрешено ей жить с детьми, она вдруг страшно вскрикнула, и как сноп, повалилась на землю.
– Ну-у! Наделал дело – растолковал! – воскликнул пристав и бросился приводить несчастную в чувство.
Когда же она, наконец, очнулась и вполне пришла в себя, тогда стала Христом Богом молить, чтобы еще раз был прочитан указ государев, и посланец его прочел и добавил даже, что везти ее приказано из Толвуя немедленно, и чтобы она была готова в путь назавтра спозаранок.
Не знала Марфа Ивановна, да и не могла знать, что ее беды еще не закончились.
Как свирепые морские волны накатывали на Русь события, одно страшнее другого.
Скоро, очень скоро как взбесившаяся тройка, лишившаяся своего ездового, понесется она галопом по тракту, храпя от страха и боли, поднимая тучи пыли и сшибая все на своем пути.
Царь-то не настоящий…
Филарет внимательно всматривался в лицо «царя», пытаясь найти в нем что-то общее с убиенным царевичем Дмитрием. Нет, ничего, только волосы такие же рыжеватые и редкие конопушки на носу и щеках. Но отвратительных бородавок на лице Дмитрия не было. Как же монахиня Мария Нагая распознала в нем сына?
Впрочем, она этого и не говорила. Просто, когда ее привезли с места ссылки, Лжедмитрий бросился к ней, обнял ее, а она обняла его. А потом он шел пешком возле кареты, увозящей ее к месту нового обитания В Кремлёвский Вознесенский монастырь, показывая тем самым свою сыновью любовь. Царь навещал её там каждый день и спрашивал благословения после каждого серьёзного решения.
Внешний вид правителя не вызывал симпатии: он был низок ростом, достаточно неуклюж, лицо имел округлое и некрасивое (особенно уродовали его две крупные бородавки на лбу и на щеке), рыжеватые волосы.
При небольшом росте он был непропорционально широк в плечах, имел короткую «бычью» шею, руки разной длины. Вопреки русскому обычаю носить бороду и усы, не имел ни того ни другого. Впрочем, Филарет уже знал, что никакой это не Дмитрий.
Верные люди донесли ему о посланиях покойного Бориса Годунова польскому королю Сигизмунду, в которых тот советовал не попадаться на уловки самозванца.
Это бывший монах-расстрига Гришка Отрепьев (в миру Юрий Богданович), сын небогатого помещика стрелецкого сотника Богдана Отрепьева, который был убит в пьяной драке в Немецкой слободе.
Спасаясь от нищеты, Гришка поступил на службу в костромскую вотчину бояр Романовых, а потом перебрался в их московское имение на Варварке.
С началом опалы, предчувствуя беду, принял постриг от Вятского игумена Трифона и оказался в Чудовом монастыре в Кремле.
Там его увидел патриарх Иов, посвятил в диаконы и взял к себе для книжного дела, ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны святым лучше многих старых книжников.
С Иовом он часто ездил и во дворец, где изъявлял необыкновенное любопытство, жадно слушал людей разумных, особенно когда в искренних тайных беседах произносилось имя Димитрия – царевича. Мысль чудная уже поселилась и зрела в его душе. Григорий бежал из монастыря и после долгих скитаний оказался в Литве, где и началось его восхождение к трону. Все это мало волновало Филарета, главное то, что его изгнание кончилось. Он снова был в Москве, в своем имении на Варварке, вместе с женой и милыми детушками Михаилом и Татьяной.
«Царь» встретил его радушно, пообещал немедля вернуть все имущество, несправедливо отнятое Годуновым.
Удивительно было всем, как быстро согласился Филарет служить Дмитрию, не отказался принять сан Ростовского митрополита, для чего сместил Лжедмитрий бывшего владыку Кирилла и отправил его в Троице-Сергиев монастырь.
Больше всего боялся Филарет, чтобы не узнал народ истинной причины благожелательного отношения Лжедмитрия: в свое время Григорий Отрепьев был боевым холопом боярина Романова и, более того, являлся дальним родственником его жены Ксении Ивановны Шестовой (инокини Марфы).
Несмотря на то, что прошли уже более шести лет, Филарет в первый же момент узнал Гришку Отрепьева, но виду не подал. Он только сдержанно поблагодарил «царя» за его великодушие и доброе отношение к своим родственникам. Через два дня после принятия сана митрополита от патриарха Игнатия, Филарет вместе со всей семьей уехал в свою епархию.
А в Москве разворачивались новые события.
Сколько помнил себя Юшка Отрепьев, он всегда ощущал никчемность своего существования. Его одолевала одна и та же мысль: почему при милости божьей существует в жизни такая несправедливость?
Живут же другие люди себе в удовольствие! Вот бояре, к примеру. Всё пиры да гулянья! Одежды парчовые, золотом шитые… У иных спеси больше, чем росту. Кланяйся им, шапку ломай! А у человека трудового коли хлеба без мякины есть вдосталь, так и то рад…Э-эх!
И отчего так жизнь человеческую Бог состроил, что одному много, а другому ничего ровнёшенько?
Как-то Юшка задал этот вопрос сельскому попу. Священник на минуту задумался и ответил:
– Таков промысел божий! Вот живут на земле зверушки разные: зайчишки там, птички…и волки. Зверушки пропитание себе добывают: корешки всякие, червячков…, волки зверушек поедают.
А ну как останутся на земле одни волки? Сожрут ведь друг друга и жизни не будет.
Каждый зайчонка мечтает волком стать, да не сподобил Господь!
Крепко запомнил Юшка эти слова священника. И еще понял: волчонок тоже рождается беспомощным, его и заяц затоптать может. Это потом он начинает матереть…
Юрий Богданович Отрепьев (в иночестве – Григорий) тоже принадлежал к некогда знатному роду Нелидовых, выходцев из Литвы. Потом род начал беднеть и скудеть своими потомками.
Одного из предков Юрия, Давида Фарисеева Государь Иван III назвал как-то Отрепьевым.
В шутку было сказано это, или с досады, только приклеилась эта обидная кличка к Нелидовым намертво.
Так и пошло: Отрепьевы и Отрепьевы…
Отец – Богдан Отрепьев дослужился на государевой службе едва до стрелецкого сотника и сложил свою буйную головушку в пьяной драке в Немецкой слободе.
После гибели отца имение Отрепьевых пришло в окончательный упадок. Юрию пришлось решать, как жить дальше.
Идти на государеву службу он не хотел – воеводского чина все равно не выслужить. И он определился на службу в вотчину боярина Федора Никитича Романова, на земле которой находилось имение Отрепьевых.
Читать и писать он умел благодаря стараниям матери, почерк имел отменный. Исполнительный отрок с острым проницательным умом, демонстрирующий преданность своему хозяину, привлек внимание Федора Никитича, и он сделал его боевым холопом.
За короткое время Юрию пришлось освоить военное искусство: он виртуозно управлялся с лошадью и владел саблей.
Благодаря своей сообразительности Отрепьев скоро сблизился с Федором Никитичем и стал его доверенным лицом. Он стал участвовать во многих семейных делах бояр Романовых.
Вот тут-то он и понял, что в семействе Романовых грядут большие события.
Богатый, влиятельный, обласканный царем его двоюродный брат Федор Романов, после смерти Федора Ивановича, стал неугоден новому царю Борису Федоровичу Годунову.
Все дело заключалось в претензии на трон, которую Федор Никитич, как ближайший родственник покойного царя никогда не скрывал.
Это вызывало гнев и ненависть Бориса Годунова, да, наверное, и боязнь, что Романовы постараются вернуть себе незаконно захваченный у них скипетр.
Но после избрания Годунова Земским Собором, шансы Федора Романова вернуть престол упали до нуля.
Годунов срочно провел расстановку воевод по чинам, которая изменила всю структуру знатности при царском дворе. Все первые места отданы были ордынским «царевичам»: Араслан-Алею Кайбуловичу астраханскому, Ураз Магомету Ондановичу киргизскому, Шихиму шамоханскому, Магомету юргенскому (хивинскому). Вдобавок Ураз-Магомет был сделан вскоре «царём» касимовским[6]6
«Царь» касимовский – принявший провославие хан казахской династии Ураз-Мухаммед, вотчину которого в Мещерской земле с городом Касимов, передал ему царь Борис Годунов. Касимовский царь являлся вассалом московского царя и защищал границы Московского царства от крымских и казанских татар.
[Закрыть] – в напоминание о «царе» Симеоне Бекбулатовиче, поставленным над Русью Иваном Грозным.
Хоть и формально, он становился вторым российским государем – первым в случае каких-либо несчастий с Борисом Годуновым и его наследником Фёдором Борисовичем.
Под предводительством «царевичей» поставлены были над полками русские воеводы: Ф.И. Мстиславский (Большой полк), В.И. Шуйский (Правая рука), И.И. Голицын (Левая рука), Д.И. Шуйский (Передовой полк), Т.И. Трубецкой (Сторожевой полк).
Фёдор Никитич Романов не только не удостоился первого воеводства ни в одном полку, но был помещен последним в списке бояр (помимо названных, выше него оказались А.И. Шуйский, С.В. и И.В. Годуновы).
Большего оскорбления Романовых, казалось, и придумать было нельзя!
Но Годунову, мигом забывшему свое обещание Фёдору Никитичу «жить в мире», надо было сразу показать, кто в царстве хозяин. Нарушив торжественно объявленное распоряжение, что служба в «государевом походе» будет «без мест», Борис одобрил местническое челобитье[7]7
Местническое челобитие – жалоба царю на самовольное превышение статуса одного боярина по отношению к другому.
[Закрыть], задевавшее честь Романова.
При раздаче чинов, после венчания нового царя на царство, нельзя было обойти Романовых.
Годунов и тут явил свой подлый нрав, дав боярство Александру Никитичу Романову последним в списке, после целого выводка Годуновых и их друзей. Хуже того – брат Фёдора Никитича Михаил получил чин окольничего.
Чтобы понять всю оскорбительность этого «повышения», следует учесть, что знатнейшие роды имели привилегию жаловаться в бояре прямо из стольников, которыми становились при поступлении на службу.
Промежуточные чины – думных дворян и окольничих – были введены специально для постепенного приема в Боярскую Думу полезных, но менее родовитых людей.
Сама мысль, что человек, имеющий право на место в Думе «по роду», получит его «по службе», была непереносимо унизительна для знати.
«Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач», – говорили между собой бояре, давая характеристику Годунову.
Главное, что обращало на себя внимание в этих историях, – безмолвие Фёдора Никитича Романова, не только не возмутившегося публично, как сделал бы всякий родовитый человек, но даже не подавшего вида, что оскорблен.
Это и было пощечиной Годунову, в изумлении обнаружившему, что он неспособен оскорбить Романовых. Своим поведением Романов показал, что с высоты его происхождения милость или немилость Годунова не имеют никакого значения.
На Руси такого ещё не бывало. Именно с этого момента Романов в глазах русской знати оказался безусловным претендентом на престол. Каждый дворянин, с «младых ногтей» знакомый с местническими обычаями, с полной ясностью усвоил смысл поведения Фёдора Никитича.
Было ясно, что Романовы обязательно ответят. Но как?
Единственной, проверенной столетиями, формой протеста был бунт. И народ, доведенный до отчаяния надвигающимся голодом и произволом царских ищеек был готов к нему. Достаточно было клича. Впрочем, клич тоже был: «Царевич Дмитрий жив!», «Дмитрия на престол предков!».
Только где найти этого Дмитрия, чтобы предъявить его народу? Отрепьев хорошо понимал, что его ожидает и готов был принять участие в бунте. На Варварке только «оружной» челяди скопилось больше 200 человек.
Но царь Борис, уже больной до того, что ходить сам всякий родовитый человек, но даже не подавшего вида, что оскорблен.
Это и было пощечиной Годунову, в изумлении обнаружившему, что он неспособен оскорбить Романовых. Своим поведением Романов показал, что с высоты его происхождения милость или немилость Годунова не имеют никакого значения.
На Руси такого ещё не бывало. Именно с этого момента Романов в глазах русской знати оказался безусловным претендентом на престол. Каждый дворянин, с «младых ногтей» знакомый с местническими обычаями, с полной ясностью усвоил смысл поведения Фёдора Никитича.
Было ясно, что Романовы обязательно ответят. Но как?
Единственной, проверенной столетиями, формой протеста был бунт. И народ, доведенный до отчаяния надвигающимся голодом и произволом царских ищеек был готов к нему. Достаточно было клича.
Впрочем, клич тоже был: «Царевич Дмитрий жив!», «Дмитрия на престол предков!».
Только где найти этого Дмитрия, чтобы предъявить его народу? Отрепьев хорошо понимал, что его ожидает и готов был принять участие в бунте. На Варварке только «оружной» челяди скопилось больше 200 человек.
Но царь Борис, уже больной до того, что ходить сам не мог и даже в церковь на службу его носили на носилках, не выдержал этого ожидания.
Он ударил первый. И когда факелом вспыхнул окруженный стрельцами дом Александра Никитича Романова, Юрий понял: дальше судьбу испытывать не стоит. Нужно бежать, чтобы сохранить голову. В Железно – Борковском монастыре, расположенном неподалеку от родительского поместья, Юрий принял постриг, получив новое имя – Григорий.
Потом его видели в суздальском Спасо-Ефимьевом монастыре и монастыре Ивана Предтечи в Галичском уезде.
Дольше всего инок Григорий задержался в Новгород-Северском Спасском монастыре. Архимандрит Захарий рад был новому иноку и поставил его петь на клиросе[8]8
Клирос – место в храме, на котором стоят певцы церковного хора.
[Закрыть]. Здесь Григорий пробыл весь Великий Пост и на Благовещение в день с попами служил обедню. Но после Пасхи начал спешно собираться в дорогу.
Архимандриту сказал: «Есть мне в Путивле в монастыре свои дела».
Но не собирался инок Григорий расставаться с мирскими делами. Понял он, что в служении Господу достойной жизни себе он не найдет. Затосковал он по вольной службе у бояр Романовых, по златоглавым московским соборам, да раздольным ярмаркам.
Напоследок Григорий своеобразно отблагодарил своего благодетеля отца Захария. В келье архимандрита он оставил письмо с записью: «Аз есмь царевич Дмитрий, сын царя Ивана; а как буду на престоле на Москве отца своего, и я тебя пожалую за то, что ты меня покоил у себя в обители».
Найдя эту «памятцу», спасский архимандрит долго сокрушался – кого приютил у себя под крышей Господа, но решил все же не умолчать о случившемся, боясь попасть в опалу царю. И пошел гулять слух от монастыря к монастырю, от посада к посаду, по базарным площадям и придорожным трактирам: «Появился царевич Дмитрий! Скоро конец будет царскому произволу!» Дошел этот слух и до царских ушей и повелел Государь изловить «мятежного чернеца» сослать его в отдалённый монастырь на вечное служение. Спасаясь от царских ищеек, пробрался Григорий в Москву и укрылся от царского гнева у него под боком в Кремлевском Чудовом монастыре.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?