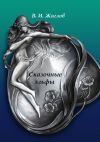Текст книги "Лем. Жизнь на другой Земле"

Автор книги: Войцех Орлинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Его схватили немцы. Оценка уличных подростков для них важней, чем арийское удостоверение личности, которое перепуганный Стефан им показывает. Немец реагирует на него ироничным: «Du bist also kein Jude, was? Sehr schön!» («Ты не еврей? Ну и прекрасно!») Стефан попал на площадь, с которой их вывозили в Белжец, и описывает страх людей, ожидающих смерти:
«Несколько подростков проталкивали в щели между досками яд в маленьких конвертиках. Цена одной дозы цианистого калия была высокой. Евреи, однако, были недоверчивыми: в конвертах преимущественно находился мел».
Стефан вышел из всего этого живым, что на самом деле было бы нереально. Ведь Белжец не был концлагерем, он был лагерем смерти, в нём нельзя было делать то, что описывается в романе: вступить в разговор с немцами и благодаря этому быть отделённым от группы, предназначенной на смерть, и переведённым в группу для работы. Можно было получить дополнительные пару месяцев жизни на работе в зондеркоманде, обслуживающей газовые камеры. Однако я думаю, что описание ужаса улиц Львова стопроцентно реалистическое.
Последнюю публичную казнь – уже не евреев, а поляков и украинцев – немцы провели в феврале 1944 года, а последнюю непубличную (на Пясках – там, где раньше убивали евреев) в конце апреля 1944 года[87]87
Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.
[Закрыть]. Потом уже у немцев было слишком много проблем в связи с приближением Восточного фронта.
Русские подошли к городу летом, но долго отказывались от наступления. Наконец они решились на манёвр окружения – с севера город обошла 60‐я армия в направлении Жолквы, с юга – 68‐я армия на Городок Ягеллонский.
Повторилась ситуация 1941 года, когда русские то покидали Львов, то возвращались в него. Большинство немецких сил отступили 18 июля. Остатки воинских частей забаррикадировались в Цитадели в центре города. Красная армия окружила город, но не вступала в него, давая немцам несколько дней на уничтожение польского восстания, проводившегося в рамках операции «Буря».
Для Лема это тоже стало временем ужаса. В какой-то момент до него дошёл слух, что отступающая дивизия СС «Галиция» собственноручно совершает погромы. Он в панике убежал в район Погулянки, что тянулся вблизи улицы Зелёной. Он с юмором рассказывает Фиалковскому, что потом его смешили вещи, которые он с собой захватил: «несколько кусков сахара, какие-то носки, один сапог».
Большинство боёв во Львове жители дома на Зелёной пережидали в подвале. В этом случае «большинство боёв» означает несколько дней, даже неделю (речь идёт про период с 18 по 27 июля). Они слышали, как последний немецкий патруль стучался в ворота каменицы. Они лихорадочно совещались, открывать или нет. Они решили не открывать, вероятно, правильно.
Лем описывал Фиалковскому, что дважды за это время совершал поступки, равные самоубийству. В какой-то момент в подвале он вспомнил, что на кухне осталась кастрюля холодного борща. Он поднялся наверх, чтобы поесть, но как только зачерпнул из кастрюли – бабахнуло, а когда он пришёл в себя, то держал в руке только ручку от кастрюли, которую уничтожил взрыв, вместе с другим кухонным инвентарём. «Если бы я встал на метр дальше, то погиб бы», – вспоминает Лем, добавляя, что «несколько дней назад» (!) он выскользнул из этого подвала, чтобы наконец помыться, но услышал, как взрывы звучат всё ближе, «закончил купание со сверхъестественной скоростью». Этот взрыв, скорее всего, стал причиной его проблем со слухом, которые мучили писателя всю жизнь.
Когда выстрелы стихли, он отправился в центр города, чтобы наконец увидеть родителей. Это было где-то 22 июля – Львов оказался занят тем же львовско-сандомирским наступлением, которое привело к взятию Хелма и Люблина, а также к символической дате основания ПНР. Лем вспоминал Фиалковскому:
«По мере продвижения к центру города, я встречал всё меньше людей. А когда дошёл до Иерусалимского сада, не было вообще никого. Однако я шёл дальше и вдруг услышал характерный звук мотора «Пантеры» и грохот гусениц по мостовой. Я обернулся и, естественно, увидел, что, правда вдалеке, ко мне приближается немецкая «Пантера» […]. Я хотел забежать в какой-то подъезд, но все двери были закрыты. Я мог только забиться в нишу и ждать, что будет дальше. От танка не убежишь».
К счастью для Лема, прежде чем экипаж «Пантеры» успел подстрелить его, сам уже полыхал живьём из-за меткого выстрела замаскированного русского противотанкового отряда. «Я слышал страшные крики людей, горящих внутри», – вспоминает Лем. И это был последний крик немецкого оккупанта, который он слышал.
Через короткое время Львов оказался ничьим, то есть польским, и это было опасное время. Лем вспоминал, что своего отца, который хотел присоединиться к операции «Буря», в последний момент он задержал на ступенях, когда тот решил выйти на улицу с бело-красной повязкой «Военный врач Армии Крайовой». Это было бы самоубийством. Русские приняли помощь Армии Крайовой при захвате города, потому что у них не было пехоты. В скором времени после взятия Львова они схватили несколько тысяч своих «союзников» с бело-красными повязками. Часть из них убили, часть сослали в лагеря, часть стала служить в Красной армии.
Судьба Самюэля Лема, если бы его схватили с такой повязкой, была бы, несомненно, страшной. Русские некоторых участников Армии Крайовой убили сразу, без суда, других отправили в лагерь, где больной пожилой человек не смог бы выжить.
В жизни Станислава Лема началась третья оккупация, о которой известно меньше всего. Лемы должны были в советском Львове вести очень осторожную игру. Выжившие в холокост, к сожалению, не могли в СССР рассчитывать на то, что кто-то им скажет: «Вы пережили холокост! Это замечательно! Вот медаль за победу, а это вознаграждение за терпение!» Во время немецкой оккупации спасение обычно требовало сотрудничества с неоднозначными моральными субъектами, такими как Кремин или Долянец. Требовалось давать взятки за фальшивые документы и щедро платить смельчакам, готовым прятать евреев в своих домах или квартирах. Взяточничество, фальсификация и владение валютой было запрещено в СССР, поэтому те, кто скрывался, и те, кто скрывал, после войны не хотели, чтобы их спрашивали, что стало с золотыми монетами, которыми евреи платили за спасение.
При тоталитарном режиме не нужно было совершать преступление, чтобы попасть в тюрьму. Достаточно было подозрения. Упомянутая уже семья Кимельманов была в шаге от серьёзных проблем – информатор НКВД подслушал в 1945 году Макса Кимельмана, который говорил по-немецки, и принял его за шпиона. Кимельман провёл пять месяцев в киевской тюрьме без какого-либо приговора, к счастью, семье удалось его вытащить, а позднее выехать из СССР.
Новым оккупантам Лем не мог признаться ни в своей работе в Rohstofferfassung, ни в том, что использовал фальшивые документы. Если Армия Крайова действительно имела что-то общее со спасением Самюэля и Сабины Лемов с улицы Бернштайна или прямо из гетто – это также должно было остаться в тайне. На всё это у нового оккупанта было только три ответа: пять лет лагеря, десять лет лагеря или расстрел (приговоры того времени ужасно однообразны, советские судьи словно из принципа не выдавали других приговоров, чем пять лет, десять лет или смерть, и неясно, чем они при этом руководствовались).
Прежде чем мы бросим камень в тогдашних россиян, вспомним поразительное равнодушие, которое современные поляки проявляют по отношению к разным «старикам вермахта». Ведь кашубы[88]88
Этническая группа, населяющая часть Поморья.
[Закрыть] или силезцы также оказывались перед выбором: служба немцам или смерть.
В любом случае я предполагаю, что в этом, по-видимому, кроется объяснение сенсационного документа, недавно опубликованного Виктором Язневичем, в советских архивах он нашёл написанное, скорее всего, рукой Лема в октябре 1944 года заявление о поступлении в политехнику с обоснованием, что мечтает строить танки для Советского Союза[89]89
Виктор Язневич, Станислав Лем, Минск: Книжный дом, 2014.
[Закрыть]. Сам Язневич интерпретирует это так: вряд ли Лем решил загубить два года трудного обучения на медицинском, скорее всего, хотел иметь какую-то бумагу, которая свидетельствовала бы о его лояльности в случае возможного судебного процесса по делу о его работе в Rohstofferfassung[90]90
Виктор Язневич, разговор от 24.10.2015 в Варшаве.
[Закрыть].
До суда, к счастью, не дошло. Лем возобновил обучение на медицинском. Раздел о военном кошмаре закончим грустным воспоминанием, рассказанным Фиалковскому. Сразу после того, как немцы ушли, во Львове начался «грохот и стук, как в Клондайке». Это новые жители еврейских камениц (также и той, что на Браеровской, 4) разбивали кирками стены подвалов в поисках еврейского золота. Такова голая правда об этом своеобразном виде, который наблюдался «Граммплюссом в самом тёмном закоулке нашей Галактики, – Monstroteratum Furiosum (тошняк-полоумник), называющийся Homo Sapiens»[91]91
Цитата из: С. Лем, «Звёздные дневники Ийона Тихого. Путешествие восьмое», пер. с польск. К. Душенко.
[Закрыть].
III
Выход на орбиту
В каком году, собственно, Лемы переехали в Краков? Этот на первый взгляд простой вопрос был на протяжении многих лет предметом очередной лемовской игры подобия правды, которой поддавались даже величайшие специалисты. На протяжении длительного времени, например, на официальной странице Lem.pl висела ошибочная информация (1946), которая появилась из дословной трактовки ответов Лема, что приехали они «одним из последних транспортов», потому что отец слишком долго откладывал переезд[92]92
Войцех Земек, разговор от 6.02.2016 в Кракове.
[Закрыть].
Когда я пишу эти слова, ошибочный год также указан в статье про Лема в польской Википедии. То же самое в российской биографии Лема, написанной Прашкевичем и Борисовым[93]93
Геннадий Прашкевич, Владимир Борисов, Станислав Лем, Москва: Молодая гвардия, 2015.
[Закрыть]. Авторы собрали книгу из публичных высказываний Лема и попали в западню. Там вообще не появляется, например, вопрос происхождения Лема, не согласуются некоторые даты, в том числе и дата репатриации.
Обратите внимание на мастерство, с каким Лем умеет и не соврать и правду не сказать. «Одним из последних транспортов» – что это, собственно, означает? Всё является «одним из последних». Это одна из последних страниц этой книги, а вы её читаете в один из последних дней своей жизни. Естественно, перед вами ещё много дней и много страниц. Но с чисто логической точки зрения – я не соврал.
Посмотрим на эти два соседних предложения в разговоре с Бересем: «Те, кто выехал в 1945 году, могли забрать с собой мебель. Мы, после того как оформили документы в Главном репатриационном управлении, выехали из Львова с мизерным скарбом». Каждый читающий это непроизвольно заметит тут противопоставление ситуации «нас» (Лемов) и «тех, кто выехал в 1945 году». И поэтому можно подумать, что Лемы выехали в следующем году.
Впрочем, много поляков во Львове задержали выезд по патриотическим причинам. Они надеялись, что если в городе останется польское население, то это будет способствовать будущему возврату Львова. Эта позиция была наивной, потому что для Сталина принудительное выселение десятков тысяч жителей не было проблемой, а в Польшу или в Сибирь, это уже было второстепенным вопросом. Поведение этой группы хорошо описывает в своих мемуарах Ришард Гансинец, который ещё в 1945 году утверждал, что «только евреи перелетали за Сан[94]94
Сан – река в юго-восточной Польше, приток Вислы.
[Закрыть]. Но в конце и он выехал 11 июня 1946 года, через год после Лемов[95]95
Ryszard Gansiniec, Notatki lwowskie (1944–1946), Wrocław: Sudety, 1995.
[Закрыть].
Лемы переехали в Краков летом 1945 года. Я сказал бы, что они уехали одним из первых транспортов. Они опередили большинство известных «институциональных» эшелонов, которыми на Возвращённые территории эвакуировали кадры польских учреждений, таких как театры, учебные заведения или Оссолинеум. Так называемый университетский эшелон отправился, например, во Вроцлав 28 сентября 1945 года. Когда он приехал, Самюэль Лем уже работал в краковском госпитале[96]96
Самюэль Лем, рукопись биографии добавлена к заявлению о работе.
[Закрыть].
Зачем Станислав Лем петлял в этом безобидном вопросе? Он делал это систематически, поэтому нельзя списать это на счёт обычного недопонимания. Он использовал это даже для дезинформации друзей в личной переписке. Когда в начале семидесятых профессор Владислав Капущинский, первый самопровозглашённый лемолог[97]97
Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 28.01.1965.
[Закрыть], попросил писателя прислать жизнеописание, Лем написал ему, что семья переехала в Краков «в 46»[98]98
Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому, 20.08.1973.
[Закрыть]. Мог ли он в таком деле ошибиться? Такие даты запоминаются обычно на всю жизнь.
Лем при использовании очередного шифра что-то хочет спрятать, а что-то говорит между строчками. Постоянным элементом его рассказа на эту тему была обида на отца, что тот не решился на переезд раньше и ждал слишком долго, а в результате этого Лемы утратили почти всё имущество, за исключением кое-каких мелочей, и, что важнее всего для Станислава Лема, немецкую пишущую машинку и «пару книг».
Имущество Лемы потеряли не потому, что долго тянули, а только потому, что были евреями. Немцы конфисковали имущество евреев, доверяя его «поверенным», например Кремину. Единственным шансом на спасение, по крайней мере части имущества, было заключить соглашения с тёмными личностями, такими как герои второго плана в «Среди мёртвых» (Лем смоделировал их из аутентичных гиен, с которыми столкнулся во Львове)[99]99
Станислав Лем, письмо к неизвестной исследовательнице литературы от 17.04.1967.
[Закрыть].
Очень интересной личностью является некая Мария Хуцько – украинка, которая перед войной была экономкой каменицы «адвоката Гельдблюма». Когда пришли немцы, Гельдблюм переписал на неё свой дом в обмен на обещание, что женщина сохранит хотя бы мебель и картины. Лем описывает её довольно язвительно. Хуцько занималась тайно проституцией, хотя у неё не было ноги. Ей все платили, но больше «не возвращались». Язвительность не пощадила и адвоката, который «с облегчением» перебирается в гетто. Всезнающий рассказчик «Среди мёртвых» пишет:
«Гельдблюмы оставили дом, в котором жили восемнадцать лет. Адвокат был даже рад, потому что соседи в последнее время не жалели для него унижений. Он думал, что в гетто евреям будет спокойней. В доме осталась Мария Хуцько».
Гельдблюм, безусловно, не является alter ego Самюэля Лема, который, очевидно, никогда не надеялся, что «в гетто евреям будет спокойней». Но сам механизм потери имущества работал точно так же – сначала находили того, на кого фиктивно переписывали недвижимость с устным обещанием, что «после войны» как-то всё урегулируется. И чем больше боялся еврей, тем сильней изменялись предполагаемые условия.
Мария Хуцько – это выдуманный персонаж, хотя взят из реальности, как и большинство героев из «Среди мёртвых». Немного напоминает ту аутентичную особу, описанную двенадцатилетней Хешелес, у которой не было причин играть в какие-то литературные игры. Она пряталась (и попалась) вместе с мамой у некой Кордыбовой, которой было «шестьдесят, а она притворялась, что 35, а на мужа говорила, что это её отец».
Можно понять ужас, скрывающийся в неосторожном заявлении, которое Лем сделал Фиалковскому, – после вторжения россиян Лемы уже не могли вернуться в каменицу на Браеровской, «потому что там жил уже кто-то другой». Кто? Я этого не знаю, но, наверное, кто-то типа Марии Хуцько, если не Долянца.
Откуда тогда настойчиво возвращающаяся обида на отца, что Лемы не уехали из Львова раньше? Если бы речь шла об обычной репатриации в рамках главного репатриационного управления, отъезд можно было бы ускорить только на месяц. Это не много бы изменило в ситуации Лемов и точно не помогло бы сохранить имущество. Я допускаю, что предложение переезда в Краков появилось раньше – во время немецкой оккупации. Давайте подумаем над важным в этом контексте вопросом: почему именно Краков? Ведь львовян переселяли на Возвращённые территории, обещая им недвижимость немцев.
Поезда из Львова шли во Вроцлав через Ополе, Катовицы и Бытом. И там в результате оказывалось большинство репатриантов, хотя условия на этих станциях были ужасными. Поезд теоретически мог ехать во Вроцлав, но, бывало, уже в Бытоме советский персонал говорил репатриантам: выгружайтесь[100]100
Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947, Kraków: Znak, 2012.
[Закрыть].
И они «выгружались», а потом месяцами перебивались на вокзальных руинах. «Если будет регистрация на выезд в Польшу, не соглашайся. Лучше сиди дома. Те, кто приезжает, сидят на станции два месяца голодные и холодные. Никто о них не беспокоится», – писал своей жене летом 1945 года какой-то солдат, процитированный Марцином Зарембой в «Большой тревоге». Неизвестно, что сделала жена, потому что это письмо задержала военная цензура (и потому, собственно, Заремба мог его процитировать).
Лем не рассказывал своим собеседникам про такие неприятности, хотя Бересь пытался из него их выудить. Он вспоминал, что от Пшемысля персонал поезда был уже «точно польским» (хотя неизвестно, откуда он может это знать, если на протяжении всего путешествия не видел этот персонал в глаза – в этом вопросе уверенность Лема разминулась с мнением историков).
Почему горемыки, перебивающиеся на вокзале в Бытоме, не сделали то же, что и Лемы, – не вышли раньше в Кракове? Потому что надеялись на немецкие квартиры, на которые не могли рассчитывать в перенаселённом Кракове. В то же время Лемов уже ждал дом на улице Силезской, 3.
Откуда взялась эта квартира? Лем описывает её как квартиру «мужа нашей подруги» (Фиалковскому), «пани Оли[101]101
В интервью Лем называет её «пани Оля»; Витольд Колодзей (разговор от 5.02.2016 в Кракове) уточняет, что это сокращение от Ольги.
[Закрыть] – бывшей «белой» русской, нашей близкой подруги. По-польски говорила с русским акцентом», а Лемы встретили её в поезде (Бересь). Я предполагаю, что было всё наоборот: эта пани Оля была «женой их друга», а конкретно – друга Самюэля Лема.
Вот поэтому в этой истории снова появляется семья Колодзеев, о которой я писал в предыдущем разделе. Эта пани Ольга, вероятно, была арийской пассажиркой дрожек, когда они спасали Лемов с улицы Бернштайна. Знакомство Лемов с Колодзеями произошло раньше, чем обе мировые войны, как мне это описывал Витольд Колодзей. Его дед Кароль родом из городка Стрый под Львовом. Он был ларингологом так же, как и Самюэль Лем, и так же, как и он, попал в русский плен после капитуляции Пшемысля.
Судьба Кароля Колодзея сложилась иначе. Если Самюэль Лем оставил во Львове невесту и после революции сразу же отправился через всю страну, охваченную гражданской войной, чтобы жениться на ней, – то Колодзей влюбился в россиянку, именно в пани Олю. Он осел в Орске и отложил возвращение в страну. Между Орском и Львовом пролёг польско-большевистский фронт, поэтому он вернулся (вместе с женой) лишь в 1922 году.
Лемы и Колодзеи подружились во Львове. Глав обеих семей объединяло общее военное прошлое и страсть к бриджу и другим карточным играм. Колодзеи принадлежали[102]102
Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.
[Закрыть] к кругу знакомых, с которыми родители Лема ездили в воскресенье «за город – платили пошлину за шлагбаум», чтобы «за шлагбаумом в направлении Стрыя, при Стрыйском шоссе» остановиться в саду «ресторации пана Руцкого», чтобы «резаться в картишки»[103]103
Stanisław Lem, Zapach minionego, w: tegoż, Lube czasy, Kraków: Znak, 1995.
[Закрыть].
Мечислав Колодзей (сын Кароля, отец Витольда) был ненамного старше Станислава Лема. Небольшой разницы в возрасте хватило, чтобы их военные судьбы оказались совершенно разными. В 1938 году его зачислили в военное училище. Он должен был вернуться летом 1939 года, но ввиду надвигающейся войны отменили все увольнения.
Пакт Молотова – Риббентропа, хотя для Польши как страны он был драматическим несчастьем, в каком-то смысле спас жизнь Мечиславу. Из подобных ему курсантов резерва поспешно был сформирован отряд, который не имел никакой реальной боевой ценности – на роту солдат приходился один автомат. Если бы немцы оказались с ними на поле боя, то перестреляли бы их, как уток. Однако немцы прекратили наступление, прежде чем подошли к их позициям. После 17 сентября уже стало известно почему. Военному подразделению Мечислава Колодзея осталось только пересечь венгерскую границу, где их интернировали. В Венгрии он провёл остаток войны[104]104
Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.
[Закрыть].
Кароль Колодзей в Краков переселился в начале войны и успел там неплохо устроиться, про что Лем рассказывал Бересю (постоянно избегая имён и фамилий). «Он стал работать на фабрике конских скребков и каждое воскресенье ходил на скачки. Он вёл достаточно роскошную жизнь. Это он приготовил нам помещение на Силезской, дом 3, квартира 2».
Эта квартира, как я думаю, ждала Лемов давно. Военные друзья поддерживали между собой связь. Поэтому это не было случайной встречей Лемов с «пани Ольгой с дочерью» в поезде, а всё наоборот: это давно спланированная с её мужем совместная операция.
Если бы Лемы переехали в Краков раньше, то им не нужно было бы оплачивать разных хозяев львовских конспиративных квартир, типа «семьи Подлуских». Может быть, им удалось бы сохранить больше денег. В чужом городе им не нужно было скрываться – они могли со своими фальшивыми документами спокойно гулять на Плантах, без страха, что их узнает случайный вымогатель.
Моя гипотеза такова, что настойчиво возвращающаяся обида на отца о позднем отъезде связана на самом деле с отказом от предыдущих приглашений Колодзеев. Замечу, что это только гипотеза: когда я её представил Витольду Колодзею, он сказал, что не может её ни подтвердить, ни опровергнуть. Такое приглашение могло появиться раньше, но мы никогда не узнаем, так ли это было.
В любом случае эта гипотеза объясняет несколько загадок, прежде всего вопрос обиды за «позднюю репатриацию». И не было бы разговоров о том, как много людей неправильно поняли, что Лемы выехали лишь в 1946 году, а только о том, почему не выехали, например, уже в 1941 году. Это бы тоже сразу прояснило причины, по которым Станислав Лем скрывал эту проблему за какой-то странной полуправдой. Честно говоря, это раскрыло бы роль, которую семья Колодзеев сыграла в спасении семьи Лемов.
В конце концов, лишь с недавних пор мы можем в Польше открыто говорить о том, что польские «Праведники народов мира» предпочитают не раскрывать своего героизма. Если бы пани Ольга публично рассказала о своей смелой поездке на дрожках, то могла бы привлечь к своей семье интерес «искателей еврейского золота», о которых Лем с горечью рассказывал Фиалковскому. Ведь тогда сразу бы кто-то подумал: «интересно, сколько ей за это заплатили». А кто-то: «интересно, где она это прячет». А в ПНР, как вспоминает Борис Ланкош в гротескном фильме «Реверс», сокрытие хотя бы одной золотой монеты считалось преступлением.
Придерживаясь этой нумизматической метафоры: всё время в ПНР мы не могли искренне говорить ни об аверсе, ни об реверсе укрывательства евреев – ни о подлости шпионов, ни о благородстве «Праведников». Раньше или позже эти разговоры завёл бы в тупик вопрос о проклятом еврейском золоте.
У меня снова нет сильных аргументов в пользу своей гипотезы. Есть только сильное предчувствие, что обида Лема на отца за поздний переезд должна была иметь какие-то основания, о которых Станислав Лем не хотел говорить публично. А ведь у него не было причин для такой обиды – по сути, все решения Самюэля Лема оказались верными. На каждом этапе этой беспощадной игры, которую евреям навязали немцы, отец выбирал лучшие из возможных стратегий. Он доверял правильным людям, избегая фальшивых надежд. Летом 1941 года недостаточно было иметь деньги и связи, много богатых и влиятельных евреев погибло либо в погромах, либо в последних операциях. Не все взяточники имели эту своеобразную этику, которой руководствовался Кремин, – если ему платили за охрану, то он, по крайней мере, охранял. В конце концов, самым простым сценарием для действительно деморализованного человека было взять деньги с еврея и тут же убить или сдать его. И, к сожалению, таких людей хватало.
В здравом рассудке Станислав Лем должен был восхищаться решениями отца. Я, например, восхищаюсь, воссоздавая их спустя много лет. И он мог бы это восхищение высказать Бересю или Фиалковскому, как-то по-своему кружить в полуправде, не касаясь еврейской проблемы. Вместо этого мы слышим жалобы, что отец слишком долго ждал. Как это объяснить? Возможно, на это накладывается другая семейная ссора. Лем ещё раньше повторял, что ему не нравится медицина. Он выбрал её из-за настояний отца (который сам стал врачом под напором своей семьи). А Гитлер и Сталин как-то сговорились, чтобы Львов захватить летом, из-за чего Лему не удалось избежать ни одной экзаменационной сессии.
Отъезд из Львова удалось бы ускорить на месяц или два, но это означало бы для Лема пропуск летней сессии. Как он вспоминал Фиалковскому, она была исключительно сложной, потому что по какой-то неизвестной причине украинские преподаватели намеренно хотели «завалить» его.
Будучи амбициозным студентом, Лем не мог такого допустить, поэтому эта сессия стала для него вызовом. Преподаватель химии, некий доцент Собчук, так долго спрашивал Лема, пока не нашёл какой-то пробел в его знаниях и с удовольствием поставил ему четвёрку вместо пятёрки, несмотря на то что он выучил «толстый учебник органической химии Абдергальдена почти наизусть». Однако он не помнил что-то про «вещества, вырабатывающиеся в мозгу определённого вида китов».
В тот самый период Лем написал работу «Теория функции мозга». Я держал в руках эту рукопись и, честно говоря, ужаснулся. Работа выглядела как псевдонаучный трактат самозваного гения, который хотел написать научный текст, но имел только призрачное понятие о том, как такая работа должна выглядеть. Например, он знал, что в работе должен появляться время от времени какой-то график, поэтому украшал свои выводы кривыми, в которых неизвестно было, что на какой оси находится.
После прибытия в Краков Лем продолжил изучать медицину, только искал какого-то настоящего учёного, который оценил бы его гениальную работу. Так он попал к доктору Мечиславу Хойновскому (1909–2001), что было для нас чрезвычайно удачным стечением обстоятельств.
Лем описывает Хойновского как человека компульсивного, который всегда говорил всю правду в лоб, неспособный или просто не желающий ходить вокруг да около условностей, – «правдолюб», как Лем лаконично это обозначил. Доктор оценил «Теорию функции мозга» как полную чушь, но, видя запал и образованность двадцатидвухлетнего студента, пригласил его сотрудничать в возглавляемых им науковедческих лекториях, в рамках которых молодые ассистенты Ягеллонского университета навёрстывали отсталость от мировой науки.
«Хойновский оказал влияние на всю мою жизнь», – вспоминал Лем Бересю, а Фиалковскому добавлял: «Хойновскому я обязан своим самым важным научным образованием». Благодаря участию в лекториях Лем понял, как работает наука, – это знание отличало его как писателя science fiction от большинства его коллег по цеху и дало нам такие шедевры, как «Солярис» или «Глас Господа». Хойновский отругал Лема за незнание английского, объясняя ему, что это лишает его возможности читать важнейшие публикации. Что он блестяще наверстал, прогрызаясь со словарём в руках через рекомендованные книги. Как самоучка Лем обычно произносил английские слова на польский манер (например, «Прин-ци-тон», вместо Принстон), он овладел языком зрительно, а не на слух.
Хотя Лем формально был студентом третьего курса, Хойновский взял его на полставки как сотрудника издаваемого при лекториях ежемесячника «Życie Nauki». Заданием Лема было вести обзор научной прессы, которую по просьбе Хойновского присылали американские и канадские учебные заведения. Лем получал за это пятьсот злотых в месяц, что имело большое значение для семейного бюджета. Лемы сначала жили бедно. Даже несмотря на то, что Самюэль Лем должен был уйти на заслуженную пенсию ещё десять лет назад, он всё ещё продолжал работать в больнице.
Наверняка Лемам лучше было в квартире на Силезской, чем на вокзале в Бытоме, но и в Кракове условия оставляли желать лучшего – особенно в свете сегодняшних критериев. Эта квартира была (а собственно, и сейчас есть) двухкомнатной. Что, правда, у неё очень хорошая локализация в центре Кракова, везде оттуда близко, но кроме этого у неё мало преимуществ. Первый этаж, окна выходят на задний двор-колодец, и ужасно тесно, в таких условиях ютились Лемы и Колодзеи. У Станислава Лема не было собственной спальни, не говоря уже о кабинете. Он занимал так называемую нишу, или что-то, что сейчас назвали бы пристройкой, немного большей, чем шкаф, но решительно меньше, чем комната. В той нише ночами он продирался через «Кибернетику» Винера или «Теорию информации» Шеннона с английско-польским словарём, чтобы составить краткий обзор для «Życia Nauki».
Сама возможность зарабатывания таким образом пятисот злотых ежемесячно привела к тому, что Лем окончательно оставил мечты о какой-либо другой карьере, которую он начал ещё во Львове. В Rohstofferfassung он научился сварочному делу и резке ацетиленом.
В послевоенной Польше это позволило бы ему зарабатывать сразу две тысячи злотых, без каких-либо обучений и сидения над книгами по ночам. Если бы Лем взялся за это с такой же энергией, с какой он сотрудничал с Хойновским, то быстро бы стал начальником цеха и на какое-то время улучшил бы финансовое положение.
Родители были расстроены его планами бросить медицину. Мама до конца жизни, когда Лем уже стал писателем, которого издавали во всех уголках земли, укоряла его из-за этого решения. Как бы она отреагировала на его выбор стать сварщиком? К счастью, это неизвестно, благодаря Хойновскому.
Лекторий проводился в частной квартире доктора, на улице Словацкого, «меньше чем в минуте ходьбы с Силезской». В своей предыдущей книге про Лема[105]105
Wojciech Orliński, Co to są sepulki? Wszystko o Lemie, Kraków: Znak, 2007.
[Закрыть] я выдвинул гипотезу, что Хойновский является образцом большинства гениально-безумных учёных в прозе Лема. Тарантога, Донда, Троттельрайнер, Коркоран, Сарториус, Зазуль и Влипердиус имеют много общих черт. По правде, это один и тот же герой под разными фамилиями, властный и правдолюбивый, склонный к языковым архаизмам. На фоне других гипотез, которые представлены в этой книге, эта мне кажется достаточно обоснованной.
Каким-то чудом Лему удалось совмещать сотрудничество с Хойновским не только с обучением, но также с литературным увлечением. На самом деле это было не чудо, а только бессонные ночи. Творческие стремления привели его к встрече с другим человеком, о котором он говорил, что тот его «направил, сформировал»[106]106
Stanisław Lem, Żegluga, w: tegoż, Krótkie zwarcia, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004.
[Закрыть], – Ежи Турович, легендарный редактор еженедельника «Tygodnik Powszechny».
Хойновский помог Лему понять науку. Турович – всё остальное. В погружённой в сталинское безумие стране Лем нашёл двух учителей, которые направили его интеллект в сторону независимых поисков на свой страх и риск.
Почему Лем сильно отличался как от других писателей science fiction в мире, так и от писателей в Польше en masse? Потому что его сформировали другие книги. Он читал то, что рекомендовали ему Турович и Хойновский, и поэтому он был лучше, чем обычный польский писатель, ориентирован в мировой науке, а также в гуманитарных науках в отличие от писателей science fiction.
Как хорошо, что Лемы перебрались в Краков, а не в Катовице или во Вроцлав! Во Вроцлаве, возможно, Лем и встретил бы кого-то такого, как Хойновский, но вряд ли бы он нашёл там среду, что напоминала редакцию «Tygodnik Powszechny».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!