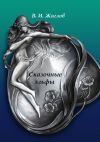Текст книги "Лем. Жизнь на другой Земле"

Автор книги: Войцех Орлинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определённые, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках – различные виды чековых книжек и векселей, равносильных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни. Изготовлял паспорта правителей, подтверждал подлинность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый по первому требованию мог предъявить документы, удостоверяющие его личность, в поте лица рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, прилагал к ним полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нём пучину».
Здесь, в свою очередь, видны начала параюридической фантастики Лема, всех тех рассказов, в которых Трурль побеждает плохую комету, используя «метод дистанционный, архивный, а потому ужасно противный»[20]20
Цит. по «Путешествие Пятое А, или Консультация Трурля», из «Кибериада», пер. с польск. А. Громовой.
[Закрыть] (то есть засыпая её сообщениями типа: «Ваша задержка, как противоречащая параграфу 199 постановления от 19.XVII текущего года, представляя собою ментальный эпсод, приводит к прекращению поставок, а также к десомации»), или в которых парламентарии при использовании «закона Макфлакона – Гламбкина – Рамфорнея – Хмурлинга – Пьяффки – Сноумэна – Фитолиса – Бирмингдрака – Футлея – Каропки – Фалселея – Гроггернера – Майданского» стараются урегулировать юридические последствия действий стиральных машин с искусственным интеллектом. Вначале была детская рефлексия: как же так получается, что иногда медицинские дипломы выдаются под патронатом императора Франца Иосифа, а иногда – президента Речи Посполитой Польши, и кто или что, собственно, принимает это решение (в империи документов этот единственный вопрос оставался открытым – Лем никогда не изготовил окончательного документа, дающего всевластие: даже удостоверения, выдаваемые императором, давали полномочия как максимум взять из сокровищницы конкретное количество «бриллиантов размером с голову» и ничего большего).
Хотя Лем свои воспоминания детства, записанные Фиалковским, начинает с заявления: «Я охотно признаю, что не совсем нормальный», я сказал бы, что из этих описаний выплывает абсолютно нормальная картинка детства сообразительного ребёнка. Конечно, эксцентричного, конечно, плохо воспитанного, но кто должен был его воспитывать, если у родителей просто не было на это времени?
В крохах воспоминаний Лема поражает то, что родители не делали ничего непосредственно созданного для радостной, совместной игры с ребёнком. Лем писал, например, что наряжал ёлку вместе с уже упоминавшейся учительницей французского[21]21
Stanisław Lem, Moje choinki, «Przegląd», 16 grudnia 2002.
[Закрыть]. Почему не с родителями? Не хотели присоединяться к этому действу из-за еврейского происхождения? Но без их согласия в доме вообще бы не было ёлки (эта традиция всегда была сильно секуляризована). Даже если сделать поправку на то, что тогда по-другому трактовали родительство, чем сейчас, отсутствие воспоминаний про общие игры с родителями выглядит странно, тем более что ничего не указывает на то, что Станислав Лем был нелюбимым ребёнком или заброшенным. В любом случае это вполне объясняет проблему плохого воспитания (а собственно – его отсутствия).
Эти три больших увлечения, доминирующие в «Высоком Замке» – сладости, изобретательство и бюрократия, – не являются чем-то экстраординарным или исключительным. С той лишь разницей, что мальчики, фантазирующие о несуществующих странах, чаще придумывают карты, названия городов или имена правителей, чем их обязательства выдать предъявителю кучу рубинов, но чем это на самом деле отличается хотя бы от детских мечтаний Люка Бессона (которые он потом использовал для сценариев своих фильмов)?
Остальные детские игры и увлечения уже кажутся нормальными. Лем, мальчиком, любил пускать «блинчики» по воде, заниматься спортом (ездил с мамой на лыжные галицийские курорты), влюблялся в разных представительниц женского пола, в частности в служанку, в прачку, учительницу и таинственную девушку, которую он увидел издалека в Иезуитском парке.
Из нескольких заметок мы можем также додумать, что его боготворили тётки и дяди. И доктор Самюэль Лем, называемый среди родственников «Лёликом»[22]22
Аnna Mieszkowska, Ja, kabareciarz. Marian Hemar od Lwowa do Londynu, Warszawa: Muza, 2006.
[Закрыть], и его жена Сабина имели богатую социальную жизнь. Может, поэтому им не хватало времени на воспитание сына?
И тут мы доходим до главной загадки «Высокого Замка», или до остальной семьи Лема. Даже когда мы узнаем имена его тёток и дядь (не всегда так происходит), их описания ужасно неточные. Больше всего мы узнаём про «тётку с улицы Ягеллонской», сестру Самюэля Лема. Это Берта Хешелес из дома Лехм. Она не настолько полонизировалась, как её брат; её сын Генрик Хешелес был умеренным сионистом, в отличие от тех евреев, которые ассимилировались в Польше, но пропагандировал идеи сохранения еврейской обособленности.
Другой родственник, младший брат матери, также появляется в «Высоком Замке» безымянным, но описан с большой сентиментальностью и симпатией. Будучи богатым врачом, он часто финансировал Сташеку покупки запчастей и механизмов для его экспериментов. В интервью Фиалковскому Лем говорил, что дядя погиб в массовом убийстве львовских профессоров, «хотя он был обычным врачом». С большой вероятностью можно установить его личность: это доктор Марек Вольнер[23]23
Лемолог Виктор Язневич установил по документам того времени, что упоминаемого здесь и далее (а также в книге Агнешки Гаевской) доктора Марека Вольнера на самом деле звали Гецель Вольнер. – Прим. ред.
[Закрыть]. Лем никогда так и не узнал, что современные историки идентифицировали его дядю как жертву не убийства профессоров, а «петлюровского погрома» (25–27 июля 1941)[24]24
Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy… op. cit.
[Закрыть], который не следует путать с «убийством заключённых» (1–2 июля 1941), когда погиб Генрик Хешелес.
Почти все «тёти и дяди» из «Высокого Замка» погибли во Львове или в концлагере в Белжеце. Воспоминание про их судьбу причиняло Лему очевидную и понятную боль. Кроме того, о большинстве из них он не мог говорить открытым текстом – Гемар, его двоюродный брат, был запретной темой, как и львовские погромы, да и сам Львов был темой, которую цензура ПНР неохотно пропускала.
Этот раздел мы закончим образом человека, который ещё даже не думает, что станет знаменитым писателем или будет изучать медицину. Лето 1939 года. Сташек Лем с надеждой ожидает прихода взрослой жизни. Он сдал экзамены и уверен, что будет учиться в Львовской Политехнике, потому что машины являются его жизненным увлечением.
Правда, с 1938 года учебное заведение ограничивает количество студентов еврейского происхождения, но Лем надеялся, что в качестве исключительно способного абитуриента справится со всеми трудностями.
Только что полученные водительские права в зелёной обложке говорят о том, что владелец этого документа имеет права на вождение только как любитель. Этого достаточно, ведь он никогда не хотел быть профессиональным водителем. Отец профинансировал его курсы и, может быть, когда-то купит ему автомобиль. Правда, здоровье отца начало сдавать, уже пару лет его донимает ишемическая болезнь сердца (стенокардия)[25]25
Станислав Лем, письмо к Владиславу Капущинскому от 30.08.1973.
[Закрыть], он уже не может работать как раньше, но зато инвестиции с недвижимости приносят семье плоды, и Лемы могут жить только с аренды.
Сташек мечтает о собственном автомобиле. Старший на двадцать лет брат Гемар иногда приезжает из Варшавы во Львов на американском лимузине марки Nash, раньше он участвовал в гонках по львовским улицам, и что с того, что он занял предпоследнее место, зато сидел за рулём настоящего Bugatti!
Летом 1939 года почти все говорили о войне, но кого во Львове это волновало. Немцы далеко, пока сюда доберутся, наши союзники откроют второй фронт за Рейном. Лем прошёл военную подготовку, поляки сильные, сплочённые и готовые к войне, а кроме этого безопасность гарантирована международными пактами.
Действительно, у будущего инженера Лема не было повода для опасений в этом бетонном, нерушимом, богатом и спокойном городе. Он часто гуляет по известным львовским торговым пассажам. По пути к пассажу Хаусмана его манит интригующая реклама: «Счётная печатная машинка «Burroughs» – складывает и отнимает автоматически!» Рекламу можно прочитать и сегодня, хотя сейчас пассаж носит имя «Кривой Липы» в честь липы, которая выросла посредине. К слову, совпадение в имени не является случайным – известный писатель Уильям С. Берроуз II[26]26
На самом деле писатель был внуком изобретателя, но дед больших денег заработать не сумел и практически ничего не оставил в наследство своей семье. – Прим. ред.
[Закрыть] был сыном изобретателя и конструктора этих машинок, Уильяма С. Берроуза I, и, собственно, семейное состояние позволяло ему вести эксцентричный образ жизни.
Интересующийся техникой Сташек не мог не обратить внимание на эту рекламу. А если обратил, то доморощенный изобретатель машин, зарисованных в «тетради идей», не мог не задуматься над секретами этого изобретения. Самосчётная машинка, которая прибавляет и отнимает автоматически! Это так, словно она сама думает!
Кто знает, может, в сенях пассажа Хаусмана в воображении Станислава Лема появился первый зародыш сюжета science fiction, хотя он ещё даже не знал, что существует такой вид литературы.
II
Среди мёртвых
В предыдущем разделе я описывал, как тяжело мне было понять мечты и надежды доктора Самюэля Лема сто лет назад. Страх и страдания, которые были уделом семьи Лема во время трёх наступающих по очереди оккупаций Львова, для меня стали ещё более непонятными.
Я принадлежу к тому поколению поляков, которые пережили позитивные исторические сюрпризы. Нас воспитывали в ожидании очередной войны или восстания, которые (постучим по дереву) не наступили. Вместо этого мы могли жить так, как хотел жить Самюэль Лем, – работать, складывать копейку к копейке и баловать детей сладостями и игрушками. Мы говорим «кошмар», когда в отеле теряют бронь. Мы говорим «испытание», когда затягиваются формальности в госучреждениях. Но мне не хватает понятийного аппарата, чтобы описать тот ужас, что пережила семья Лема. Однако за это описание я всё же берусь, поощрённый словами самого Лема, который утверждал, что «способностей человеческого воображения абсолютно недостаточно, чтобы понять, что это значит, когда в газовые камеры загоняют сотни тысяч, миллионы людей, а потом крюками вытаскивают их тела и сжигают в крематориях»[27]27
Stanisław Lem, Zagłada i jej uwertura, w: tegoż, Lube czasy, Kraków: Znak, 1995.
[Закрыть].
В семье Станислава Лема, кроме его родителей, выжил только Мариан Гемар, который в сентябре 1939 года сделал то, что мой презентизм подсказывал бы как единственно верное решение: сел в автомобиль и погнал по шоссе в Залещики. Самюэль Лем с семьёй принял решение остаться в городе. Причины легко понять.
Ему было шестьдесят, и он уже болел. В 1936 году врач, который выявил у него стенокардию, порекомендовал ему избегать стресса и перенапряжения, и даже не наклоняться, чтобы завязать ботинки[28]28
Stanisław Lem, Powrót do prajęzyka?, w: tegoż, Lube czasy, Kraków: Znak, 1995.
[Закрыть]. Путешествие в таком состоянии может закончиться для него трагически, даже если это будут комфортные условия, а не мучения военных беженцев в колоннах, что составляли лёгкую цель для немецких самолётов.
Какое-то влияние на решение остаться могло оказать и то, что Самюэль Лем был австрийским офицером. Во время Первой мировой войны он служил в ранге имперско-королевского обер-лейтенанта, это аналог поручика в медицинском корпусе. Возможно, как и большинство поляков, в сентябре 1939 года он не боялся немцев так сильно, как должен был: ещё двадцать пять лет назад в немецкой армии он видел армию союзника. Немецкие солдаты отдавали бы ему честь как старшему по рангу. А от немецких офицеров он ожидал, что они будут джентльменами, как и он.
Удивление жестокости этих джентльменов можно увидеть во многих мемуарах того времени. Ванда Оссовская[29]29
Wanda Ossowska, Przeżyłam… Lwów – Warszawa, 1939–1946, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.
[Закрыть], медсестра-волонтёрка, описывает, например, изумление, когда немецкие лётчики игнорировали обозначенные знаками Красного Креста госпитали, согласно Женевской конвенции, которую принципиально соблюдали во время Первой мировой. До персонала госпиталя с опозданием дошла страшная истина, что те знаки не только не охраняют от немецкой бомбардировки, а, наоборот, являются целью для пилотов.
Первые бомбы упали на Львов 1 сентября в одиннадцать тридцать. В первый же день погибло семьдесят три человека, сто получили ранения[30]30
Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 1 IX 1930–5 II 1946, Katowice: Unia, 2007 – если не указано другого, то далее даты и факты, касающиеся военного Львова, подаются по этому источнику.
[Закрыть]. Станислав Лем описывает Фиалковскому, что видел фургон, вывозящий трупы:
«Я стоял на балконе на Браеровской, парень после школы, и видел, как по нашей улице проехал фургон с наваленными горой трупами. Тогда я в первый раз видел трупы. Помню дрожащие от встряски фургона тела, бёдра женщин, убитых немецкой бомбой».
Балкон на Браеровской быстро перестал быть безопасным убежищем, с которого молодой Лем мог наблюдать за террором войны. Он стал точкой обороны Львова. Маленькая топографическая заметка: Браеровская является переулком, что отходит от улицы Городоцкой[31]31
Современное название улицы.
[Закрыть], широкой артерии, ведущей в направлении Городка. Нумерация начиналась от Городоцкой, так что каменица Лема под номером 4 была первым зданием за углом. Из этого следует – балкон каменицы хорошее стратегическое место для пулемёта. Потому защитники Львова в начале войны осадили каменицу Лемов. Помещение вместе с балконом стало укреплённой огневой точкой. «Я посидел немного с теми солдатами внизу, держа ручку сирены ПВО, а они давали нам зерновой кофе с сахаром», – вспоминал Лем в разговоре с Фиалковским.
Вскоре это положение оказалось выгодным, потому что немцы вторглись во Львов именно по улице Городоцкой. 12 сентября механизированная группа Шёрнера, отделившаяся от первой горно-егерской дивизии вермахта, обошла польские укрепления и атаковала город с тыла. Её удалось оттеснить после жестоких битв. Лем о них не вспоминает. Возможно, тогда он уже не жил на Браеровской, только на Сикстуской (сейчас улица Петра Дорошенко), у дяди Вольнера, к которому вся семья временно переселилась.
В это время 8 сентября из львовских кранов перестала бежать вода[32]32
Zbigniew Domosławski, Mój Lwów. Pamiętnik czasu wojny, Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie, 2009.
[Закрыть]. 14 сентября прекратилась подача газа, а 20 сентября погас свет[33]33
Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne, Warszawa: Książka i Wiedza, 2000.
[Закрыть]. Для Самюэля Лема это была уже третья осада в его жизни.
Если верить тому, что Станислав Лем рассказывал Бересю и Фиалковскому, тогда он ещё не чувствовал никакой непосредственной угрозы. Он больше беспокоился о Польше, чем о собственной безопасности, потому что крах государственных структур сопровождался волной грабежей и убийств. «Отец тут же повёл меня в магазин на площади Смолки, который был уже почти пуст и разграблен, но его владелец вытащил из какого-то закутка плащ в мелкую клетку. Это было очень мудрое предприятие, потому что после ничего приличного купить уже было невозможно» – так Лем описал Бересю последние покупки в польском магазине.
18 сентября на подступах ко Львову появились первые советские войска. Население и защитники не знали, как это воспринимать. Некоторые думали, что Советский Союз вторгся, чтобы помочь Польше в битве с Германией – пакт Молотова – Риббентропа, согласно которому оба сумасшедших диктатора поделили между собой Восточную Европу от Румынии до Финляндии, был тогда ещё тайной. К удивлению польских защитников, 20 сентября немцы начали сдавать свои позиции русским, которые имели значительный перевес. Немцы атаковали Львов силами одной горной дивизии, русские ввели на эту территорию Восточную группу войск, что включала три дивизии кавалерии, две пехоты и три танковые бригады вдобавок. Дальнейшая оборона города не имела смысла.
Львов капитулировал 22 сентября в пользу русских – не немцев, что имело драматические последствия для офицеров и солдат, которые попали в плен. Формально это не называлось пленом, только интернированием, потому что СССР и Польша не находились в состоянии войны. Русские обещали полякам, которые сдавались, что после капитуляции отпустят их, и в определённом смысле их, конечно же, отпустили, хотя потом попытались всех поймать. Те, кто не убежал сразу, когда это было ещё возможным, были убиты во время катынского расстрела.
Восемнадцатилетний Станислав Лем наблюдал за капитуляцией из квартиры дяди на Сикстуской. Он описывал это Фиалковскому как «своё самое ужасное переживание», что является удивительно сильным словом, если сравнить с тем, что он уже пережил в течение первых трёх недель войны (и что его ещё ожидало). Ведь в этой сцене не было ничего драматического. Русские, которые в воспоминаниях Лема имели «монгольские лица», просто разоружили польских солдат и сказали им «пашли вон»[34]34
Это, кстати говоря, общее для других свидетельств вхождения русских во Львов – рефреном возвращается в этих описаниях удивление жалким видом победителей и их чертами лица, описываемыми как «монгольские» или «калмыцкие».
[Закрыть]. Те покинули Цитадель (к которой из центра города вела улица Сикстуская) нестройной колонной. Он вспоминал:
«Они приказали нашим снять портупею, оставить всё, оружие и коней, и уходить. Это было страшно: видеть, как Польша пала, видеть это в реальности. Это страшней, чем проигранная битва, потому что всё происходило в какой-то гробовой тишине: все стояли молча и плакали, я тоже в арке под двадцать девятым домом».
Так началась первая из трёх оккупаций в жизни Станислава Лема. Он описывал это как смесь ужаса и гротеска. Советские оккупанты были культурно ниже львовских жителей. Первый раз в жизни они видели капиталистические магазины, элегантные рестораны и даже ванные с проточной водой, но коммунистическая идеология не позволила им в этом признаться.
Популярным львовским развлечением в то время было втягивание русских шутки ради в разговоры о том, что в Советском Союзе есть всё – и разумеется, лучше, больше и прекраснее, чем во Львове. Лем вспоминал это так: «А ископаемая шерсть у вас есть?», на что каждый русский отвечал автоматически: «Конечно, есть».
Ванда Оссовская[35]35
Wanda Ossowska, Przeżyłam… op. cit.
[Закрыть] и Каролина Лянцкоронская[36]36
Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Kraków: Znak, 2007.
[Закрыть] эту же шутку описывали так: «А у вас есть Копенгаген?» – «Да, конечно, у нас есть много копенгагена». Барбара Менкарская-Козловская[37]37
Barbara Mękarska-Kozłowska, Burza nad Lwowem, Warszawa: Polska Fundacja Kulturalna, 1996.
[Закрыть], в свою очередь, цитирует другой диалог, в котором после толковых вопросов типа: «А лимоны у вас есть?», львовяне переходили к вопросам: «А холера у вас есть?», смеясь над русскими, которые механически кивали и на всё отвечали: «Да, есть».
Русские накинулись на львовские магазины. Офицеры старались вести себя культурно и даже платить, но совершались и регулярные грабежи. Общим было удивление оккупантов товарами, которые они впервые в жизни видели и не знали, для чего они нужны.
Лем с удовольствием вспоминал, как русские пытались есть косметику или нафталиновые шарики, потому что те выглядели аппетитно и иногда даже хорошо пахли, поэтому они принимали их за сладости. В других интервью я прочитал о первом контакте красноармейцев с детскими погремушками, зубными щётками и сантехникой. Львовян смешили жены русских командиров, щеголявшие по городу в шёлковых ночных сорочках, которые они принимали за вечерние платья.
Русские также интересовались врачами, что оказалось очень важным для семьи Лема. Медицина в СССР была, как и всё, на низком уровне. Приезжающие во Львов чиновники, военные, убэшники[38]38
От УБ – управление безопасности.
[Закрыть] хотели лечиться сами и лечить своих родных у польских врачей, потому те оказались в привилегированном положении. Поляков часто выселяли из дорогих квартир, чтобы освободить помещения для высокопоставленных чиновников, но «жилплощадь врачей была неприкосновенна», вспоминает Лянцкоронская. Как максимум к ним могли кого-то доквартировать, но на вполне цивилизованных условиях.
Так случилось и с Лемом. К ним подселили энкавэдэшника по фамилии Смирнов, который вёл себя со своими хозяевами не как оккупант. Когда он появился на Браеровской впервые, Сабина Лем выставила его за двери. Вместо того чтобы ворваться в квартиру силой, Смирнов просто вежливо подождал, пока доктор Самюэль Лем вернулся с работы и объяснил жене это недоразумение.
До конца сентября новые квартиранты, такие как Смирнов, появились в тысяча четырёх квартирах, переданных в распоряжение Красной армии и НКВД[39]39
Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.
[Закрыть].
Обычным делом было просто выбрасывание на улицу бывших владельцев квартир, тем более что те, у кого были дорогие жилища, по сути считались «классовыми врагами».
Во второй половине декабря дошло до массовой национализации львовских камениц.
Вместе с недвижимостью у жителей забирали также большое и малое движимое имущество, от бижутерии до фортепиано. Жертвы конфискаций взывали к советской конституции, которая защищала такие формы собственности. Им отвечали, что конституция защищает только на тех территориях, на которых царит порядок, а во Львове его ещё не навели, так что нет и конституции[40]40
Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, op. cit.
[Закрыть].
Лемам очень повезло со «своим» энкавэдэшником, который довольствовался лучшей комнатой на Браеровской – гостиной, в которой не так давно маленький Сташек строил манекены из отцовской одежды и конструировал экспериментальные машины. Когда Смирнов убежал из Львова перед наступлением немецких войск, семья зашла в комнату и нашла там много страниц со стихами, написанными от руки, которые Лем не успел прочитать. Тогда у него были другие дела.
Первую советскую оккупацию семья Лемов перенесла довольно безболезненно, вероятно, потому, что Самюэль Лем много лет назад выбрал карьеру врача, отказавшись от литературных увлечений. Возможно, он так поступил из-за родителей, так, по крайней мере, вспоминал Станислав Лем. Если это правда, это повторилось и в следующем поколении.
Станислав Лем мечтал учиться во Львовской Политехнике, и война этого не изменила. Только советская оккупация сделала его планы нереальными – из-за его буржуазного происхождения его не приняли в университет. Отец использовал свои связи на факультете медицинского университета Яна Казимира, чтобы зачислить сына в ряды студентов первого курса.
Положение львовских учебных заведений под советской оккупацией было настолько сложным, что, с одной стороны, новые власти стремились к быстрой советизации и украинизации университета и политехники; с другой – не хотели упустить шанс подготовки врачей и инженеров в учебных заведениях, которые ещё какое-то время назад считались лучшими в мире.
Потому на многих гуманитарных направлениях были проведены «грязные чистки» в сталинском стиле, теологический факультет просто ликвидировали, но политехника и медицинский до конца советской оккупации оставались в польских руках. Они даже были профинансированы и доукомплектованы. А также был сделан ремонт, который в независимой Польше откладывался бесконечно долго из-за нехватки средств[41]41
Tadeusz Tomaszewski, Lwów. Pejzaż psychologiczny, Warszawa: WIP, 1996 – это воспоминания психолога мировой славы, который всю оккупацию пытался сохранить имущество и защитить сотрудников Университета Яна Казимира. Книга являет собой интересный исследовательский материал, касающийся академической жизни того времени.
[Закрыть].
Однако это не означало, что точные науки полностью избежали террора советизации. Он был ощутимым, хотя немного мягче, если такое сравнение уместно. Были арестованы три профессора (Эдвард Геслер, Станислав Фризе и Роман Ренцкий, этот третий был убит гитлеровцами в бойне львовских профессоров, другие двое пережили войну и создавали науку в ПНР). На факультете права университета Яна Кохановского в Кельцах до апреля 1940 года были арестованы семь профессоров и четыре ассистента[42]42
Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944… op. cit.
[Закрыть].
Чтобы поощрить советских студентов учиться именно во Львове, им платили довольно высокие стипендии и предоставляли бесплатное обучение (во что сейчас трудно поверить, но учёба была бесплатной во Второй Речи Посполитой и платной в СССР)[43]43
Там же.
[Закрыть]. Лем пишет Фиалковскому, что «все студенты первого курса получали стипендию в размере 150 рублей». Историк Гжегож Грицюк пишет, что не все, а только 75 % и это было 130 рублей[44]44
Там же.
[Закрыть]. Так или иначе, Лем на первую стипендию купил себе «трубку Гейслера» (примитивный неон, светящийся разными цветами), это ясно показывает, что пока ещё семья Лема не ощущала нехватки средств.
Про фиаско советизации в университетах точных наук свидетельствует статистика кадров – под конец русской оккупации в медицинском университете работали тридцать польских профессоров и только пять русских. Одним из них был преподаватель физиологии Воробьёв, с которым Лем будучи студентом сотрудничал как ассистент-волонтёр.
Лем вспоминал Фиалковскому про студентов из своего курса как про «дикую смесь» поляков, украинцев и приезжих из российской глубинки. В его воспоминаниях упоминаются «некий Синельников, обвешанный значками типа «Готов к труду и обороне», и «подружка Кауфман», которая «жидлячила» (то есть говорила на практически мёртвом сегодня языке – еврейский жаргон польского языка, из которого сохранились только некоторые шутливые выражения)[45]45
Вообще-то «жидлячить» – это говорить по-польски с еврейским акцентом, а еврейского жаргона польского языка не существует. – Прим. ред.
[Закрыть].
Статистически выглядело так, что на первом курсе медицины было триста сорок студентов (а не четыреста, как Лем сказал Фиалковскому). 48 % составляли украинцы, 32 % – евреи, 16 % – поляки, 4 % – остальные, прежде всего «граждане Советского Союза»[46]46
Там же.
[Закрыть]. Я не могу сказать с полной уверенностью, к какой группе причислен был Станислав Лем, но, скорее всего, не к полякам.
Во многих разных архивах Лем и его семья фигурировали как «евреи» или «еврейского происхождения». В гимназии предмет «религия» был обязательным и Лем изучал заповеди Моисея[47]47
Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
[Закрыть], что было достаточным аргументом, чтобы признать его евреем – с точки зрения и нюрнбергского закона, и национальной политики СССР. Новая власть благосклонно относилась к зачислению студентов непольского происхождения, потому хорошо было предъявить любую бумагу, подтверждающую еврейское или украинское происхождение, – процент поляков в этих документах занижен, хотя всё тут зависит от определения «настоящего поляка».
Это определение – это тема для другой книжки, написанной определённо другим автором, но, глядя на это с сегодняшней точки зрения, я сказал бы, что большинство тех людей были всё ещё гражданами Второй Речи Посполитой. Навязанное им оккупантами гражданство СССР не имело законной силы, аналогично как при обоих оккупациях произвольное разделение польских граждан на «поляков», «евреев» и «украинцев».
Я не собираюсь идеализировать Вторую Речь Посполитую, в ней также делили людей согласно национальным критериям. Во львовских учебных заведениях уже с 1935 года для еврейских студентов вступала в силу система «гетто за партами». Тем не менее во Второй Речи Посполитой существовали пути успешной карьеры для национальных меньшинств. Хотя бы взять карьеру Владимира Питулея, который перед войной был начальником охраны Пилсудского и комиссаром государственной полиции, а в оккупированном немцами Львове он стал начальником коллаборационной украинской вспомогательной полиции, вызывающей ужас среди поляков.
По сегодняшним критериям они все были поляками, что подтверждал паспорт с орлом в короне, независимо от того, какую национальность их заставили выбрать оккупанты в 1939 году. Поэтому я буду в этом разделе использовать такие определения, как «евреи», «поляки» или «украинцы», помня, что все они действительно были гражданами Речи Посполитой Польши, которые ещё летом 1939 года, отправляясь на променад к львовской опере, обменивались любезными поклонами. Разделение их согласно национальным квотам и присуждение этим группам своевольных привилегий – «этих не примем в университет, а тем дадим квартиры» – началось во время советской оккупации и только усилилось во время немецкой. Когда сегодня мы наблюдаем дискуссию типа «евреи против поляков против украинцев», это лишь печальный результат политики двух оккупантов.
Лем не хотел рассказывать про свои еврейские корни, потому его воспоминания о том периоде полны пробелов и увёрток. Во втором издании интервью с Бересем появляется характерный фрагмент, в котором на вопрос, был ли он свидетелем творящегося вокруг истребления польского элемента, ответ Лема полон отступлений и рассказов о советских сладостях (невкусных) и циркачах (совсем неплохих). На это нетерпеливый Бересь восклицает: «Ради бога, расскажите о советской оккупации, а не о выступлениях циркачей!», на что получает в ответ очередное отступление. В первом издании книжки вся эта тема просто отсутствовала[48]48
Stanisław Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.
[Закрыть].
«Истребление» – это не преувеличение. Представителей польской элиты НКВД начал арестовывать сразу после вторжения в город. В ночь с 9 на 10 декабря 1939 года началась первая волна массовых арестов. Было задержано несколько тысяч человек, среди них известные виноделы Стефан и Адам Бачевские, довоенные судьи и прокуроры, а также довоенные премьер-министры (Александр Прыстор и Леон Козловский). В ночь с 23 на 24 января 1940 года провели волну арестов даже среди левых литераторов (среди них – Владислав Броневский), потому что, по мнению Сталина, левые независимые от НКВД хуже, чем правые. Вина всех тех людей состояла исключительно в том, что они принадлежали к польской элите.
В воспоминаниях Станислава Лема эта тема странным образом отсутствует. Я не могу сказать, что ее нет вообще. Мы, например, узнаём, что, когда семья Лемов видела, что Смирнов готовится к очередной ночной вылазке и уходит из дома, они бежали предостеречь близких. Они помогали им прятаться в библиотеке на Браеровской. Только это всё Лем представляет так, словно речь идёт о какой-то игре, а не о непосредственной угрозе жизни (а много поляков, арестованных ночью НКВД, просто исчезали без следа, и даже сейчас мы не всегда знаем точную дату и место их смерти).
Могу только догадываться, что это был какой-то психологический механизм защиты, подобный тому, которым Лем нейтрализовал воспоминания со времён немецкой оккупации. Речь не в том, что он не хотел вспоминать, потому что ничего не помнил, дело в том, что он слишком хорошо все это помнил. Но это только мои домыслы, базирующиеся на хрупких предпосылках – таких, как удивление от факта, что ужас, присутствующий в других львовских воспоминаниях, практически не встречается в рассказах Лема. В равной степени этот парадокс можно объяснить и тем, что изучать медицину довольно тяжело, и к тому же мы имеем дело с амбициозным студентом, который беспокоился не только о хороших оценках, но и о том, чтобы они свидетельствовали о его усердно добытых знаниях.
Показательным является анекдот, который он рассказывал Фиалковскому, про то, как нашлись его документы с двух курсов обучения. Немцы, после взятия города, ликвидировали университет и все бумаги приказали выкинуть на мусорку. Их нашёл «архивариус бернардинцев», который «погрузил их на тачку и перепрятал». Располагая всеми печатями и бланками, он помогал, при случае, студентам «сдать» какой-то дополнительный предмет или даже весь год обучения. Лем отказался от его услуг, а архивариус «смотрел на него как на дурака».
Это всё происходило, когда вокруг Лема уже гибли люди и разворачивались другие драмы. Однако даже в такое время он не забывает про честь польского студента. Неужели учёба захватила его настолько сильно, что он не думал ни про что другое, кроме охоты за сладостями (не было уже халвы, довольствовались популярными в СССР сушёными абрикосами, называемыми урюком) и редкими походами в кино или цирк?
Бересю он рассказывал, что непосредственную угрозу ощутил только раз. Будучи уже студентом, он продолжал своё хобби со времён гимназии – и дальше проектировал машины и танки и фотографировал эти модели. Вопреки запрету отца он отнёс эти фотографии на проявку в салон, и когда вернулся за снимками, его уже ждал кто-то из НКВД, но, к счастью, этот кто-то позволил ему объяснить, что это только невинное детское увлечение. Худшей ситуацией в тогдашнем Львове были беженцы. В 1939 году во Львове находилось несколько десятков тысяч беженцев, которые чаще всего прятались от немцев (но иногда от собственных соседей из охваченной анархией провинции). Часть из них хотела уехать из Львова в Генерал-губернаторство, так как у них там были родственники, а немцев они боялись меньше, чем русских; часть наоборот: Гитлера боялись больше Сталина. Причины могли быть самыми разными: от еврейского происхождения до тоски по близким.