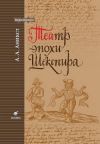Текст книги "Актер и роль в оперном театре"

Автор книги: Всеволод Богатырев
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава II
Структура партии-роли
Выявить структуру объекта значит упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения
Б. Рассел
Важнейшей теоретической проблемой во взаимодействии драмы и музыки является и определение предмета оперного театра. «Драма выбирает в качестве предмета своего изображения именно драматический конфликт, который породило социально-историческое, общественное противоречие и человека – в действенном к нему отношении»[66]66
Катышева Д. H. Вопросы теории драмы. Действие. Композиция. Жанр. СПб., 2001. С. 7.
[Закрыть], а предмет музыки «это лишь внутренний мир человека и только те связи, которые рождаются в этом мире»[67]67
Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. С. 18.
[Закрыть]. Две аксиомы двух разных искусств позволяют сформулировать центральный вопрос исследования: что является предметом для оперного театра?
Логично предположить, что взаимодействие драмы и музыки ведет упорядоченную гармонией стихию звука от внутреннего к внешнему. Столкновение музыкальных тем в симфониях Чайковского – это внутренняя жизнь человеческого духа, тогда как «музыкальный конфликт» в оперном театре приобретает иной, подлинно драматический, то есть пространственно выраженный аспект.
Возникает система лейтмотивов, неразрывно связанных с персонажами музыкальной партитуры, предъявленными нам сценической реальностью. Музыка в опере наделяется словом и перестает быть лишь переживанием чувств. Мелодический тематизм персонифицируется и не только начинает соотноситься с персонажами спектакля, но, что очень важно для дальнейшего определения природы сценического творчества в опере, воспринимается нами единовременно и как внутренняя жизнь героя, и как столкновение характеров, мыслей, идей. Таким образом, сама музыка, структурированная драматической поэзией, и становится несущей конструкцией, зафиксированным, «идеальным образом» будущей сценической роли.
Оценивая феномен распетого, мы вправе предположить, что подобная метаморфоза происходит и с процессом вокализации в реалиях сценического существования певца-актера. Вокальная партия – это не мелодическое построение, лишенное конкретного смысла. Ее средствами выражается конфликт в фабуле спектакля и принципы сценического творчества певца в условиях оперного действа также не могут оставаться в рамках «чистой музыки».
Итак, становясь «музыкальной драмой», текст оперной партитуры, выводит саму музыку из внутреннего во внешнее. За музыкой партитуры следует и певец-актер. Здесь для него и рождается «уравнение со многими неизвестными», – то сочетание, соединение искусств, которое и является его искусством.
Видовые отличия оперного и драматического театров противятся применению единого подхода к предмету исследования, – к самому феномену психотехники певца-актера, ввиду того, что разность соотношений театральной драматургии и драматургии музыкального типа в оперных жанрах очень велика.
Вероятно, ввиду этих сложностей сама возможность и целесообразность единения театра и музыки, образующего феномен оперы, подвергалась сомнению на протяжении всей четырехсотлетней истории этого вида театра: «Принципиальная фальшь оперы как искусственного искусства…атавистические элементы древнего синкретизма…она – искусство прошлого, отчасти настоящего»[68]68
Каратыгин А. Театр и музыка // Театр и искусство. 1915. № 13.
[Закрыть]. В чем кроется причина столь уничижительных оценок возможностей оперных жанров, их значения в истории, теории и практике театра?
Структура оперной роли такова, что соединение вербального и музыкального начал и в оперных жанрах, и в партитурах, созданных в эпоху классицизма, романтизма или реалистической драмы, происходит в разных пропорциях. В одном случае значение поэтического текста возрастает, иногда музыка поглощает вербальную составляющую вокальной линии роли и доводит свой приоритет до абсолюта.
Неразрывная связь душевных переживаний, плохо поддающихся словесному определению, и процесса вокализации общеизвестна. «Это жизнь в параллельном мире – там открываются небесные дали и „небо в алмазах“. И это самые счастливые минуты моей земной жизни»[69]69
Из интервью с Е. Образцовой 10.01.2005. Личный архив В. Богатырёва.
[Закрыть]. Не ошибусь, если предположу, что каждый певец, владеющий техникой классического вокала, согласится с определением сценического самочувствия оперного актера Е. Образцовой. В эти моменты сценического бытия для него неразделимо звучание слова и его смысл, его личность и персонаж, которого он на сцене изображает. Этот феномен и может быть определен как тайна подлинного творчества для певца. В эти минуты он ощущает себя даже не соавтором, а творцом вокальной линии роли. И если существуют примеры синкретического единства в современном театре, то это именно и только певец-актер в момент вокально-сценического творчества.
Такое единение душевного и физического состояний компенсирует актеру в опере первоначальную жесткость музыкально-поэтического текста. Так, например, классическая форма XVIII века выражена протяжным Largo, где совершенное пение способно остановить сценическое время, погрузить сознание вокалиста в созерцание, где замирает дух от игры светотени в длящемся звуке; или если финал оперной арии исполняется в аутентичной традиции, то проведение первоначальной темы украшается виртуозными фиоритурами. «Сверхзадача» последних – ошеломить публику прежде неслыханным мастерством.
Для романтической оперы Италии первой трети XIX века экспрессия речитатива предваряет и сменяется Cantabile. Его форма лишь на первый взгляд совпадает с Largo в opera seria, но по сути своей имеет иную природу. При всей обобщенности музыкальных характеристик в ней присутствует глубокое слияние чувств персонажа с индивидуальной эмоцией исполнителя. Само же чувство дается в развитии. Если Largo может быть уподоблено пластическим, скульптурным линиям – неподвижным и совершенным, то Cantabile индивидуально как чувства «лирического героя» в романтической поэзии. Очевидно, что в партитурах Беллини каватина Нормы из одноименной оперы и ария Эльвиры из «Пуритан» при общности темпа и сходных требованиях к звуковедению по внутренним ощущениям певицы не могут быть тождественны друг другу. В классической опере XVII – первой половины XVIII веков типизация чувств и положений даже в теории исключает такую возможность.
Впервые с партитурой, организованной по принципу драматического театра в современном его понимании, певец сталкивается на рубеже XIX–XX столетий, и связано это революционное изменение с течением веризма. Утверждение, что в операх позднего Верди или новаторских опусах Вагнера отсутствовало драматическое начало, абсурдно. Пуччини сегодня кажется нам более динамичным, драматически достоверным по очень простой причине – сам язык оперного театра кардинально трансформировался. Мы, за редким исключением, не найдем у представителей веризма ни одной мелодии с распевом на гласных, не услышим каденций; принцип сквозного действия, освоенный музыкальной драмой также видоизменил многие законы оперы, например, в арии. В XX веке она по своей сути и форме всегда монолог оперного персонажа.
Итак, в партитурах веристов и далее у композиторов XX века исчезли средства выразительности классической или романтической оперы, их структура имеет с точки зрения музыковедения иную природу. Иначе оценивает её и драматическое искусство нашего времени. «Дело не в сюжете. Если брать „Дон Карлос“, там такой напряженный сюжет, как и в „Катерине Измайловой“, а, может, и больше – сколько крови. Дело в музыкальной манере. Вот у Прокофьева, Шостаковича музыка более драматургична, более перекладывается на язык драматического театра»[70]70
Из интервью с Т. Чхеидзе 3.12.2004. Личный архив В. Богатырёва.
[Закрыть]. Ситуация, возможная только во взаимоотношениях dramma per musica и драмы! Внутри одного вида театра Т. Чхеидзе было бы сложно утверждать, что трагедии Шекспира или Шиллера написаны менее драматично, чем пьесы Чехова или Дюрренматта. Мы бы предположили, что они написаны иначе.
Возникает парадоксальная ситуация: эволюционирование, реформирование оперы всегда сближает ее с эстетикой драматического театра во всякий конкретный период ее истории. Но драматический театр видоизменялся в направлении, отдаляющем феномен dramma per musica от идеалов и установок, ее породивших.
Безусловно, как и драматическая пьеса, оперная партитура сегодня может быть трансформирована волей режиссера, сценографией его постановки. Сама практика театрального дела убедительно доказывает такую возможность: несть числа оперным премьерам, громкая слава которых основана на перенесении времени или места действия спектакля в иные эпохи и обстоятельства.
Осмысление режиссером драматического конфликта, заложенного в пьесе/партитуре, также может быть многовариантным. Различия сейчас возникают в ином ракурсе. На драматической сцене трагедия Корнеля или Расина может быть произнесена/сыграна не одним способом, законы «трагической речи» в классицистской трагедии давно потеряли право диктовать актеру качества звучащей составляющей сценического образа. Они могут использоваться, но могут быть и забыты.
Иначе обстоит дело в опере. Слово здесь – это неделимая часть вокальной линии роли, которая, в свою очередь, составляет константу, некую основу всей структуры партии-роли. Если бы все зрители оперного спектакля были в состоянии услышать жест, исходящий от музыкальной фразы в opera seria, мы увидели бы у первоклассного певца пластику картин Пуссена, а у рядового исполнителя – типологизированный жест театра XVII–XVIII столетий.
Известно, что, зафиксированные нотами, своеобразными опорными тонами, правила трагической декламации в театре Расина также имели и сложную модуляционную структуру. Это была трагедия «театральной» эпохи классицизма XVII века, времени, когда эстетика оперы и драмы не противопоставлялись друг другу. В ракурсе данного исследования необходимо подчеркнуть, что театру XIX века до некоторой степени удавалось сохранить единство драматической декламации и мелодекламации, – и первая в этот период была несравнимо ближе «оперному» пониманию роли слова в системе сценической выразительности, нежели современная эстетика сценического слова в драме.
«Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни»[71]71
Высказывание Талейрана. Цит по: Тар ле Е. Талейран. М., 1993. С.43.
[Закрыть]. Взаимоотношения искусства и житейской реальности в эпоху барокко во многом отличны от идеала красоты предшествующей эпохи Ренессанса. Галантный век уже не стремится к «подражанию древним», а довольствуется аллегорическим отображением их идеалов в искусстве XVII–XVIII веков. Театр эпохи барокко, а это, прежде всего, оперный театр, был призван услаждать слух и зрение. Не ввергать публику в состояние катарсиса, не потрясать глубиной и силой чувств, а изумлять виртуозностью и чудесами оперной машинерии, бесконечным дыханием и диапазоном певцов-кастратов.
Романтизм XIX столетия смотрит на взаимоотношения искусства и реальности. Ю. Лотман определяет его феномен как «область моделей и программ». «Активное воздействие направлено из сферы искусства в область внехудожественной реальности. Жизнь избирает себе искусство в качестве образца и спешит „подражать“ ему».[72]72
Лотман Ю. Беседы о русской культуре. СПБ., 1994. С. 181.
[Закрыть]
Неоклассицизм начала XX века вновь будет снова подражать Древней Греции, а, следовательно, предметом художественных исканий вновь станет «возвышенное». Но язык и семантика музыкального искусства изменилась столь радикально, что художественная реальность партитур, написанных на классические сюжеты в начале прошлого столетия, будет иметь мало общего с opera seria.
В исследовании, анализирующем взаимоотношения певца-актера и партии-роли в оперном искусстве, важнейшим является вопрос: как эволюция вида влияет на сценическое творчество певца. И здесь становится очевидным, что эстетика вида естественным образом эволюционирует сообразно с общекультурным контекстом, который в исторической ретроспективе стремится к единой эстетике театра.
Проблемы во взаимоотношениях классической оперы с непрестанно эволюционирующей эстетикой драматического театра возникнут лишь тогда, когда «условное», «каноническое» искусство исчерпывает естественно заложенный в нем ресурс приближения к бытовой реальности, к самой жизни. У каждого сценического искусства свой резерв такого движения, который изначально задан степенью условности, присущей тому или иному сценическому виду.
Естественно, что в классических опере или балете мера искусства, часто понимаемая профаном как искусственность, выше, нежели в современной нам драме. В балете люди не говорят вовсе, и если возникает необходимость общения между персонажами, актеры используют стандартный набор жестов. Балетный театр в своей истории уже максимально приближался к драме в своих попытках создания реалистического балета в тридцатых годах XX столетия, но во второй половине прошлого века вернулся к поискам новых, совершенных форм и линий в танце.
Увлечение пластикой и мимикой, то есть не танцем как таковым, а элементами, приемами драматического театра в отечественном балете XX века приводит к рождению нескольких спектаклей, прочно вошедших в репертуар классических трупп, например, «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан» или «Спартак» в хореографии Якобсона. Но очевидно, что это именно те спектакли, где пластическая драма не противоречит видообразующей стихии танца. Где балетмейстер, способный мыслить драматическими образами, вводит в танец новые элементы языка его искусства и создает новаторскую партитуру спектакля.
Потеря баланса между танцем и пластическими приемами драмы в сложной структуре этого вида театра неизбежно лишает его своей, специфической выразительности и художественной ценности. По образному определению Л. Блок, балетные артисты, стремясь играть, как актеры драмы, подобны чтецам, произносящим стихи как прозу.
Для классического, канонического искусства отказ от безусловного приоритета главного средства выразительности (языка), отличающего один вид театра от другого (в данном случае танца), ведет и к потере формы, всегда тяготеющей к соразмерности и самодостаточности. «Звучит музыка, для нее найдены балетмейстером соответствия в обширном арсенале классического танца. Он умеет эти движения вековой древности, отшлифованные и отполированные вереницей гениев и талантов, умеет делать их своими, сливать в одно со своим юным существом»[73]73
Блок Л. Классический танец. История и современность. М., 1987. С. 470.
[Закрыть]. Это, одно из наиболее совершенных определений условности классического театра, полностью применимо и к оперному искусству.
Певец-актер работает не с визуальной формой, но предмет его сценического воплощения имеет не менее жесткий каркас, чем pas классического танца. Ария заключает в себе ту же функцию, что и вариация, речитатив соответствует образности, возникающей из приемов пластической драмы в балетном искусстве. Вокальная линия роли в опере организована законами формы, которую публика созерцает, а актер претворяет во времени и пространстве, сам погружаясь в иную реальность, некий «параллельный мир».
А что драматический театр? Как в исторической перспективе трансформировалась и эволюционировала его условность?
История развития драмы указывает на движение от обобщенных искусством законов красоты к реализму, от принципов «возвышенного» в сценическом существовании к «естественности» актера: сегодня его жест и речь максимально приближены к бытующим в жизни. Почему именно так, и что диктует такую эстетику современной нам драме? Ответ лежит на поверхности: наша эпоха не театральна. Сегодня театр подражает жизни, а не наоборот. Это и определяет эстетику сцены.
Таким образом, в крайнем своем стремлении к бытовому и реалистическому в драме остается главное и непреодолимое отличие театра от жизни: он буквально, a priori не может стать реальным. Публика в театре все же представляет себе подлинность места и времени действия, уподобляет театральный реквизит и декорации реальным явлениям и вещам. Очевидно, что для такого зрителя необходим навык общения с символическим языком эпох, или, по крайней мере, со структурой символов нашего времени. Для оперного театра и этих навыков мало, зритель должен стать слушателем. Ему необходимо познать и принять законы организации оперной эстетики через синтез звука и действия.
Соотношение музыкального и драматического начал в феномене партитуры
Музыковедением подробно и всесторонне изучены партитуры классического наследия. Ария, речитатив, оперный ансамбль – правила их сочленения и взаимодействия в музыкальной партитуре спектакля исследованы, в том числе и с целью выявления музыкальной драматургии вокальной партии. Но существует еще одна область опероведения, не изученная вовсе, – что есть ария, речитатив, ансамбль в структуре партии-роли и как трансформируется ее сценическое воплощение в творчестве певца-актера.
Опера «Дон Жуан» В.-А. Моцарта может проиллюстрировать возможности постоянных колебаний в соотношении музыкального и драматического начал в тексте партитуры. Период, обусловливающий первенство слова над мелодией (драматургия театральная) или обратные соотношения (драматургия музыкальная), задается как структурой комической оперы в целом, так и спецификой частей, ее формирующих. Например, recitativo secco (с ит. recitare – декламировать, secco – сухо, сухой) – это, вне всякого сомнения, область театра. Разговорные речитативы обозначены нотами и сопровождаются в опере XVII–XVIII вв. аккордами на клавесине. Но манера их речитации свободная, разговорная. В отсутствии мелодии музыкальная интонация соединяется с ритмизованным и «усовершенствованным» музыкальной интерваликой словом. В таком речитативе певец максимально приближен к актеру драматического театра, например, к актеру итальянской комедии dell’arte. Именно в момент recitativo secco совершаются коллизии сюжета, персонажи спектакля взаимодействуют друге другом.
Существует другой тип речитации в опере – recitativo accompagnato. Аккомпанированный, то есть сопровождающийся оркестром речитатив, исполняется ритмически точно и служит своеобразным связующим звеном между разговорной стихией recitativo secco и собственно музыкальным миром спектакля. Здесь, с усилением роли музыки, артист оперы подчиняет свое сценическое существование не драматическому темпу спектакля, а ритму музыкальному, приходящему извне.
Что есть ария, дуэт, трио – любой музыкальный ансамбль?
С точки зрения драматической, классическая ария являет в себе выражение какого-то одного чувства персонажа, например, чувства мести или любви. Практически любая опера XVIII века включает набор арий, которые могут быть классифицированы таким образом. И композитор, а за ним и певец исследуют это чувство средствами музыки. Его нарастание или угасание, игра света и тени в душе человеческой становятся здесь предметом оперного действия.
В данном случае проблема соотнесения драматургии в структуре партии-роли с типизированными эмоциями в эстетике оперного барокко для певца-актера может быть опущена. Важно здесь то, что сам факт перехода от разговорного речитатива к речитативу аккомпанированному и далее к развернутым музыкальным эпизодам формирует широкий спектр способов сценического существования для актера музыкального театра.
Столь очевидные для певца-актера различия в сценических условиях оперы XVII–XVIII вв. обусловлены отсутствием сквозного действия, выраженного музыкой, и не являются чем-то исключительным. В силу разности законов музыкальной формы, их структурирующих, они всего лишь наиболее очевидны.
Для оперной партитуры смена речитатива арией, дуэтом или ансамблем представляет драматургическое развитие линии роли. Для певца-актера, сценически воплощающего партию-роль, определение «развитие» очевидно – это движение роли к ее финалу. В том, что это «линия», приходится усомниться: в речитативе вокальное искусство практически не влияет на его сценическое самочувствие. Или, наоборот, – в арии очень отвлекает от внешнего действия. Подробный разбор этого самобытного явления оперного театра будет произведен в главе, посвященной психотехнике певца-актера. Сейчас, с целью выявления структурных закономерностей роли, обратимся к более поздним примерам, к народной драме М. Мусоргского «Борис Годунов», а точнее, к главному персонажу оперы.
Поэтическая основа либретто, принцип сквозного действия, речитативный характер самой вокальной линии роли дает блестящую возможность для создания глубокого в своей художественной правде сценического образа. Но и в партии Бориса можно проследить преобладание музыкального или драматического начал.
Монологи Годунова «Скорбит душа» или «Достиг я высшей власти» имеют законченную музыкальную форму. Вокальная линия роли здесь протяжна, велики и тесситурные трудности – так ферматы на предельных нотах уже в финале первого монолога Бориса «Всем вольный вход (el), все гости дорогие (fl)» не могут не влиять на сценическое самочувствие певца.
Второй монолог «Достиг я высшей власти» в редакции Н. Римского-Корсакова по обилию высоких нот и вовсе может быть отнесен к наиболее сложным отрывкам в оперной литературе, даже если речь идет о высоком басе (basso-baritono). Эмоциональный строй этой сцены будет высоким и даже аффектированным, вне зависимости от желания вокалиста.
Редакция П. Ламма, ко второй половине XX века практически вытеснившая с оперной сцены партитуру «Бориса Годунова», переработанную Н. Римским-Корсаковым, ставит перед певцом совсем иную задачу. Вокальная линия роли располагается в средней тесситуре (H-e1) и требует иного акцента в вокальной технологии. Отсутствие предельно высоких нот певческого диапазона и плотная, широкая кантилена музыкальных фраз монолога приводят к тому, что певец сосредоточивает основное внимание на проблеме вокального дыхания в центральном отрезке голоса. Так у певца-актера появляется возможность придать своему герою другие черты. В этом фрагменте роли, по версии П. Ламма, Борис может быть задумчив, сумрачен. Эмоциональные и динамические акценты фраз в большинстве случаев сохранятся для него и у П. Ламма, и у Н. А. Римского-Корсакова, но их амплитуда станет короче, уйдет ниже вслед за тесситурой вокальной линии роли.
Сцена с курантами (галлюцинация Бориса), напротив, наиболее ярко и полно иллюстрирует единство драмы и музыки на оперной сцене. Здесь музыкальный язык композитора повторяет музыку пушкинского текста, лишь увеличивает и как бы укрупняет заложенный в нем ритм и динамический строй. Известно, что Ф. Шаляпин, достигавший неподражаемого эффекта в этой сцене, отходил от выписанного нотами вокально-поэтического текста, не нарушая замысла композитора. В этой своей ипостаси образ «оперного Бориса» в наше время может быть отнесен к реликтовым явлениям в эстетике театра – он может говорить языком «высокой трагедии», вернуть нас в XIX или даже XVIII век.
Такая архаичность оперы представляет интерес как с точки зрения истории драмы (Виолетта Валери читает письмо Жоржа Жермона в IV акте «Травиаты» в традиции театра середины XIX столетия), так и в ракурсе данного исследования. Принимая во внимание специфику взаимодействия театра и музыки в вокальной линии роли, становится очевидным тот факт, что оперный театр не является лишь сплавом двух различных по своей природе искусств, – драма и музыка могут существовать в одном спектакле, в одной роли и не растворяясь друг в друге, то есть, не теряя собственных структурных характеристик. Их взаимоотношения можно назвать сложноподчиненными, где интенсивность взаимодействия – величина непостоянная.
В оперной литературе мы можем найти еще более весомые доказательства этого утверждения. В опере Дж. Верди «Макбет» как и в пьесе Шекспира, роль Леди Макбет начинается с чтения письма: «Nel di della vittoria io le incontrai…». Оркестровое вступление обрамляет декламацию певицы, предваряет и завершает его; в окончании «чтения» и начинается recitativo accompagnato выходной арии Леди Макбет «Ambizioso spirto». Интервалика декламации в предшествующем пению фрагменте столь широка, что переход к вокализации воспринимается нами естественно. Таким образом, певица, исполняющая роль Леди Макбет, пусть и в небольшом фрагменте своей роли, существует в эстетике давно канувшего в Лету канона. Подобный этому пример есть и в партии Адриенны Лекуврёр из одноименной оперы Ф. Чилеа. Вокальная роль певицы, воплощающей на сцене образ легендарной актрисы театра «Комеди Франсез» XVIII столетия, также включает чтение драматического монолога.
Существует два непременных условия для возникновения сценической речи в «большой» опере. Первое – переход от пения к декламации должен быть логически обоснован. Это может быть чтение письма (Виолетта, Леди Макбет) или сценическая декламация роли актрисой (Адриенна Лекуврёр).
Вторым условием является соблюдения раз и навсегда установленных правил сценической декламации того или иного отрывка: традиция предписывает певице определенные модуляции и динамические акценты. Является ли декламация в этом случае зоной относительной свободы певцов в опере? Очевидно, что возможностей к импровизации в рамках партии-роли и здесь не много. Не больше, чем у классической танцовщицы, сошедшей с пуантов для пластической сцены.
Подробный сравнительный анализ принципов вокализации и декламации будет приведен позже. В главе, посвященной анализу структуры партии-роли, для нас интересен сам факт существования декламационных фрагментов в музыкальной партитуре. Этот аспект в определении структурных закономерностей возвращает нас к проблеме синтеза музыки и драмы в вокальной линии роли.
Показательно, что, ориентированная с момента своего возникновения на идеалы драмы и как следствие на мелодекламационную манеру звукоизвлечения, французская оперная традиция XVII–XVIII вв. (французская лирическая трагедия) в исторической перспективе не сумела выработать собственного метода постановки голоса, отличного от мелодической школы итальянцев. Современники весьма язвительно отзывались о качестве пения в парижской опере: «Разве есть какое-нибудь соответствие между нежными модуляциями слов и этими звуками, напряженными и громыхающими, или, скорее, между этими вечными криками, которые составляют ткань нашей музыки…», «…певцы и певицы! Их не следовало бы так называть, потому что они не поют, – они кричат, вопят горлом и носом во всю силу обоих легких»[74]74
Аберт Г. В. – А. Моцарт: В 4 т. М., Музыка. 1988.Т. 2. С. 221.
[Закрыть].
На протяжении двух веков музыкальный язык «большой оперы» во Франции эволюционировал и усложнялся. Декламационная постановка голоса, разработанная для опер Ж.-Б. Люлли и Ж.-Ф. Рамо, окончательно перестала отвечать требованиям оперного искусства к концу XVIII века. Луиджи Керубини встал во главе комиссии парижской Академии, целью которой явилось создание единого метода преподавания пения во Франции на основе итальянского bel canto. В 1803 году вышел в свет «Метод Парижской консерватории», научно-методический трактат, посвященный принципам и правилам оперной постановки голоса.
В контексте данного исследования интересен не сам факт превосходства одной школы над другой, а механизм взаимодействия двух начал – вербального и музыкального в оперном театре. И здесь возникает очередной парадокс. История оперы свидетельствует, что прямое следование законам слова не гарантирует, а, скорее, мешает вокальному искусству и драматургии музыкального типа, ничего не прибавляя актеру. Напротив, если музыкальному началу в структуре роли отводится первое место, умелый вокалист скорее будет способен к искренним переживаниям и созданию подлинно художественного образа на сцене.
Создавая сценический образ, актер драмы играет характер, то есть одновременность существования и взаимодействия его черт. В опере, в условиях, сформированных музыкальной драматургией, лицедей представляет на сцене не характер, а чувство и выражающий его основу некий вектор чувств и переживаний. Если такое чувство и складывается из разности причин и условий, то для оперного актера оно уже единое целое, предопределенное музыкальной образностью и переплавленное музыкальной стихией в новое качество.
Это может быть и чередование чувств персонажа в разных сценических положениях. Например: любовь – ревность – ненависть или печаль – сомнение – надежда. «Они [оперные актеры. – прим. В. Б.] работают очень крупными музыкальными пластами, ему нужно выдать здесь одну эмоцию, один характер, „мелкая психологическая дробь“ никогда не получалась в оперном театре, более того, она противоречит оперному искусству. Потому что в музыкальной драматургии заряжены (я сейчас говорю о классической опере) длинные музыкальные пласты – протяженные и не такие мелкие. Музыка говорит – грустно. Или музыка говорит – весело, или музыка говорит – трагично, иронично. Задается одна ясная эмоция в одном куске»[75]75
Из интервью с Н. Пинигиным 3.12.2004. Личный архив В. Богатырёва
[Закрыть].
Из этого следует, что в отличие от драматической роли, всегда имеющей для актера подтекст (категория мыслительная) или единовременное совмещение разнонаправленных эмоциональных переживаний, роль вокальная, если речь идет о внутреннем чувствовании актера, такой дробности не имеет. Совмещение самого процесса пения и столкновения нескольких чувств или нюансов в творческом сознании актера на практике вряд ли возможно.
Данное утверждение никак не умаляет достоинства структуры партии-роли в опере. Компенсацией в сценической выразительности для актера данного вида театра является градус чувствования, априорно очень высокий, и музыкальная изобразительность оркестра, живописующего сложные связи, возникающие в столкновении его персонажа с обстоятельствами места и времени, с другими героями пьесы. Сложная система таких взаимоотношений может быть не воплощена сценическими средствами в dramma per musica. Но она всегда явлена нам в оркестре.
«Тон, в котором мы говорим, зависит, прежде всего, от нашего настроения, а интонации продиктованы мыслями и чувствами»[76]76
Комиссаржевский Ф. Я и театр. С. 173.
[Закрыть]. Тон для певца-актера – это, задаваемая нотацией звуковысотность вокальной линии роли. Интонация, напротив, является зоной относительной свободы для певца. «Рисуйте голосом внутреннюю линию роли»[77]77
Станиславский – реформатор оперного искусства. М., 1988. С. 57.
[Закрыть], – средства такой выразительности заключены в технике пения. Через него внутренняя линия роли, совпадающая с вокальной линией, трансформируется для актера, приобретает еще одно измерение. Чувство, заключенное в тоне и ритме, интерпретируется вокальным мастерством вокалиста. Его изменчивость и движение через игру светотени, динамику звучания, амплитуду тембральных возможностей голоса представляется на суд просвещенной публике.
Прямым доказательством упрощения оперных чувствований в структуре партии-роли для певца-актера, – уточним, с точки зрения современной нам драмы, – следует считать и систему лейтмотивов, всегда мелодически выверенных и определенных в своей гармонической целостности. Или понятие амплуа в опере. Его контуры в музыкальном театре очерчены жестко и недвусмысленно эстетикой оперы.