Текст книги "Изгнанник"
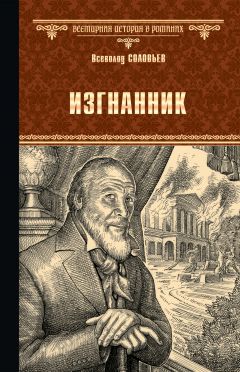
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
VII. Первые минуты
Уговорив сына сделать первый визит приезжему, Катерина Михайловна ушла в свою спальню, но долго еще не раздевалась и не ложилась. Она то ходила по комнате, то присаживалась к столу, подпирая щеку рукой, и долго так оставалась, неподвижная, будто погруженная в глубокие размышления. Но ощущений у нее было больше, чем размышлений.
Приезд Бориса Сергеевича, хотя и ожидаемый ею, сильно взволновал ее. Она не показала своего волнения перед сыном, но теперь, оставшись одна, предалась ему.
Дело в том, что Борис Горбатов был единственным человеком, с которым ей не хотелось встретиться в жизни, и в то же время он был единственным человеком, который для нее что-нибудь значит. Бессознательно, но она уважала этого человека, несмотря на то что не видела его многие годы, что расстались они молодыми, а должны были встретиться уже на склоне жизни. Он владел ее тайной, он был ее врагом – чего ожидать от этого приезда? Она представляла себе его, с его взглядами, понятиями… Он ни перед чем не остановится… А между тем нельзя уйти, нельзя избежать встречи; напротив, надо постараться всеми силами смягчить его, сделать его безвредным. Но как это сделать? Она не считала Бориса Сергеевича умным человеком. Но ведь в этом-то вся и беда, что он неумен: с умным человеком она, крайне неумная женщина, могла бы легче справиться, а с этим – нет!
«Но боже мой, – вдруг подумала она, – да ведь сколько времени прошло! Все было так давно, он мог очень измениться, он должен был измениться, может быть, он совсем другой… Ах, что-то будет завтра? Что-то будет?..»
Она понимала только одно, что должна употребить всю свою любезность, всю свою ловкость при этом первом приеме опасного родственника, а в крайнем случае должна разыграть роль глубоко несчастной женщины, искупившей долгими страданиями вину свою.
Мало-помалу она успокоилась. Как благоразумный полководец, сознавая всю опасность предстоящей битвы, она себя подбодрила и рассчитала свои силы.
Что касается Бориса Сергеевича, то и ему стало очень тяжело, когда он в назначенный час поехал в Знаменское. Он давно уже покончил с прошлым, многое забыл, многое простил и объяснил себе с тем спокойствием и беспристрастием, какие даются человеку только долгим временем, годами жизни. Он давно примирился с памятью покойного брата. Он почти никогда уже не думал об его измене, об его предательстве; думая о нем, он старался представлять его себе или юношей, с которым он был так близок, или героем, честно павшим в бою.
Но, несмотря на всю тишину, какую ощущал теперь в душе своей Борис Сергеевич, он все же не мог подавить противного чувства, каждый раз в нем поднимавшегося при мысли о Катерине Михайловне. В особенности это чувство заговорило в нем после встречи с племянником, когда он так сильно почуял в себе голос крови. Он готов был, как в годы юности, негодовать и возмущаться. Он многое простил этой женщине, простил ей свои личные обиды, простил обиды, нанесенные ею его покойной жене; но простить позор, нанесенный их старому, честному роду, он не мог.
И вот он ехал в дом, где она была хозяйкой, ехал как родной. Он сознавал, что должен подавить свои чувства, должен притворяться, играть комедию, а между тем ведь он никогда не притворялся и никогда не играл комедий!..
Полный тоски, с чувством крайней неловкости вошел он в большую, ярко освещенную солнцем залу Знаменского дома. Какая-то сухонькая старушка, с маленьким, бледным, обвисшим личиком, с длинными буклями, в которых ясно обозначалась седина, в легком, изящном летнем костюме, задрапированная кружевами, быстро пошла ему навстречу. Он остановился и невольно отшатнулся.
Кто же это? Кто эта маленькая старушка?
– Борис, боже мой, ты ли это? – проговорила она, пораженная не менее его.
Он взглянул еще раз, и раздражение и неприязнь, с которыми он ожидал этой встречи, внезапно исчезли. Это не она, и ничего, кроме жалости, не чувствовал он к этой новой, незнакомой ему и все же не чужой старушке.
– Борис, нам трудно узнать друг друга… – тихо прошептала она тоже не прежним голосом – и заплакала.
Он нагнулся, поцеловал ее маленькую сухую руку.
Первая страшная минута прошла благополучно. Катерина Михайловна почувствовала под собою почву.
Она взяла Бориса Сергеевича под руку и повела его дальше.
– Дети, дети! – звала она. – Идите скорее…
И потом, обращаясь к нему, прибавила:
– Все новое, от прежнего только мы с тобой остались…
В это время глаза Бориса Сергеевича остановились на прелестном лице молодой женщины, глядевшей на него большими, спокойными черными глазами.
– Натали, жена Сергея! – сказала Катерина Михайловна.
Он крепко сжал руку молодой женщины, ответил улыбкой на милую улыбку, и оба они невольным движением приблизились друг к другу и крепко поцеловались.
Она указывала на детей:
– Вот Соня, вот Володя, Маша, Коля.
Дедушка целовал внучат и говорил:
– Какие большие, какие славные!..
И на душе у него становилось хорошо. Он видел, как эта милая молодая женщина ласково глядит на детей, на детей своего мужа, и как дети доверчиво к ней жмутся.
Между тем Катерина Михайловна, обняв хорошенькую Соню, которая, вдруг отойдя от мачехи, к ней прильнула и лукаво выглядывала из-под бабушкиных кружев, призывала внимание Бориса Сергеевича:
– Борис, вот эта старшая, моя баловница, бедовая девочка, совсем от рук отбилась… Да, да, Сонюшка, я говорила тебе, что я буду на тебя непременно жаловаться дедушке. Да, Борис, будь с ней построже!.. Est elle gentille, cette mignonne?[7]7
Она миленькая, эта крошка? (фр.)
[Закрыть] – шепнула она ему, но так, что девочка отлично расслышала.
Борис Сергеевич погладил Соню по розовой щечке, но в то же время ему стало неловко. Чувство жалости, в первую минуту вызванное в нем переменой, найденной им в Катерине Михайловне, пропадало.
Катерина Михайловна промахнулась и вдобавок не заметила этого.
Вдруг возле Бориса Сергеевича очутился толстенький, нарядный, завитой мелким барашком мальчик. Он смело, с откровенным детским любопытством уставился на него большими черными глазенками и ловко расшаркался.
– А это вот другой баловень – Гриша! – говорила Катерина Михайловна.
Борис Сергеевич поцеловал ребенка. У него защемило сердце. Он взглянул на Катерину Михайловну вдруг блеснувшими глазами, но она выдержала его взгляд. Она спокойно указывала ему на медленно входившую в комнату молодую женщину:
– C'est Marie![8]8
Это Мари! (фр.)
[Закрыть]
Он пошел навстречу этой Marie и невольно подумал: «Какая разница!»
Он сравнивал ее с женою Сергея. Как к той сразу повлекло его сердце, так эта сразу же произвела на него неприятное впечатление. А между тем что же можно было сказать против нее! Мари, жена Николая Горбатова, была еще очень молода – лет двадцати шести, не более, высокого роста, полная блондинка, с правильными, хотя несколько крупными, чертами. Она была к лицу одета и причесана. Она вошла, очевидно, не спеша, совсем спокойно; приветствовала почтенного родственника, которого видела в первый раз, любезной фразой.
Она сказала, что давно-давно хотела с ним познакомиться и узнать его, крепко сжала полной белой рукой его руку.
Все это было прилично, хорошо, решительно не к чему было придраться. Но Бориса Сергеевича не потянуло обнять и поцеловать эту молодую женщину, как он делал, здороваясь с Натали. Да и если б он вздумал обнять и поцеловать ее, то это вышло бы крайне неловко, – это, наверное, изумило бы ее, да, пожалуй, и всех.
Скоро появился Сергей, огромный, с длинными ногами, со своими большими, жилистыми руками и, несмотря на это, изящный в каждом движении, одетый, видимо, с большой тщательностью и обдуманностью.
Он улыбался во все стороны широкой, добродушной улыбкой, щурил глаза, обращался с дядей, как будто всю жизнь с ним не расставался. Дети тотчас же обступили его. Одного он подхватил под мышку, другого – под другую, поболтал их в воздухе, с третьим повертелся и наконец прикрикнул на них:
– Брысь! Довольно! Надоели!..
Он смеялся, дети смеялись, и, глядя на них, слыша этот смех, хорошо становилось Борису Сергеевичу.
– Какая у тебя жена! – улучив удобную минуту, шепнул он племяннику.
– А что, дядя?
– Хороша! Да не собой только, понимаешь… очень хороша!
Сергей прищурился.
– Тем лучше, если нравится, – проговорил он, – впрочем, она всем нравится – Наташа!
– А тебе, может, не нравится?
– Нет, и мне нравится, только… – Он вдруг сделался как бы серьезнее. – Только она, кажется, слишком хороша для меня…
В это время по всему дому послышался звонок, и Катерина Михайловна, подойдя к почтенному гостю, повела его в столовую.
За большим столом разместилось немало народу. Тут оказался гувернер мальчиков, бледный молодой француз, с выведенными в струнку усиками и почти совсем белой эспаньолкой. Две гувернантки, из которых одна, пожилая и степенного вида вдова, англичанка, носила историческую фамилию – называлась мистрисс Стюарт и держала себя как театральная королева; но, в сущности, была просто-напросто очень скучная и молчаливая дама. Катерина Михайловна выписала ее из Англии по какой-то особой рекомендации и была уверена, что только она и в состоянии дать детям «настоящее» воспитание. Мистрисс Стюарт пользовалась особым положением в доме, имела свое отдельное помещение, вставала поздно, выходила из своей спальни только к завтраку, давала детям урок английского языка и затем считала себя вправе совсем не заниматься ими. Другая гувернантка, молоденькая, с задорным, свежим личиком и быстрыми-быстрыми, довольно смелыми глазами, была русская, бедная дворяночка, Ольга Петровна Ежова. Она недавно окончила курс в Александровском отделении Смольного института и была взята в помощь мистрисс Стюарт. Вся возня с девочками лежала на ней. Дети ее, очевидно, любили и дружески называли «Лили».
Затем было еще два соседа, очень незначительного и скромного вида, которых представили Борису Сергеевичу, и целых четыре старушки, что-то вроде приживалок, что-то вроде последнего воспоминания о прежней барской жизни.
Обед обильный, разнообразный, но несколько безалаберный, проходил оживленно. Незаметно было никакой чинности, никакого стеснения, которые в прежние времена так свято соблюдались в домах, подобных дому Горбатовых.
Сергей громко смеялся, подшучивая над старушками-приживалками, заигрывая с детьми, и раза три в течение обеда пустил хлебные шарики по направлению хорошенькой Лили. Шарики каждый раз достигали назначения. Гувернантка укоризненно поднимала свои блестящие глазки на Сергея, немножко краснела, поеживалась, но, видимо, смущалась очень мало.
Борис Сергеевич, сидевший между Катериной Михайловной и Натали, не заметил этих подробностей, он с трудом вслушивался в то, что говорила ему Катерина Михайловна, для того чтобы впопад отвечать ей, и с большим интересом всматривался в свою другую соседку. Ему все в ней нравилось: вся ее небольшая стройная фигура, гладко, просто зачесанные густые черные волосы, длинные ресницы темных глаз, тонкий, хотя и неправильный, профиль, мягкая добрая улыбка, звук голоса.
От всего ее грациозного, милого существа веяло на старого, уставшего человека чем-то далеким, чем-то бесконечно милым и давно похороненным. Он искал в ней сходства с единственной женщиной, которую страстно любил в жизни, и находил в ней это сходство каждую минуту – не в чертах, не во внешности, но в чем-то неуловимом, в чем-то внутреннем, что несравненно важнее всякой внешности. Да, решительно эта милая соседка напоминала ему его Нину…
Обед был кончен. Дети рассыпались с шумом во все стороны. Сергей, несколько раскрасневшись от достаточного количества выпитого им вина, зашагал через всю комнату, шепнул мимоходом что-то такое хорошенькой гувернантке, верно, забавное, потому что она так и покатилась со смеху. Потом подошел к своей жене, разговаривавшей с Борисом Сергеевичем, нагнулся к ней и поцеловал ее в лоб.
Борис Сергеевич не спускал с нее глаз. Она взглянула на мужа, но ничем не ответила на поцелуй его, не улыбнулась ему, лицо ее оставалось спокойным, глаза ничего не сказали, и она продолжала начатый разговор. Борис Сергеевич чувствовал как будто тревогу.
Что это значит? Неужели, неужели она его не любит? Но нет, этого быть не может, это пустое!..
Собирались на прогулку, жар давно спал, солнце стояло низко, старый знаменский парк манил в свои влажные зеленые объятия.
Старик предложил руку Наташе. Она крепко, доверчиво оперлась на эту руку, и они, спустившись со ступеней балкона, пошли вдоль широкой аллеи, обсаженной могучими вековыми дубами.
– Ma foi, дядя, кажется, начинает ухаживать за Наташей! – весело говорил Сергей, обращаясь к матери и Мари.
– Ну, это не опасно! – заметила Мари, беря его под руку и улыбаясь ничего не выражавшей улыбкой.
– Помилуй, как не опасно! Да посмотри на него – ведь он совсем красавец со своей серебряной бородой!
А Катерина Михайловна думала: «Кажется, все хорошо, кажется, он поумнел, пора бы – совсем ведь старик!.. Неужели и я так постарела?»
Она глубоко вздохнула.
VIII. «Большие» и «маленькие»
Борис Сергеевич уже поздно вечером возвращался в Горбатовское. Старинная тяжелая коляска, запряженная тройкой крепких деревенских лошадей, слегка покачивала его по мягкой дороге. Дорога эта шла у опушки леса. С одной стороны в тихом сумраке летней ночи поднималась неподвижная, таинственная чаща вековых деревьев; с другой – терялись во мгле засеянные поля. На бледном небе едва видно трепетали звезды, и далекий край небосклона уже медленно загорался зарей.
Тишина вокруг стояла такая, что даже странно становилось; казалось, все замерло, застыло, окаменело, даже дорога не пылила под копытами лошадей и колесами коляски. И почти так же тихо, как в этой застывшей природе, было на душе у Бориса Сергеевича. Но то не была тишина старческой усталости, которую иногда он уже начинал чувствовать в последние годы. Нет, то была новая, спокойная тишина – и в ней все же чувствовалось биение жизни. Одинокому старому человеку, давно позабывшему все семейные радости, теперь снова истекший день посулил эти радости.
Борис Сергеевич окунулся в поток жизни, так или иначе, но все же бившей ключом в Знаменском доме, и, окунувшись в него, он почувствовал, что может приобщиться к этой жизни и сам, что найдется в ней и для него место.
Он уехал из Знаменского не только без того тягостного ощущения, с каким туда отправился, но этот день оказался для него большим праздником. Воспоминания детства и юности, от которых человек никогда не может совсем отделаться, наполняли его. Знаменское – ведь это была та жизнь, по которой он и сознательно и бессознательно тосковал в Сибири, среди совсем иной обстановки. И ему теперь было так отрадно, что даже не смущала его мысль о Катерине Михайловне, хотя он и сознавал, что не будь ее в Знаменском доме – там было бы еще лучше.
– Бог с ней, бог с ней! – шептал он.
Он думал о Сергее, он полюбил его в один день как родного сына; думал об его милой Наташе, о славных детях. Но вот пришлось подумать и о Мари. Она ему решительно не нравилась, она ему казалась теперь еще более неприятной, чем даже показалась в первую минуту. Но он остановил себя: «Быть может, я пристрастен, нужно от этого отделаться, нужно быть справедливым! Чем же, наконец, они-то виноваты!»
И все же он не мог отделаться от невольного враждебного чувства, которое вызвала в нем жена Николая и ее завитой и румяный, черноглазый Гриша. И еще менее того он мог отделаться от враждебного чувства, вызывавшегося в нем каждый раз, когда он думал о Николае.
«Как хорошо, что его нет, что он еще не приехал, что, по крайней мере, этого первого дня он не испортил».
Мало-помалу покачиванье коляски и окрестная тишина стали усыплять его. Он задремал и очнулся только у ворот горбатовского дома.
В Знаменском появление Бориса Сергеевича произвело большое впечатление. Даже дети были им заинтересованы. Еще во время послеобеденной прогулки дети оживленно и таинственно толковали о новом дедушке. Соня, Володя, Маша и Гриша чуть было даже не поссорились из-за этого нового дедушки. Маше и Грише он не понравился, а Соня и Володя были от него в восторге.
– У него такое доброе, красивое лицо, – говорила Соня, девочка очень живая, одаренная пылким воображением. – Я вот его точно, точно таким и представляла себе, даже во сне его таким видела.
– Вот и выдумываешь! – заметил Гриша. – Сама ты мне рассказывала, что он тебе приснился седой, с длинной бородой и большой-большой.
– Ну так что ж такое, он точно такой и есть.
– Как? Большой?
– Да, с длинной седой бородой, такой точно! – настойчиво твердила Соня.
Гриша презрительно пожал плечами.
– Да, большой, нечего сказать! Дядя Сережа вдвое его больше… И ведь известно, что ты, Соня, лгунья!
Он ей высунул язык и сделал гримасу.
Соня вспыхнула.
– Ты сам лгун, и я бабушке пожалуюсь, что ты дразнишься и гримасничаешь! – начиная уже всхлипывать, пропищала она.
– Да ведь это правда, Соня, – вступилась Маша, здоровая девочка, далеко не так красивая, как сестра, но все же с очень милым и задорным личиком. – Ведь это правда! Ты сама нам всем рассказывала, говорила «большой, большой!», а он маленький…
– Я с тобой совсем даже и не говорю! – окончательно озлившись, крикнула Соня и отвернулась от сестренки.
– Да полно же, как вам не стыдно! – вдруг проговорил до того времени молчавший Володя.
Этот Володя не был любимцем бабушки, не был любимцем отца, но зато был любимцем мачехи, «мамы Наташи», как дети часто ее называли. Володя был довольно странный мальчик, уродившийся, верно, в кого-нибудь со стороны своей покойной матери, потому что горбатовских черт в нем, по крайней мере, до сих пор не было совсем видно. Бледный, худенький, с рассеянными, как-то неопределенно глядящими, светлыми глазами, с прелестным серьезным ротиком, с широко раскрытыми, по временам вздрагивающими ноздрями – он производил впечатление чего-то своеобразного, загадочного.
В нем замечалась большая нервность и чересчур раннее умственное развитие. Иногда он поражал «маму Наташу» своими совсем недетскими мыслями, своими вопросами, на которые ей трудно, почти невозможно было отвечать ему, потому что он не удовлетворялся таким ответом, каким мог бы удовлетвориться другой ребенок. Он заставлял ее задумываться над ее обязанностями относительно него и начинал уже играть большую роль в ее внутренней жизни…
Он держался по большей части особняком, но иногда вдруг, под влиянием неудержимого порыва, примыкал к сестрам и двоюродному брату, оживлял их, выдумывал всевозможные забавы, рассказывал им какие-то странные истории, которые неизвестно откуда брались у него, заинтересовывал их этими историями, запугивал их даже, действовал на них как-то магнетически, так что они все находились под его влиянием.
Потом вдруг остывал, отделялся от них и начинал снова жить своей, никому не ведомой, таинственной жизнью.
Он был добрый мальчик, очень чувствительный, чуткий: но вместе с этим иногда в припадке внезапного гнева был способен прибить и сестер, и двоюродного брата, нагрубить гувернеру и гувернантке, нагрубить даже отцу, даже бабушке… В такие минуты только «мама Наташа» могла его, да и то не всегда, уговорить и привести в себя.
Дети его не любили и даже то магнетическое влияние, которое он имел над ними, было для них тягостно.
Весь этот день он был очень молчалив, ни с кем почти не сказал ни слова и только все пристально вглядывался в нового дедушку.
– Да перестаньте же! – еще раз своим тонким, властным голоском крикнул он. – Как будто не все равно: большой он или маленький! А знаете ли вы, что дедушка был сослан в Сибирь? Что он сидел в темнице долго-долго, что на нем были цепи?
Гриша, Соня и Маша раскрыли глаза и разинули рты. Этого они не знали.
– Кто тебе сказал? Откуда ты взял это? – в один голос, почему-то боязливо оглядываясь, прошептали они.
– Знаю, – спокойно и уверенно сказал Володя и так и не объяснил, откуда знает; но они ему поверили, как и всегда.
– Что же он такое сделал?
Володя пожал плечами, раздул свои тонкие ноздри и проговорил:
– Ничего дурного… Он был невиноват…
– Да кто же, кто тебе сказал все это?
– Я знаю! – опять таинственно произнес Володя, и дети больше ничего от него не могли добиться.
– Но ведь если он не был виноват, так, значит… значит, его приняли за другого! – вдруг рассудил Гриша.
– Может быть, не знаю! – рассеянно отвечал Володя и погрузился в задумчивость.
И не мог он из нее выйти во все время прогулки и потом, во время чая, и долго возился в своей постельке, решая какие-то трудные и важные вопросы. Он то и дело приподнимался, широко раскрывал глаза и оглядывал всю большую комнату, едва озарявшуюся светом ночной лампадки. Он как будто хотел и ждал увидеть что-то особенное.
Но ничего особенного не было. Направо, из-за полумрака, выделялась всклокоченная голова молодого француза, с его торчавшей белой эспаньолкой. Француз то храпел, то вдруг начинал скрежетать зубами. Это была его особенность во время сна. Володя ненавидел это скрежетанье, оно доводило его иногда до бешенства. С другой стороны была кровать Гриши. Гриша как лег, так сейчас же и заснул, и теперь лежал, разметавшись, с открытым ртом, мерно дыша, лежал во всей красоте здорового и уставшего за день ребенка…
Девочки тоже давно уже спали в своей комнате. Но прежде чем заснуть, они передали друг другу свои последние впечатления, вызванные приездом дедушки.
– А я думала, – сказала Маша, – вот приедет дедушка и привезет много-много игрушек…
– И я тоже думала, – тихонько ответила Соня, – я даже представляла себе, какие это будут игрушки; особенно мне хотелось маленькую, но, понимаешь, настоящую, самую настоящую кухню.
– А может быть, еще будут игрушки, как думаешь, Соня?
Соня подумала немного.
– Да, будут, наверно, будут; бабушка говорила, что у дедушки много, очень много денег. Подождем, он опять приедет…
Хорошенькая Лили, раздевавшаяся в это время и слышавшая их тихий разговор, подумала, что ведь нужно бы было внушить им, что думать о подарках и ждать их нехорошо; но вдруг ее мысли ушли в другую сторону, она чему-то тихонько про себя улыбнулась и ничего не сказала своим воспитанницам…
Старшие еще оставались несколько минут на балконе по отъезде Бориса Сергеевича. Они тоже думали о нем и говорили.
– Ах, как он изменился, какой старик, я бы его никогда не узнала! – произнесла Катерина Михайловна.
– Что же удивительного, – заметила Наташа, – ведь годы его немолодые, а жизнь какая была? Боже мой, на каторге, в ссылке, всю жизнь изгнанник… Потерял жену… Детей… Остался один на свете… Что же может быть ужаснее такой жизни? И еще надо удивляться, как он так бодр и свеж…
– Да, удивительно бодр и свеж! – сказал Сергей. – Глядя, каким гоголем он выступал с тобой под ручку в парке, никак нельзя было сказать, что это такой несчастный человек…
– Tu exagères, Natalie[9]9
Ты преувеличиваешь, Натали (фр.).
[Закрыть], – заметила Катерина Михайловна, – ведь у каждого в жизни потери, каждый переживает трудные минуты.
– Тут не минуты, maman, а годы…
– Э, друг мой, люди везде живут, и в Сибири, и на краю света. Ведь он рассказывал, как там у них хорошо было… и потом – привычка…
– Нет, это не то, совсем не то!.. – упрямо повторяла Наташа. – Совсем особенная, высшая жизнь, и я никогда еще не видала такого интересного человека…
– Ну да, совсем заобожала, как в Смольном у вас, – смеясь, проговорил Сергей, кладя руку на плечо жены, – институтка ты моя неисправимая! Вот Мари небось не видит ничего особенного такого в дяде и чрезвычайного?
– Конечно, – ответила до сих пор молчавшая Мари, – что в нем особенного – красивый старик… Насколько он умен – сразу судить нельзя, в особенности мне, так как он со мной почти двух слов не сказал. Вот одно в нем разве удивительно: как это, всю жизнь прожив в дикой стране, бог знает с какими людьми, он все же сохранил приличные манеры.
– Да, – усмехнулась Катерина Михайловна, – и я еще больше могу удивить тебя, представь – он теперь стал гораздо приличнее, он теперь гораздо лучше себя держит, чем в молодости, когда я его знала.
На этом кончился разговор о Борисе Сергеевиче. Все простились и разошлись по своим спальням.









































