Текст книги "Четвертый бастион"
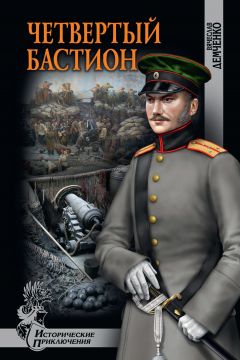
Автор книги: Вячеслав Демченко
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Планка за Севастополь подразумевалась, но должна была появиться только после падения этого города. Получить позднее учрежденную планку Sebastopol претендент мог только при наличии у него полной «коллекции» из трех других планок: Alma, Inkermann и Balaklava[35]35
Надпись воспроизводится, как и было на медали, с ошибкой, правильно же: BALACLAVA.
[Закрыть].
При этом до конца 1854 года никаких разговоров о планке Balaclava не шло. Даже сейчас нет полного и ясного ответа на вопрос, чем же стала Балаклава – символом самопожертвования или «смешением грубых ошибок, гордости и имбецильности», как выразилась газета The Times.
23 февраля 1855 года планку Balaclava таки утвердили, и, наконец, 31 октября 1855 года появилась самая массовая планка Sebastopol. Она предназначалась для тех, кто принимал участие в кампании с октября 1854 года по 9 сентября 1855 года.
2 мая 1856 года также появилась планка Azov, учрежденная только ради награждения моряков. Сама же Азовская экспедиция куда больше напоминала пиратский налет на неукрепленные приморские города с последующим грабежом.
Парламент Англии рассматривал также вопрос об утверждении планки Redan. Ею предполагалось награждать проведших всю кампанию с октября 1854 года в траншеях под Севастополем, под огнем русской артиллерии, не раз участвовавших в рукопашных схватках, но планка не получила утверждения. Вероятно, потому, что английское знамя так и не было победоносно поднято над бастионами, – напомним, что город был оставлен русскими войсками, но отнюдь не захвачен.
Для тех, кто прибыл в Крым, но ни в одном сражении не участвовал – эвакуирован по болезни, прибыл в Крым после завершения активных действий, активно участвовал в войне, но при этом не находился в Крыму, – были предназначены крымские медали без планок, но подобные медали «за понос»[36]36
Дизентерия была обыкновеннейшим явлением в экспедиционном корпусе и основной причиной госпитальной эвакуации.
[Закрыть] были столь непопулярны, что их владельцы старались всеми правдами и неправдами получить хоть одну «боевую» планку.
Авторами медали явились члены семьи знаменитых и талантливых граверов монет и медалей Англии – Вийоны. Аверс медали выполнил Вильям Вийон. Профиль молодой королевы был смоделирован им еще в 1834 году, когда будущая королева являлась принцессой пятнадцати лет.
С 23 января 1855 года – дня официального опубликования приказа № 638 – по 18 мая королева Виктория лично проверяла и корректировала списки награжденных. Перед намеченной на 18 мая церемонией вручения первых наград она посетила солдат и офицеров, которые по состоянию здоровья не могли присутствовать на официальной церемонии. Королева Виктория обошла всех, поблагодарила и лично вручила медали.
* * *
Мэри распахнула глаза, словно очнувшись от обморока.
– Награду? – Она закусила зубками маленький костлявый кулачок, будто решаясь на что-то. – Что ж, тогда и я… Я тоже…
Тонкие пальцы Мэри вдруг принялись суетливо расстегивать, почти рвать верхние пуговицы глухого лифа на коричневом платье. Ее порыв оказался так внезапен, что опешивший викарий даже не сразу спохватился отвести глаза. Блеснувшая в расстегнутом вороте запретная белизна кружев корсета затмила не только угрюмую Темзу, мокрое дерево корабля, но и вообще сознание молодого викария такой ослепительной вспышкой, что он не сразу опомнился, когда Мэри позвала его.
– Вот, отец Уильям, – позвала она уже вторично.
В ее узкой ладони отливал червонным золотом изящный медальон гербового вида, усеянный радужными искрами довольно крупных бриллиантов. Почти такие же сверкали в уголках глаз Мэри на слипшихся ресницах, но она смахнула их костяшкой пальца.
– Если даже королева находит его достойным награды, – дрожащим голосом произнесла девушка, – то странно, что мне до сих пор это не пришло в голову. Тем более что это будет не только признанием его воинских доблестей, но и вообще признанием.
Мэри зарделась, опустив глаза, и начала пристально следить за игрой света в огранке камней, чтобы не столкнуться взглядом со взглядом викария.
– Одним из бесчисленных моих признаний, что я произношу теперь в одиночестве, и… – продолжила она почти шепотом и запнулась, не находя нужных слов на страницах прочитанных ею романов, лихорадочно перелистывая их в уме: «Как там в „Прощании с Калькуттой“»?
– И самым драгоценным, – осторожно закончил за нее викарий, впрочем, имея в виду нечто иное. – Самым драгоценным вашим признанием на сегодня, – кашлянув, поправился он, перехватив недоумевающий взгляд Мэри, в котором читалось невольное: «Что вам за дело до моих обещаний?»
– Настолько ценным, – торопливо продолжил отец Уильям, чтобы успеть быть понятым правильно, – что я не уверен, поймет ли ваш отец такую жертву.
Мэри бросила на него исподлобья взгляд, в котором читалось детское предчувствие порки за проказу, но, видимо, пересилила себя и сказала твердо, насколько вышло:
– Разве я не вправе распоряжаться его подарком? Ведь медальон теперь мой.
И все-таки вновь посмотрела на ювелирный шедевр уже с неуверенностью, будто увидела его только что и впервые.
Медальон, виденный отцом Бейветом и раньше, был не слишком девический. Миниатюрный гербовый щит Раудов, инкрустированный бриллиантами и обрамленный золотыми змеями девятого легиона, выглядел слишком массивно для украшения, которое подобало леди.
Бог весть, отчего прадеду Джона-Ксаверия взбрело вести древность нормандского рода от римлян, что ничем не подтверждалось, кроме найденного на одном Мидлендском пастбище помятого бронзового шлема, и графом же заведенного устава давать потомкам S-имена из «Метаморфоз» Овидия (Мэри, например, по документам была записана как Мария-Лукреция). Соответственно, и вместо обычного рыцарского шлема с плюмажем, сверху щит медальона украшал гребень шлема легионерского, нажатием на который медальон вдруг «ах!» – открывался, являя вкладыш миниатюрной инталии в виде женской головки на сердолике, которую можно было использовать как печать на сургуче.
Головка разительно походила в оттиске на саму Мэри, отчего юной леди и пришло в голову отдать медальон для своего жениха. К тому же она и сама понимала, что не девице, а офицеру впору было носить такой медальон, отправляясь в дальние края и памятуя, что на далеком берегу Темзы ему все еще машет платком светлый прообраз печати, прерываясь только, чтобы высморкаться и посетовать:
– Ах боже мой, там же эти мухи… Как их… Фе-Фе? Фу-Фу?
– Цеце, леди Мэри. Но в Крыму их нет.
– Обещайте мне передать эту гемму лейтенанту Мак-Уолтеру, – наконец, не глядя, протянула Мэри раскрытую ладонь куда-то в сторону викария. – Пока он будет присылать мне письма с ее оттиском, я буду знать, что он не забыл меня.
– А ваш батюшка – сходить с ума от ярости, – заметил отец Бейвет укоризненно, нельзя сказать, чтобы безосновательно, поскольку женская головка, врезанная в гемму, была портретом вовсе не Мэри, но ее матери – графини Рауд, не дождавшейся отца с I афганской кампании. Поговаривали, что умерла она от анемии (малокровия), но старый граф почти религиозно веровал, что причиной ее смерти была тоска по бравому супругу. Пусть и в день свадьбы граф Рауд был уже не слишком молод, но часто повторял, замерев у портрета романтической особы в платье для верховой езды, окруженной борзыми:
– Мы не успели насладиться нашей молодостью. Мы едва вернулись из свадебного путешествия, как долг призвал меня.
Джон-Ксаверий повторял это и десять лет назад, и голос его срывался, а девочка, сунувши в рот палец, исподлобья, с сомнением разглядывала задорный персиковый румянец на женском полупрофиле тонкого рисунка – точно как на камее.
Этот розовый перламутр плеч, оголенных по моде, и все тот же сочный живой румянец – всегда казались маленькой Мэри совершенным враньем. Никакими другими красками, кроме восковой желтизны, не была раскрашена тщедушная фигурка, терявшаяся в складках постели в материнском будуаре, почти всегда для Мэри запертом. Это, пожалуй, все, чем запомнилась дочери ее матушка – графиня Элизабет Рауд.
Девочка была отдана на попечение тетушки, сварливой, но доброй старухи, заботившейся лишь о чистоте кружев на панталончиках Мэри и о бескомпромиссно доеденном завтраке – порции порриджа (овсянки) величины поистине фуражной. Что касается остального, то юная леди была предоставлена своей мечтательности и трудам французской бонны, призванной сделать из воспитанницы знакомое графу продолжение романтического века.
Впрочем, труды эти казались едва ли не сизифовыми, поскольку сама сорокалетняя «мадемуазель» все время пребывала в тумане ненависти. Бонна попеременно влюблялась то в скучающего оксфордского студента, этакого бессловесного Байрона, то в мальчишку-разносчика, то в отца его, усатого констебля, мужчину вполне практического, которых она после, отряхивая солому, равно всех презирала, чему и учила свою воспитанницу, скоро сделавшуюся наперсницей ее презрения к самому запаху «Кельнской воды». Такая вот предтеча suffragism[37]37
Движение суфражисток (от suffrage – избирательное право), потребовавших избирательного права для женщин к концу века.
[Закрыть].
Что ж удивительного, что к восемнадцати летам Мэри, которой не терпелось дать отпор какому-нибудь подлому существу, вынашивающему под модным цилиндром планы по ее соблазнению, – влюбилась в первого же такого «шляпного болвана»[38]38
Как-то похоже английские шляпники называли соразмерные болванки, на которые надевались шляпы в процессе изготовления.
[Закрыть]. И как-то вовсе забыла извести его неприступностью, изнурить холодностью и иссушить насмешками, которых она выдумала на измятой девической подушке уже сотни. Вместо того чтобы высушенную шкуру змея-искусителя бросить в жертвенный огонь отмщения, она сама теперь всходила на жертвенник – так живо ей представилось лицо отца, когда он обнаружит, что его подарок пропал. И не просто подарок, а символический дар в честь восемнадцатилетия дочери, ведь именно столько лет было матери, когда состоялась свадьба.
Старый «сухарь из армейского ранца» – как любил говорить о себе полковник Рауд, обыкновенно уже размоченный бренди или виски, – частенько показывал знакомым медальон. При этом Джон-Ксаверий полагал за обязательное если не всплакнуть самому, то истребовать искреннего сочувствия у окружающих. Для самой же Мэри собственное восемнадцатилетие и отцовский подарок не имели того особенного значения, ведь ей для того, чтобы выйти замуж за Рональда Мак-Уолтера, не спрашивая разрешения отца, должно было исполниться двадцать один.
На поверку викарий Бейвет оказался куда осмотрительнее леди Мэри. Ценность медальона заставила священника возражать, ведь он знал – причем слышал из уст самого графа – о том, что часть его (графского) сердца хранится в золотом корпусе… Сделанном, кстати сказать, придворным ювелиром афганского эмира Шуджи-Шаха для геммы… Вырезанной, кстати сказать, в Париже по рисунку с натуры самого Домье во время свадебного путешествия.
Иногда создавалось впечатление, что саму Элизабет Рауд, чей гравюрный портрет на огненно-оранжевом сердолике хранил медальон, граф помнил едва ли лучше Мэри, но общую сумму, потраченную на изготовление медальона, помнил так же хорошо, как и самое героическое свое предприятие I афганской кампании.
Леди Мэри, разумеется, не знала ни суммы, ни происхождения бриллиантов, но, памятуя трепетность старого графа, с которой, иногда попросив ее снять, он брал в дрожащие руки медальон, даже поежилась.
И все-таки…
– Там он будет на том месте, где ему и должно быть, – возле моего сердца. А мое сердце сейчас не со мной, а с Мак-Уолтером, – подытожила Мэри на одном дыхании. – По крайней мере, пока он не вернется.
Если вернется.
Уверенности в этом не было сейчас, спустя месяц, и у самого баронета.
Севастополь, март 1855 года,
Мачтовый (по-нашему IV) бастион
К тому времени главнокомандующему французской армией генералу Канроберу, должно быть, уже порядком надоело отдуваться всю зиму за двоих, за англичан то есть, – поскольку башибузуки Омара-паши если и учитывались генералом, то только в качестве тягловой силы, наравне с прочим гужевым скотом. Потому, обнаружив, что после того, как русские вышибли войска осадного корпуса Форе из ложементов перед IV бастионом, но сами их практически не заняли – лишь саперный батальон копошился в ложементах, в прах разнесенных циклопической миной, – Канробер затребовал помощи союзников. В конце концов, изначально, до того вполне извинительного случая, когда английский корпус драматически вымер и издох (касательно лошадей кавалерии), это была их позиция. Они возвели на Зеленой горе первую батарею супротив бастиона.
Что-то, видимо, стряслось и у лорда Раглана, который после Балаклавских потерь, в общем-то, уже и не решался так безрассудно расходовать боеспособные соединения. Однако в ночную атаку он послал едва ли не лучшее, что у него оставалось, – бригаду шотландских егерей Колина Кэмпбелла.
Оглохшая после дневной канонады, ночь в первых числах марта все еще сохраняла морозную прозрачность и ясность крупных сапфировых звезд. Иссиня-черная бездна неба, вопиявшего о величие и красоте творения, взирала на грешную землю, погрязшую в порочных своих страстях до отвращения к самой себе.
Позади шотландцев, отправленных лордом Рагланом на дело, горели костры I французской параллели, где, должно быть, по обыкновению, зуавы варили кофе в медных котлах для соратников, мерзнувших в аванпостах. Впереди перемигивались факелы и лампы русских саперов, мелькавших в порушенных ложементах перед Мачтовым (IV) бастионом с таким проворством, что никто уже и не пытался им помешать, хоть от французских траншей до стен бастиона оставалось не более ста шагов. И, как стало обычным, что-то неугомонно и неуемно горело в самом Севастополе, выделяя красноватым фоном черный профиль здания, как говорили, Морской библиотеки, сохранившей античное благородство, несмотря на коррозию от современных бомбических снарядов.
Было довольно промозгло, но – даже не подозревая, что в какой-то мере повторяют традицию русских солдат надевать перед сражением чистые рубахи, – шотландские горцы оставили в лагере теплые гамаши, к которым пришлось прибегнуть в этой далекой северной стране Крым (Crimea). Так что крепкие, с рыжим волосом, коленки лейтенанта Мак-Уолтера подбивали крупные складки килта черно-синего тартана[39]39
Плотная шерстяная ткань в особую, отличную для каждого клана, клетку.
[Закрыть] – в отличие от зелено-синего у коллег из 42-го полка Black Watch, отличившихся, в свою очередь, под Инкерманом.
Из мрака неслышно вынырнула мешковатая, но проворная – будто и впрямь лев из африканской саванны – фигура зуава. Должно быть, с французского аванпоста навстречу им выслали наблюдателя. Горцы, чью военную форму и саму-то никак нельзя было назвать традиционной, встретили его появление сдержанными улыбками и толчками локтями в бока. О том, что никаких африканцев в корпусе зуавов и в помине не было, они уже знали. Тем занятнее смотрелся отчаянный парижский сброд в красных шароварах с мотней ниже колен, вышитых куртках и в фесках, будто дикий нехристианский народ.
Равно как в Иностранный легион, в зуавы брались человеческие отбросы со всей Европы, что не мешало им дивным образом и довольно скоро превращаться в солдат отчаянной отваги и исключительной дисциплины.
Зуав, хоть и француз, но когда-то живший в Ливерпуле, смог пояснить на вполне сносном английском, что траншеи, указанной на вчерашней карте и подбиравшейся к ложементам вплотную, уже нет. Русские не поленились зарыть, но есть подходящий овражек, прорытый не столько дождями, сколько ядрами и бомбами.
– Вот тут, – зуав уверено и бесцеремонно указал во тьму бриаровой[40]40
Бриар – древовидный плотный нарост между корнем и стволом кустарника семейства вересковых (Erica Arborea), произрастающего в Средиземноморье. Хорош как материал для трубок тем, что при зрелом возрасте древесины он жаропрочен, тверд и стоек к воздействию табака.
[Закрыть] тыквочкой трубки, отмахнув из нее рой золотых искр. И ничуть не смутился пули, мгновенно прилетевшей со стороны русского бастиона и едва не выбившей трубку из его руки.
Пуля, жужжа, унеслась в ночь невидимым свинцовым шмелем, но заставила нескольких горцев, из числа вновь прибывшего пополнения, ей поклониться, махнув красным хаклом гленгарри[41]41
Отличительное перо (хакл) на головном уборе военных (гленгарри) – красное у полка Black Watch.
[Закрыть].
Прочие же даже не шелохнулись.
Такой обмен пулями штуцерников был уже сродни приветствию между траншейными и бастионными обитателями и был больше соревнованием в меткости, чем способом истребления неприятеля. Вот и сейчас на русское «бди, тля!» с французской параллели гавкнул в ответ штуцер Тувенена «бон суар!».
Пули Менье и Тамизье разминулись в полете. Обе французского происхождения, но первая, после русской перековки-переливки, полетела «к своим», а другая свистнула на Мачтовый, как говорили союзники, бастион.
IV (для союзников – Мачтовый) бастион
– Ото ж, тля, не спи, – добродушно проворчал Левко, рядовой 8-го батальона черноморских пластунов, сползая с бруствера батарейного траверса[42]42
Траверс – земляная насыпь, защищающая от огня противника с флангов или с тыла.
[Закрыть], и первым делом натянул поверх рубахи драную черкеску.
Дрань оно дрянь, конечно, но продрог изрядно, пока «вылеживал» свой выстрел. А в замызганной черной сорочке только по срам, хоть и вовсе «сраму лишишься» от холода, но все как-то поспокойнее, не так приметно, особенно если взять в уме, что точно такой же охотник может отсиживаться в темноте где-то совсем подле. До «француза» ж рукой подать – полста саженей, не боле.
Левко оглянулся в пушечном дворике.
– Дайте-ка прикурить, братцы! – заторопился он, выуживая из кармана черных же штанов свою казацкую люльку – простецкую глиняную, но с такой загогулиной, что за усы боязно. Заторопился, потому как увидел – кондуктор[43]43
Воинское звание нижнего офицерского чина.
[Закрыть] под могучей тушей корабельной пушки усердствует кресалом.
Седоусый матрос со своей ореховой трубкой в зубах, не отвлекаясь от клацанья медным рычажком кресала и не выпуская мундштука из зубов, прогудел что-то невнятное, будто в жерло своего двухпудового[44]44
248 мм корабельная бомбическая пушка образца 1833 года. Длина ствола – 10 калибров, дальность стрельбы – 5 км.
[Закрыть] орудия аукнул. Сердито так.
– Шо? – озадаченно переспросил Левко, даже перестав набивать большим пальцем свою люльку.
Лицо кондуктора, в очередной раз показавшееся в свете искр печеной луковицей, выражало хмурое равнодушие. Он, наконец, втянул пучок искр в чашечку трубки, пыхнул их обратно, но уже с белесым дымом, и произнес внятно, но вяло:
– Коли третьим подкурить не боишься, изволь к столу.
– А шо бояться? – пожал плечами пластун, хоть и покосился на мощное плетение канатного «воротника», насаженного на дуло пушки, точно жабо, – так, чтобы никаких зазоров между жерлом и амбразурой не оставалось.
– Армейские, – снисходительно проскрипел кондуктор. – Без понятия, – и позвал кого-то во тьму. – Кузьма?
Тотчас откуда-то сверху, с борта, со змеиным шелестом соскользнул матрос в сером бушлате с двумя рядами медных пуговиц.
– Этот с понятием, – заступился он за пластуна, беря из рук артиллериста трубку, чтоб подкурить. – Я тут сигнальный, давно смотрю, как ты черной кошкой в чулане оборотился. Молодца. Ты вот «француза» за что сейчас ухватил?
– За табачную искорку, – нарочито угрюмо буркнул Левко, придавая солидности к молодости азарта. Впрочем, добавил тут же, справедливости ради: – Правда, что упокоил – не побожусь, развеяло.
– О! – дидактически поднял палец старый кондуктор, должно быть, начальник здешней крюйт-камеры. – Вот отсюдова и у нас поверье: «Третий не прикуривает!»
– Чого це, дядьку? – растеряв от удивления важность, перешел на украинский говор Левко.
– А вот чего, – с удовольствием подхватил сигнальщик Кузьма, должно быть, порядком ошалевший от одиночества и напряженной тишины наблюдения. – Вот, смотри, первый матросик трубочку раскурит, а англичанин уже заприметил. Они, вишь, поглазастее француза будут. Матрос другому подкурить дал, ан англичанин уже курок-то взвел, – Кузьма указующе помахал трубкой куда-то поверх толстых канатов «воротника». – Третий токмо подкуривать, и р-раз!
Пуля с топорным звуком тюкнула в «воротник».
– Ах, ты! – отдернул руку Кузьма.
Левко заржал – подлинно конь платовский. Не удержался хриплого смешка и старый кондуктор:
– Ах, ты! Эх, ты… учитель.
Наконец, храбрясь и оправляя ремни патронной и капсюльной сумок, улыбнулся и сигнальщик.
– Чей-то они сегодня, как с цепи, – он вдруг замер, прекратив свою возню с амуницией, и спросил пластуна рассеянно, будто вдогон какой-то внезапной мысли: – Говоришь, летели искорки-то?
– Известно, летели, – подтвердил Левко. – На ходу ж.
Он вдруг заподозрил, что кто-то усомнился в его «выстреле» – был ли в нем толк и прок какой, – и заторопился. – Я ж тому и кажу, что за попадание не уверен.
– Лезь-ка ты, Кузьма, вспять, – перебил его, тяжело и скрипуче подымаясь, старый кондуктор. – Да гляди, как будто Парашку на сеновал выглядываешь, а я похромаю до Пал Сергеича. Не ровен час, и впрямь.
– Чего там «ровен не ровен»? – вновь удивился Левко. – Известно, идут. Уже до старой аглицкой траншеи и дошли.
– Ах ты, душа сухопутная! – вдруг по-старчески обыкновенно, но теперь немощно и безо всякой солидности заквохтал старый кондуктор. – А чего ж ты тут байки травишь?! Надо ж рынду бить!
Вдругорядь ошалевший, в этот раз – от незаслуженных обвинений, Левко обиженно возразил:
– Та я ж думал, вы все знаете. Вы ж люди ученые, у вас тут, он, по науке все, – возвращая обвинения, он обвел рукой огромные пушки, зарядные ящики, лафетные винты и пирамиды мудреных бомб. – Баталеры, кондуктеры, человека простого не сыщется. А я шо, я человек простой, неписьменний, казакую, как деды казаковали. Землю слушаю, сакму, – все бубнил стрелок на выбор[45]45
Стрелок на выбор – своего рода вольный стрелок, вольный в выборе мишени – офицеров, вестовых, артиллеристской прислуги.
[Закрыть], возвращаясь, чтобы отыскать новое «гнездо» для своего смертельного «выбора». – Она ж, сакма, сама гудит-говорит. Идут, говорит. Може, два батальйони йде, може, весь полк.
NOTA BENE
Волчья пасть да лисий хвост
Вообще свойственное славянам пренебрежение формальностями, даже такими строгими как воинский устав, особо отличали «пряничное войско России», то есть черноморских пластунов, а вернее говоря – разведчиков или если уж совсем близко к истине, то диверсантов.
Об этих воинах слагались песни и легенды, в XVIII веке татары называли их урус-шайтан, свои – пластунами. Может, потому, что зачастую им приходилось часами неподвижно лежать пластом, слившись с землей, и вести наблюдение? Или же назвали их так за способ скрытного перемещения, ведь украинское «плазувати-пластувати»[46]46
С твердым і на конце («Ы» в русской орфоэпии).
[Закрыть] и означает «ползти на животе»?
История пластунов на государевой службе началась в 1787 году. За заслуги в очередной Русско-турецкой войне и для охраны рубежей империи, впрочем, и по просьбе самих запорожцев, они по указу Екатерины II от 30 июня 1792 года переселились на Кавказский кордон и стали Черноморским казачьим войском. Здесь, в предгорье, запорожцы нашли не только степи и плавни, как на Днепре, но и новых врагов, как в Диком поле.
Северный склон Кавказа и равнина за Кубанью были заселены воинственными горскими племенами, известными под общим названием черкесов. Науськиваемые турецкими имамами, они под зеленым знаменем газавата стали разорять казаков набегами, угоняя людей, стада, выжигая поля. Любя свою свободу и ни во что не ставя свободу другого, абрек[47]47
Вообще-то бандит, но в понимании горца – герой. Справедливости ради – столь же сомнительный борец за веру, как и сами запорожские казаки, немало промышлявшие откровенным разбоем.
[Закрыть] темной ночью или туманным днем пробирался на русскую сторону, уничтожал, резал-жег все и вся, что или кого нельзя было утащить с собой. Разбой воспевался как геройство, спокойная жизнь презиралась, клятвы о мире с «гяурами» мало чего стоили.
Для успешного отпора такому врагу казакам пришлось с ходу овладевать принципиально новой тактикой – не гнаться за противником на лихих конях степью, а сделаться пешими следопытами в нескончаемых плавнях, воевать малыми силами. Ясно, такого рода практика не могла быть подчинена какому-то уставу или контролю, и потому пластуны изначально были предоставлены собственной изобретательности, действовали на свой страх и риск.
Отсюда и оригинальная тактика пластунов, называемая «волчья пасть и лисий хвост», так или иначе связанная с понятием сакмы.
Здесь это тюркское словцо, буквально означавшее «след человека или зверя», понималось куда шире. Еще запорожцы «слушали сакму», прислонив ухо к земле и слыша гул копыт татарской орды, говорили: «сакма гудэ». Пробираясь тайными тропами в плавнях, пластуны тоже читали сакму, как книгу, чутко прислушиваясь к звукам, присматриваясь – о передвижении людей заявляли всполошенные птицы, вражескую засаду выдавали тучи клубившейся мошкары.
Там, где обе противоборствующие стороны хитры и отважны, часто исход дела решало то, кто ранее возьмет чужой след или, наоборот, искусно спрячет собственный, иначе говоря, кто лучше «слушает» или «путает сакму». А путали – петляя, идя вперед спиной и прыгая на одной ноге. Искусство растворяться на местности, чуткое ухо, зоркий глаз и точный выстрел заменяли пластунам численное превосходство. А уж стрелками пластуны были такими, что поражали цель в полной темноте, молниеносно стреляя на ржание лошади, вспышку выстрела, всплеск в камышах, как говорили сами – «на хруст».
А ежели и не «на хруст», а в открытом бою, то, к примеру: 13 сентября 1854 года, на четвертый день пребывания в осажденном Севастополе, 120 пластунов под Балаклавой уничтожили тактикой «прохождения сквозь конный строй» два французских полуэскадрона, рассеявшись по полю и не спеша перестреляв всех мчавшихся на них кавалеристов. После боя еще шутили: «На Кавказе и не такие рубаки, как эти, и сабли там получше, но мы не помним такого, чтоб пластун со штуцером в руках и вдруг был изрублен в бою».
Даже французский главнокомандующий маршал Сент-Арно сетовал: «Какие-то казаки парализуют осадные работы, поголовно выбивая прислугу штурмовых батарей».
Русский же главком князь Горчаков отметил в приказе: «Служение пластунских батальонов при блистательной храбрости выходит за черту обыкновенных военных заслуг».
Сами же пластуны особого героизма в своих действиях не видели: «Хвалили нас в Севастополе бог весть за что. А мы привыкли службу нести ровно и сроду промаха не давали».
Одевалось «пряничное войско» как горцы, причем самые бедные, – в черкесский бешмет, изодранный и кругом латанный. На голове – вытертая папаха, в знак беззаботной лихости заломленная на затылок, а на ногах для бесшумной ходьбы – мягкие чувяки из кожи. Для пущей маскировки носили бороды. От прочих казаков отличались как платьем, так и походкой – ходя неуклюже, как бы нехотя, сурово глядя из-под нависших бровей. Таков был пластун и на Кубани, и в Севастополе, и на Балканах. При себе у него всегда был верный дальнобойный штуцер с деревянным набойником, кинжал и разные причиндалы: пороховница, сумка с пулями, пара гранат, огниво, отвертка, масленка, шило, запас сухарей, котелок. Порой брали в поход балалайку или скрипку. В плен не сдавались, раненых не бросали, павших хоронили на месте или уносили с собой.
В качестве ответного комплимента Сент-Арно можно сказать, что подобной военной искусностью и оригинальностью среди союзников могли похвастаться разве что французские зуавы, прошедшие выучку в песках Сахары не худшую, чем пластуны в кубанских плавнях.
Мачтовый (по-нашему IV) бастион
Шли молча, маршевым шагом (мало чем отличным, правду сказать, от британского строевого), и даже придерживали, чтоб не звякали, традиционные sporrans – кожаные кошели на звонких цепочках, отделанные кисточками и служившие у кого вместилищем личного скарба, а у кого и капсюльной сумкой, чтобы под рукой была и не таскать с бедра штатную. А то пока вспомнишь в горячке боя – где там капсюли, где патроны, где пули к ним.
Может, именно эти белые помпончики конского волоса в три ряда по три и выдали в темноте почти неслышно подкравшуюся колонну стрелков?
Уже можно было, выглянув из оврага, не только увидеть юркие фигурки и тачки русских саперов в неровном свете ламп, закрытых колпаками в сторону неприятеля, но и услышать их голоса и скрип колес. Уже к шотландцам присоединился полк легкой пехоты, как определил Рональд по черным киверам с белыми помпонами, и полк зуавов, совершенно переставших привлекать внимание горцев своим мусульманским нарядом.
Оба эти полка подошли слева, с французского крыла. Офицеры уже сошли с лошадей. После короткого совещания было послано за ракетчиками, и через минуту те явились со своими станками-треножниками и ящиками снарядов.
Вот осветительные ракеты сорвались с направляющих и, раздраженно шипя, взлетели, казалось, в самое средоточие Млечного Пути. Еще мгновение, и они лопнули, залив все дрожащим трепещущим белым сиянием, после чего лейтенант Рональд Мак-Уолтер, командир третьего батальона 93-го шотландского полка, вдруг почувствовал, как не только волосы, но и бакенбарды на его широких скулах зашевелились. Рука его как-то невольно поползла к вороту мундира, нащупала гербовый рельеф медальона Мэри Рауд – с февраля, как вещь привез викарий, это стало у Мак-Уолтера если не заклинанием, то привычкой.
И было отчего схватиться за амулет. Прямо перед шотландцами, в полусотне шагов, грозно, неподвижно и беззвучно – точно не толпа людей, а сборище серых надгробий в белых косых крестах – стояла колонна русских пехотинцев.
NOTA BENE
За сто лет до «катюши»
Использование боевых ракет, причем не осветительных только, а именно боевых, несших серьезные артиллерийские снаряды, во время Крымской войны было массовым и обоюдным. Для России диковинного в этом было не больше, чем в пароходах и паровозах, а уж практика была едва ли не большей, чем у союзников.
Практиковались у нас ракеты ученого и изобретателя генерал-лейтенанта (с 1861 года) Константина Ивановича Константинова. В 1840–1844 годах он был командирован за границу «для собрания полезных сведений, до артиллерии относящихся». Во время этой командировки Константинов делает первое изобретение – электробаллический прибор. В его создании молодому офицеру помогали Ч. Уитстон – один из владельцев лондонской фабрики музыкальных инструментов и изобретатель физических приборов, – а также Луи Бреге – владелец фабрики точных механизмов в Париже.
После возвращения в Россию в 1844 году Константинов начинает заниматься систематическими исследованиями ракетной техники, и первый его вклад в эту область был поистине пионерским – ракетный баллистический маятник для измерения тяги порохового двигателя.
В 1849 году Константинов назначен был начальником Охтинского капсюльного заведения, и в дальнейшем деятельность Константинова была почти исключительно посвящена улучшению боевых ракет. С 1850 года проводит опыты с боевыми ракетами с целью увеличения дальности полета и кучности падения. Исследовал вопросы оптимальных параметров ракет, способы их стабилизации в полете, способы крепления и отделения на траектории головных частей ракет, составы ракетных порохов.
5 марта 1850 года Высочайшим указом полковник Константинов назначается командиром Санкт-Петербургского ракетного завода, первого в России промышленного предприятия по производству боевых ракет. В 1853–1855 годах ракетное заведение под руководством Константинова изготовило не одну тысячу боевых ракет для нужд Крымской войны по его (Константинова) технологии, за что ему было объявлено «монаршее благоволение».
Севастополь,
в Греческой слободе
В глазах Машеньки блестела слеза, горло перехватило.
Юлия, похоже, не видела ее из-под опущенных ресниц. Чайно-карие глаза бенефициантки публичного дома всегда казались полуприкрытыми, но то была не притворная томность, а скорее желание самой выбирать, чье лицо ей видеть, а чье не замечать вовсе. Сейчас Юлия сжала губы, но трудно было сказать – сердится ли она на что-то или едва сдерживает улыбку.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































