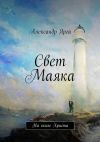Автор книги: Вячеслав Рубский
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Вера в существование Бога
Экзистенциальный мыслитель начала XX века Лев Шестов писал: «Каждый метафизик гораздо более озабочен тем, чтобы убедить себя, что Бог существует, чем самим существованием Его. Раз он уверовал, с него этого вполне достаточно, хотя бы оказалось, что он ошибается. Он нашел утешение – большего он и не искал. Иначе он бы понял, что то обстоятельство, что он верит, нисколько не служит доказательством реальности объекта его веры. Он бы понял, что вовсе и не важно, верит ли он или не верит, что весь вопрос только в том, существует ли высшее сознательное начало или мы, живые люди, являемся вечными рабами и данниками мертвых законов необходимости?» (Апофеоз беспочвенности. 2, 41). Да, вера в Бога как Высшее, Мудрейшее и Добрейшее сама по себе уже хороша, полезна и приятна, даже если бы Бога и не было. Поэтому Шестов говорил, что даже трепетная вера нисколько не служит доказательством реальности Бога.
Вера в существование Бога имеет свою отдельную (утешительную) ценность. Такая вера не нуждается в практике Бога. С точки зрения экзистенциалистов, верующие этого типа останавливаются на полпути потому, что Сам Бог не равен утешению. В этом значении вера в Бога становится опиумом для народа, духовной жвачкой. А молитва, созерцание, покаяние и все то, что раскрывает Бога, оказывается излишним для адептов религии утешения.
Но Бог есть нашатырный спирт для человека, Он желает его пробудить от такой веры.
Вера и неверие как маркеры
Некогда Иисус, несколько снимая пафос веры, сказал апостолу Фоме: Ты поверил, потому что увидел Меня (Ин. 20: 29). Но возможна ли вера вслепую? Существуют ли люди, которые веруют в Бога, но никак не «видели» Его? Да, существуют и проповедуют. Имеют ли они преимущество перед теми, кто «видел», то есть переживал присутствие Бога, Его обращенность к себе лично? Нет.
Если мы верим по факту Встречи с Ним (апостериорно, из опыта), то и те, кто не верят, поступают так же. Тот, кто встретил Бога, свидетельствует о Встрече, кто не встретил, свидетельствует о ее отсутствии или даже принципиальной невозможности.
Если блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20: 29) относится к тем, кто не видит, но предполагает (вера-предположение), то и эта вера стоит на тех же основаниях, что неверие (с единственным отличием: атеистами сумма предпосылок о бытии Бога не расценивается как достаточная). Таким образом, вера и неверие равно укоренены в природе познания. И атеисты, и теисты по одним и тем же принципам приходят к вере и отрицанию веры.
Традиционная идентификация верующий/неверующий слишком поспешна, схематична, поверхностна. В Евангелии мы находим фразы типа: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3: 36) или Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк. 16: 16). Но сегодня такие суждения кажутся слишком категоричным упрощением, так как не учитывают внутренней мотивации веры и неверия. Многие «верующие» руководствуются прагматическим принципом выгоды и страха, а «неверующие» – высшими идеалами смысла, чести, свободы и т. п., поэтому идентификация верующий/неверующий не является удовлетворительной. В качестве идеологического маркера она работает хорошо, но на религиозном уровне с ней были проблемы с самого начала. Потому Иисус связывает Своих последователей не верой, а любовью. Апостол Иоанн делает критерием христианства именно любовь к Богу, а не веру: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4: 16); будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (1 Ин. 4: 7). А кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец (1 Ин 4: 20).
Итак, если мы хотим продолжать пользоваться категориями веры/неверия, то должны значительно углубить эти понятия.
Поклонение поклонению
Религия масс всегда представляет собой лишь пиетет, благоговение, охранение и имитацию традиционных форм богопочитания. Это – поклонение поклонению, для которого формы и традиционность важнее содержания. Обыватель способен уловить сакральное измерение, но не способен распознать Бога, одним из свойств присутствия Которого является эффект переоценки ценностей. Неспособному распознать Бога остается только поклоняться самой сакральной форме, и потому его поклонение по сути не отличается от любых других актов обнаружения сакрального что в язычестве, что в исламе, иудаизме, христианстве… В причастном типе христианства поклоняющийся Богу не поклоняется более ничему (Ин. 4: 21, 23). Этот тезис Иисус уравновесил поклонением человеку: познавший Бога уже не разменивается на фетиш, символ и аллегорию. Иисус вводит эту практику Самим Собой в Воплощении: познавший Бога может поклониться Ему в человеке, так как Бог усвоил Себе человечность. Дети Божьи могут принять от Христа омовение ног как от равного, чтобы уничтожить всякую вертикаль. Сопротивление Петра в сюжете с омовением ног было сопротивлением человека старой формации.
А те, «кому не дано», не столько верят в Бога, сколько верят в веру в Бога. Карл Саган как-то рассказал притчу «Дракон у меня в гараже»:
«– У меня в гараже живет огнедышащий дракон!
– Покажи мне, – говорите вы.
Я веду вас в свой гараж. Вы осматриваетесь и видите лестницу, пустые банки из-под краски и старый трехколесный велосипед. Дракона нет.
– Где дракон? – спрашиваете вы.
– А, он прямо здесь, – отвечаю я, помахивая в воздухе рукой. – Я забыл предупредить, что это невидимый дракон.
Вы предлагаете разбросать на полу гаража муку, чтобы обнаружить его следы.
– Хорошая мысль! – говорю я. – Но этот дракон всегда парит в воздухе.
Затем вы решаете использовать инфракрасный датчик, чтобы обнаружить невидимый огонь.
– Хорошая мысль! Но этот невидимый огонь также и не жгуч.
Вы хотите распылить на дракона краску и сделать его видимым.
– Хорошая мысль! Но это бестелесный дракон, и краска не прилипнет.
И так далее. На каждое ваше предложение о физическом эксперименте я отвечаю особым объяснением, почему он не даст результата».
Итак, данный персонаж верит в возможность веры в Дракона, а не в самого Дракона, так как предупредительно представляет того то невидимым, то проницаемым и т. д. Что делает такую «веру в Дракона» возможной? Причина в том, что сам акт веры имеет удовлетворительную оценку в нашем сознании. Вера упорядочивает, утешает и т. п. Но сам предмет веры остался не принят. Потому почитается только психологический акт веры и ее материальные формы.
Реальность человеческого сознания намного сложнее актов веры или неверия. Если продолжать пользоваться этой терминологией – мы и верим, и не верим одновременно. Классический парадокс Джорджа Мура («за окном идет дождь, но я в это не верю») разрешается тем, что «верю» и «не верю» относятся к разным объектам: акту веры и Богу. Таким образом, обвинение Карла Сагана в скрытом неверии остается значимым только для верующих, поклоняющихся поклонению (т. е. традиции и идеологии).
Суть парадокса Дж. Мура: невозможно верить в то, что небо одновременно совершенно синее и совершенно зеленое, – непонятно, во что именно надо верить? Здесь отвергается вера в веру, а не само синее/зеленое небо. Можно, как это делают физикалисты, верить в то, что нет свободы воли, и не верить в это одновременно. Когнитивист Дэниел Деннет называет это «верой в убеждение».
Плюс ко всему карты путает система ценностей: верующий в убеждение не может себе в этом признаться, так как ценностью считается не «верить в веру», а «верить в Бога». Если человек не может провести различия между этими понятиями, значит, его вера есть следствие аксиологической предпосылки о добродетельности веры, то есть вера в веру.
Для того чтобы правильно оценивать компоненты веры, мы должны различать:
1) восприятие Бога;
2) желание Бога;
3) желание верить в Бога по той причине, что это добродетельно;
4) любовь к эмоциональным и рациональным обоснованиям своей веры.
Раскроем эти четыре пункта. Ценность феномена восприятия Бога основывается на нем самом. Он не нуждается в дополнительных обоснованиях для себя и других – как боль в своей реальности для субъекта не нуждается во внешнем подтверждении. Мы не приходим к понятию Бога через сумму других знаний, это первичная данность нашей интроспекции, наподобие свободы воли, о которой также давно идут дискуссии.
Желание Бога само по себе располагает к имитации восприятия Бога, к символическому принятию желаемого за действительное. Это и есть основной фактор, порождающий имитационный тип христианства со всей его тяжеловесной атрибутикой, символикой и условностями.
Желание верить в Бога есть еще более удаленная модель реализации жажды Бога. Всякий человек хочет быть добродетельным. Считая веру в Бога добродетелью, он стремится веровать и усваивает все внешние проявления веры, особенно же охотно – негативного свойства (возмущение попранием веры). Приведу несколько примеров различения желания предмета и самого предмета. Например, христианин такого типа желает истолкования Священного Писания, но от чтения толкований он быстро устает, потому что ему нужно удовлетворение желания, а не само истолкованное Писание. То же и с трудами святых отцов: мало кто их читает, но все любят идею «читайте святых отцов!». То же с канонами и догматикой: мало кого увлекают догматические труды, но идея догматической точности и канонической правильности нравится почти всем.
Любовь к эмоциональным и рациональным обоснованиям своей веры часто выступает как фундамент христианской идентификации. Пафос великого дела, красота христианских тезисов о любви, всепрощении и т. д. сами по себе приятны для сознания. Человек стремится стать частью грациозной и мощной православной традиции. Ее неотъемлемым компонентом является исповедание Бога, вера в Него, соблюдение уставов и обычаев. Для такого типа христианства эти составляющие равны между собой, так как являются лишь условием принадлежности православию как наиболее фундаментальному и гармоничному основанию жизни.
О вере в Бога
Существует ли Бог? Усвоившие, Кто Он такой, усвоили и то, что Бог глубже нашей рационализации. Для остальных Он или существует, или нет.
Мы, православные христиане, в разной степени верим в Бога воплощенного. Если Бог прописан только в храме или таинстве, это хорошо, но лучше, чтобы Его воплощение достигло и улицы, и прохожего, и осенних листочков под ногами. Не в пантеистическом, а в персоналистическом смысле (листочки – не Он, но Он их разбросал). Еще лучше – во фразах и мнениях другого человека, даже неправильно говорящего, видеть движения скованного в нем Бога, как и скованного Бога в себе. Бог всегда – вот максима православного верующего. Тот же, кто не видит Божьего за неудачным, ошибочным или даже еретическим суждением, верит мало, ибо не воплотился его Бог ни в собеседника, ни в прохожего, ни в самарянина. Такой ищет удовольствия от рациональных концепций и общения с зеркалом (единомышленником). Тот, кто удовольствием определяет Бога, тот и плохую погоду припишет дьяволу.
Коль скоро мы не позволяем Богу царствовать в нас, нужно позволить Ему хотя бы партизанить – видеть, как
Он это делает в нас и в других. Духовный совет: с утра попросите Бога поучаствовать в перечне ваших дел и событий и целый день следите, как Он будет это делать. Вечером благословите (т. е. спасите от презрительной оценки) прожитый день и вечер. Это есть вера православная!
Вера как начало
Бытовое христианство прочно утвердилось на общерелигиозном культе, то есть на том, что есть и всегда было во всех религиях: посты, праздники, обряды, предписания, табу. Все специфически христианские идеи тихо ушли в историю. Скорый конец света, ожидавшийся первым христианским поколением, очевидно не состоялся. Таким образом, Иисус так и не проявился как Христос – Мошиах Ветхого Завета. Более поздняя мечта о христианском государстве (и даже империи) осуществилась, но в методах управления оно было не лучше прочих. Идея любви и единства христиан разбилась о гигантизм церковного устройства, денежные расколы и соперничество.
В своей последней лекции протоиерей Александр Мень оптимистически произнес: «Только близорукие люди могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось – в тринадцатом ли веке, в четвертом ли веке или еще когда-то. Оно сделало лишь первые, я бы сказал, робкие шаги в истории человеческого рода. Многие слова Христа нам до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается, и то, что было раньше, то, что мы сейчас исторически называем историей христианства, – это наполовину неумелые и неудачные попытки реализовать его» (Лекция 8 сент. 1990 г.). По мысли Меня, важно осознать, что христианство, известное в истории, кончилось, и нам не на что оглядываться, у нас нет объекта подражания, понимаемого аутентично.
Только такой человек способен быть христианином образца апостола Павла, кто мог бы повторить за ним: я рассудил быть… незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого (1 Кор. 2: 2). А до тех пор мы – невеста Христова, не желающая раздеться перед Ним, натягивающая на себя ветхие одежды и старомодные украшения. Мы упорно отказываемся сознавать: то, чему мы хотим подражать, кончилось не случайно, не потому, что было плохим, а потому, что отцвело, вызрело и ушло вместе с завершившимися эпохами. Христианин – тот, кто понимает, что начинает сначала, другие выбирают имитацию ученичества.
Верующий книжник, в страхе сказать слово от себя, сшивает одежды из прочитанных страниц, прячется в густых кустах преданий и традиций от Бога, распятого традицией. Верования и обычаи подводят к Богу, но в них можно и застрять. Мы можем отказаться от всего, во что верили, только если наша вера основывается на опыте окончания всех верований.
Крестить ребенка по своей вере в Бога может только тот, кто знает, что этому акту нет никаких реальных оправданий. Иначе он – исполнитель непременного обряда, потерявшийся в этой непременности и обрядности. Молиться может только тот, кто вполне видит и чувствует, что Бог прежде прошения нашего знает все (ср. Мф. 6: 8). Поститься может тот, кто осознает всю абсурдность смены котлетки на карася во имя Распятого.
Видеть предел человеческого – важнейшее условие веры. Не демонизировать половину человеческих свойств, а видеть их исчерпанность в самом начале, когда они только обещают удовлетворение. Это есть победа бесконечного Бога над конечными человеческими страстями. Только никогда не пресыщавшийся блудом может мечтательно абсолютизировать его, только не знающий на опыте предел власти денег может за них продать все, только тот, кто не заметил условности и механистичности всякого человеческого представления, может отстаивать его до хрипоты.
Мудрость в молчании. Молчащий мудрее уже тем, что не ищет подтверждения/опровержения своих взглядов на мир, не намеревается произвести эффект, не ждет возмещения долга (как Конфуций и Кант). Он истинно верит в другого человека как в себя и потому не видит повода навязывать свое представление вместо чужого. Все остальное – пути соперничества.
Два понимания православия
Вопрос о границах понятия «православие» еще в 1907 году поднимал русский философ Николай Бердяев. «Под „православием“, – писал он, – можно понимать Вселенскую Церковь, а можно и историческую поместную Церковь, можно понимать полноту религиозной истины, а можно – и лишь часть открывшейся истины, можно „православием“ именовать все подлинное и праведное в христианской религии, а можно именовать так исторический уклон и ложь. Я бы хотел, чтобы, наконец, кто-нибудь сказал ясно и авторитетно, что такое православная Церковь, все равно, как предмет ли поклонения или предмет нападения. Пусть покажут здание, носящее такое имя собственное, пусть обнаружат вещественные границы этого владения. Какие признаки неотъемлемо, субстанционально принадлежат православию, а какие могут быть отняты или прибавлены без изменения существа? Как долго можно безнаказанно называть православием или то, что тебе нравится, или то, что не нравится?» (К вопросу об отношении христианства к общественности).
Однако православие одним аршином не измерить, под одну гребенку не причесать. Все серьезное – сложно и, на первый и второй взгляд, малопонятно. Иногда высказывания православных святых поражают своей полярностью. Например, в 13-й главе «Просветителя» преподобного Иосифа Волоцкого читаем: «Когда увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку… подобает не только осуждать, но и предавать лютым казням, и притом не только еретиков и отступников: и сами православные, узнавшие о еретиках или отступниках, но не предавшие их судьям, подлежат смертной казни… Таким образом, совершенно ясно и понятно воистину всем людям, что и святителям, и священникам, и инокам, и простым людям – всем христианам подобает осуждать и проклинать еретиков и отступников, а царям, князьям и мирским судьям подобает посылать их в заточение и предавать лютым казням. Богу нашему слава ныне, всегда и во веки веков. Аминь». В той же православной традиции мы находим не менее православные слова преподобного аввы Аммона: «Любовь не может ненавидеть кого бы то ни было, не может осуждать, проклинать, огорчать, испытывать к кому бы то ни было отвращение. Это касается как верного, так и неверного, иноверца, грешника, блудника и вообще всякого нечестивца; более того, истинная любовь сильнее возгорается именно о душах грешников, и немощных в благочестии, и нерадивых, она о них сильнее печалится, и горюет, и сокрушается, она более, чем праведникам, сочувствует злым и грешным, подражая в том Самому Христу, Который первыми призывал их к Себе, ел с ними и пил. Таким образом, показывая, что такое есть истинная любовь, Он учил нас, говоря: „Будьте благими и милосердными, как Отец ваш Небесный“. И как Он посылает дождь на добрых и злых и повелевает солнцу светить для праведных и неправедных, так же и тот, кто имеет подлинную любовь, всем сострадает и за всех молится» (Патерик). Вот уж поистине не знаешь, где поставить запятую в классическом «Казнить нельзя помиловать».
Чтобы иметь ключ к пониманию религиозного феномена православия, мы должны предположить его неоднородность как необходимый жизненный параметр. Можно выделить пять или десять типов православного сознания, но для простоты и ясности я выделю только два равноправных и равновеликих направления. Обозначим их logos и praxis, или проще: теоретический и практический.
Первый тип характеризуется правильным знанием (logos) как основным критерием православия: для него важнее всего правильное исповедание. Для другого направления православия основным критерием является praxis – духовное состояние подвижника.
После эпохи Вселенских соборов и богословских споров доминирующей идентификацией православия стал первый тип, но в предании сохранились голоса обеих систем, причем каждая из них представляет себя главнейшей.
Например, в «Изречениях египетских отцов» читаем об авве Агафоне: «Пришли к нему некоторые, услышав, что он имеет великую рассудительность. Желая испытать его, не рассердится ли он, спрашивают его: „Ты Агафон? Мы слышали о тебе, что ты развратник и гордец“. Он же ответил: „Это так“. И они сказали ему: „Ты Агафон, болтун и клеветник?“ Он сказал: „Я“. И они сказали ему: „Ты Агафон, еретик? “ Он ответил: „Я не еретик“. И они попросили его объяснить, говоря: „Почему все это мы говорили тебе, и ты принял, этого же слова не перенес?“ Он сказал им: „Первые (пороки) я сам признаю за собой, ибо это польза для моей души. Еретик же отлучен от Бога“. Они услышали, и подивились его суждению, и ушли, и получили назидание» (§ 72). Патерик доносит до нас, что определяющей является рациональная (логосная) идентификация истинного христианства. Может быть, у тебя множество грехов, но это не так важно, как твое неправильное высказывание о Боге. Ересь в этой системе отношений с Богом превышает по значимости все добродетели и грехи.
Высказывание о Боге может иметь столь огромное значение только в отсутствие контакта с предметом обсуждения. Когда мы говорим о Винни-Пухе (которого нет), то рассказ о нем – это все, что нам дано, и Винни-Пух равен рассказу о нем. Но если мы имеем опыт богообщения, то рассказ о Боге есть только одно из описаний Бога, то есть преломление божественного света, которое дано той или иной душе. Бог не равен рассказу о Нем. Тогда нет смысла в соревновании, кто из нас правильнее описывает Бога: правильное для меня не означает правильного для всех, один разговор у Христа с самарянкой, другой с Петром, третий с Пилатом.
Святые отцы, пытавшиеся ввести опыт причастности Богу в богословские конструкции, проваливались в апофатизм (отрицание адекватности любых словесных утверждений о Боге: о Нем нельзя сказать, что Он такой-то, так как это человеческое понятие и оно к Богу неприложимо). Последовательный апофатизм опустошал значение всякого высказывания о Боге перед лицом Его бесконечности. Апофатическое богословие сложно представить в цепи логических рассуждений о Боге, оно разрывает эту цепь, ставя под вопрос правомочность перенесения на Бога даже таких категорий, как существование или любовь. Излюбленная манера замечательных богословов – ставить апофатические предложения в конце рассуждений о Боге – обессмысливает эти рассуждения. Например, святитель Григорий Нисский, подойдя к грани нон-теологии, переступает ее с утверждением: «Всякое суждение о Боге – это видимость, лживое подобие, идол; правды же о Самом Боге не открывает» (Против Евномия. 3). И в другом сочинении: «Истинное видение и понимание искомого заключается как раз в незрячести, когда сознаешь, что цель твоя выше любых познаний и со всех сторон отделена от тебя тьмой неразумения» (О жизни Моисея законодателя. 2). Если, действительно, всякое суждение о Боге – лживое подобие, то чего стоят в таком случае предыдущие пассажи?
Возвращение к катафатическим утверждениям ставило проблему на место: соревнование в словах может иметь смысл только в отсутствие опыта Бога. Приди и виждь (Ин. 1: 46) – вот единственный довод веры. Однако для большинства непричастных, но жаждущих он просто непонятен. Они не могут видеть, хотя точно слышали и за верность услышанному будут страдать сами и заставят страдать других. Верность слышанному есть верность святого слепца, передающего святые рассказы.
Как было сказано выше, оба критерия истинности присутствовали в христианстве с самого начала. Уже у апостола Павла мы находим приоритет рационального выражения над духовным состоянием: …если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема (Гал. 1: 8). В продолжение этой линии священномученик Поликарп Смирнский утверждал: «Кто не признает свидетельства крестного, тот – от диавола; и кто слова Господни будет толковать по собственным похотям… тот – первенец сатаны» (Посл. Флп. 7). Святитель Иоанн Златоуст считал, что грех ереси и раскола не смывается даже мученической кровью (Толкование на Еф. § 65, 11), а «соблюдающие девство у еретиков подлежат тому же наказанию, какому и блудники» (Толкование на Посл. Флп. § 3, 3). В «Книге о девстве» он заявляет: «Подлинно, целомудрие еретиков хуже всякого распутства» (§ 5).
Такой тип определения православия неизбежно уводит на второй план подвижничество, аскетизм и всякую духовность как второстепенное явление. У святителя Феофана Затворника также находим красноречивый пример: «Одному старцу, любившему читать священные книги, еретик несторианин дал книгу известного святого отца, в коей к концу нарочно приложены были тетради с их еретическим учением, – в той мысли, что старец по простоте, не разобравши, прочтет и это писание еретическое. И в самом деле старец соблазнился бы, но не допустила его до того Пресвятая Богородица. Однажды, сидя в келлии своей, увидел он идущую Владычицу и с детскою простотою стал умолять Ее посетить его келлию. Пресвятая Богородица отвечала ему: „Нельзя мне пойти к тебе. Ты держишь врага моего в келлии своей“ – и стала невидима. Испугался старец и начал все рыть и перебирать в келлии своей, чтобы найти, что это за враг Богородицы; наконец, по чьему-то указанию, нашел, что враг этот – писание еретическое несторианское в данной ему книге, ибо несториане не чтут Пресвятой Богородицы. Старец вырвал листы и сжег, а потом сподобился посещения Владычицы» (Рукописи из кельи). Как видим, святость старца уступает по значимости возможному впадению в ересь. Святость только и служит для того, чтобы не впасть в ересь. Можно было бы привести еще много примеров из сказаний о подвижниках, где главной идеей является примат исповедания над святостью жизни с ее великими свойствами: прозорливостью, чудотворениями и т. п.
Все аргументы и контраргументы оба лагеря успешно черпают из общего православного наследия. Другая линия определения православия – практическая (praxis) – отражена в православном предании в не меньшем объеме. Здесь главным критерием православия является духовное состояние – святость жизни важнее формальной точности исповедания.
Так, известна притча, помещенная Л. Н. Толстым в рассказ «Три старца», о трех дивных подвижниках, которые сочинили полуеретическую молитву: «Трое Вас и трое нас. Помилуй нас». Православный архиерей хотел было научить их правильной молитве «Отче наш», но они ее забыли, что не мешало им светиться и ходить по воде.
В «Духовном луге» блаженного Иоанна Мосха есть повествование о святом старце, который на богослужении возглашал еретические возгласы; при этом он был настолько свят, что ему всегда сослужили ангелы и он мог свободно общаться с ними. Некий диакон настаивал на исправлении возгласов, и старец согласился. Но в этом сюжете нам важно видеть, что святость и ересь не всегда исключают друг друга. Ангелов, в отличие от правоверного диакона, это не смущает (Луг духовный. § 199).
Можно было бы привести еще массу примеров, в которых подчеркивается, что духовная жизнь важнее правильных слов. В их ряду будут стоять излюбленные рассуждения о том, что ученость и знания ничего не значат относительно правильности молитв и т. п. Святитель Феофан Затворник писал: «Научность всякая есть холодило. Не исключается из сего даже и богословская наука, хотя тут предмет, холодя образом трактования предмета, самым предметом может иной раз и невзначай падать на сердце. Научность душевного свойства, а молитва – духовного. Потому они не в ладах» (Письма). Евагрий Понтийский дал такое определение подлинности: «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то ты – богослов» (Слово о молитве. 61).
Проблема православного мировосприятия в его современном виде состоит в том, что, какой бы тип православия ни пришелся нам по душе, он внутренне располагает нас против других типов. Либералы считают, что традиционалисты ближе к язычеству, чем к христианству. Ортодоксы считают либералов гедонистами, маловерами, духовными лентяями, скрытыми агентами или без пяти минут атеистами.
Если мы хотим реального единства православной Церкви, нам необходима парадигма мышления, которая могла бы вобрать в себя всех православных как братьев и сестер. Этого пока нет и никогда не было в истории Церкви. Каждый раз одни критерии православности выталкивали из православия других как недо-, анти– или не того сорта православных. Такая модель развития взаимоотношений заложена в каждом из имеющихся типов.
Последователи Типикона и идеи незыблемых канонов назовут любые плоды деятельности либеральных христиан вредными, а духовность – ложной. В свою очередь, либералы проявляют ту же узость, которую критикуют в своих оппонентах. Для примера я процитирую мысль выдающегося православного священника Александра Ельчанинова: «Мне все более кажется, что наши декоративные, пышные богослужения должны кончиться, уже кончились внутренне. Они искусственны, не нужны, они не питают более жаждущих душ и должны замениться иными, более активными и более теплыми видами религиозного общения. Как не похожи наши богослужения, со священником, отделенным стеной иконостаса, с охлаждающим расстоянием паркета между молящимися и Св. Престолом, с прохладными сквозняками между отдельными „посетителями“ – молящимися, с тщетно выносимой Св. Чашей и упорным отказом „приступить“, – как все это не похоже на богослужебные собрания апостольского века и периода мученичества. Падает религиозность, и выше поднимаются декорации, гаснет горение душ, и ярче блестят позолота и электрические люстры» (Записи). Протоиерей Александр Шмеман воспринимает традиционное православие как «охранение охранения»: «Иногда понимаешь иконоборческий пафос, вдохновляющий других христиан, задыхающихся в этом парчовом романтическом номинализме» (Дневники. 19 янв. 1977). При этом они оба писали это не в неофитском запале молодого клирика, а уже будучи зрелыми пастырями и мыслителями. Их дневниковые записи не предназначались для публикации, это некое внутреннее глубокое признание вещей перед Богом. И в этом признании мы видим все то же отторжение ближних, непонимание тех людей, для кого именно эти парчовые облачения и расписные своды говорят о Боге больше умных трактатов. «Думается, – пишет о. А. Ельчанинов, – что Церкви надо освободиться от балласта маловерующих и неверующих (как это произошло в России), подобраться, почиститься от чуждых элементов, и это усилит Ее сияние». Вот это намерение – удалить всех, кто не такой, как мы, и есть бич как ретроградной, так и прогрессивной линии в современном православии.
Протоиерей А. Шмеман в дневниках пишет: «Эмпирическое Православие насквозь проникнуто идолопоклонством, причем главный идол – оно само… Идолопоклонством, а также страхом, триумфализмом, нарциссизмом… Оно какой-то сплав, из которого уже почти невозможно выделить сущности. Оно говорит на каком-то искусственном языке, без какого бы то ни было отношения к реальности, в нем нет ни любви, ни свободы… О чем бы ни говорили „православные“, они неизменно говорят каким-то приподнято-фальшивым тоном… я не говорил бы всего этого, если бы не был убежден, и чем дальше, тем больше, тем, так сказать, „очевиднее“, что в Православии – вся Истина, все ответы, действительно – спасение. Именно поэтому мне претит в его „эмпирии“ элемент какого-то кокетства, самодовольной удовлетворенности самих православных – „византинизмом“, „древностью“, всевозможными стилями, афонами и т. д.» (Дневники. 21 февр. 1977). В этой искренней жалобе столько же веры, сколько и пренебрежения к иной части православных христиан. А между тем для многих важен именно триумфализм, а не каппадокийский синтез, именно страх и конкретика, а не истина без слов и символ без пользы. В их внутреннем языке приподнятый тон означает заботу и расположенность, а «искусственный язык» – мудрость веков. Ту самую мудрость, которую не выказал о. Александр в этом обвинительном пассаже. Христиане традиции спросили бы его: покажите, где конкретно «вся Истина» православия, где можно послушать «все ответы» на все вопросы? Они имеют не меньше оснований считать пафосным именно Шмемана, так как прямых и понятных ответов у него нет. Отторжение Афона, стиля и всей эмпирии есть, а понятных народу рецептов – нет.