Текст книги "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя"
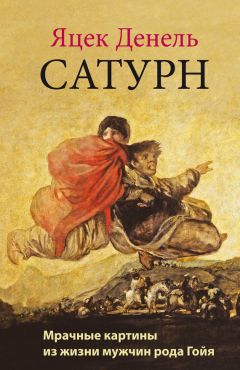
Автор книги: Яцек Денель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
VIII. Козел[34]34
Описание картины «Шабаш ведьм».
[Закрыть]
Здесь, за кольцом сидящих, первое, что слышишь, – проповедь: этакое беканье, но не как у пономаря, а восторженное, прерывистое, с трудом скрывающее возбуждение; однако, если прислушаться, ухо улавливает еще и шуршание: это под фартуками и юбками трется ляжка о ляжку.
Те, что не сидят в первом ряду и не должны выставлять напоказ сложенных набожно – а скорее, безбожно – ладоней, те своими жирными пальцами копошатся в блудливых закоулках тела, ерзают по земле или по шершавой поверхности оседланного камня. Сопят, стонут, охают. Расталкивают соседок, с ненавистью глядя на них и фыркая. Каждая знает, что всех их он уже перепробовал: одних всего лишь по разу, других – по нескольку раз, ночь за ночью, ту походя сбросил с чужой головешки и посадил на свою, эту загнал в болото и под проливным дождем отмочалил так, что по сей день само воспоминание вызывает у нее зуд, следующую отдрючил в монастырской келье, а еще одну – на карнавальном шествии: даже пискнуть не успела под маской, как содрал с нее юбку.
Каждая мечтает, чтоб он ее еще разок обгулял, задрал ноги, пощекотал волосатой промежностью – но они знают, что успели состариться и подурнеть, а он все такой же похотливый, как когда-то, и, как когда-то, выбирает пышнотелых молодушек. Он мог бы разогнать эти посиделки на все четыре стороны, но он предпочитает их мучить и искушать, хочет греться в их зуде, обожании и перебранках ревности.
Каждая мечтает когда-нибудь обрести покой как его Законная Супруга, сподобиться уважения, вся в ослепительной белизне, в фате, наброшенной на глаза (чтоб притворяться, будто Козел ей верен), закопанная по пояс в жирной земле (чтоб щекотали ее лишь кроты, черви да заблудшие в потемках корни), выхолощенная, подобно вываренному полотну.
Он же от таких мечтаний растет и багровеет, лезет из кожи, распускает хвост – а все из-за молоденькой послушницы, что прячет в муфточке свои маленькие ручки и старается понять каждое его «бе», каждую значимую булькотню его разнузданной проповеди; черная вуалька прикрывает ее глаза, но он-то уже знает, он знает, что она не отрывает от него взгляда. Она, только она, и лишь где-то там, на самом-самом конце его похоти, – другая.
IX
Говорит Хавьер
В день свадьбы мы получили в собственное владение дом на улице Рейес, и хотя еще какое-то время родители перевозили вещи в дом на Вальверде, основательно подновленный по тому случаю и достойный положения отца, были мы сами себе хозяева. Правда, они чуть ли не ежедневно заглядывали к нам – в любое время дня, вдвоем или порознь. Мать – со сплетнями, вместе с прислугой, а прислуга с корзиной, а в корзине лимоны, цесарка или спелые дыни. Отец – заляпанный красками, вспотевший, прямо из мастерской. «Пришел, – заводил он свою речь, – чтобы вы тут совсем не скисли. Целый день дома! Лучше б на сарсуэлу сходили, выбрались на пикничок у реки, поглазели на марш полков Колбасника-Годоя[35]35
Мануэль Годой (1767–1851) – государственный деятель, фаворит испанской королевы Марии-Луисы. В результате народного восстания (17–18 марта 1808 г.) был арестован и после вступления в Мадрид французских войск (23 марта 1808 г.) по приказу Наполеона выслан во Францию, где оставался до самой смерти. Годой был родом из провинции Эстремадура, славившейся своими колбасами, – отсюда прозвище.
[Закрыть], вместо того чтоб сидеть в душных комнатах», – и рассаживался поудобнее, не дожидаясь, когда мы напишем ему что-нибудь в блокноте; впрочем, иногда он вообще его не вынимал из кармана, предпочитал сам ораторствовать. Волей-неволей Гумерсинда садилась напротив и внимала его словоизвержению – сначала не особенно охотно, но позднее все с большей готовностью.
И чего он ей только не рассказывал! Что в Риме жил у какого-то поляка вместе с сумасшедшим итальянцем, который для денег рисовал развалины, а для души – тюрьмы и который, когда в кармане было пусто, подрабатывал как уличный акробат; а через поляка он-де познакомился с таинственным россиянином, тайным советником двора, который Христом Богом умолял его поехать вместе с ним в его морозную отчизну и стать там живописцем кровавых российских императоров, облаченных в парчу и меха и питающихся исключительно сырым мясом.
Надо было видеть и слышать, как он, развалившись в кресле, строит мины, хлопает себя по ляжкам, как возбуждается от рассказа, начинает говорить все громче и громче, переходя чуть ли не на крик, как решительно игнорирует меня, не глядя порой в мою сторону битый час (проверено с часами в руке), как пускает в ход неприличные словечки, которых я бы никогда не произнес в обществе женщины, тем более своей жены. И конца этому не было. И еще: никогда не упускал возможности уязвить меня или припомнить, что всем, что у меня есть, я обязан ему и только ему.
«Взбираюсь я, значит, на самую верхотуру купола Святого Петра, продвигаюсь, согнувшись, вот так, бочком-бочком, а там все уже и уже, а внизу – пропасть, поскользнешься – мокрое пятно от тебя на мраморных плитах останется, но, когда человек молод, ему все нипочем… хотя, поди, не всем… не представляю, чтоб твой сладчайший Брюханчик рискнул… не знаю, собирается ли он вообще поехать в Италию, я ведь не зря передал королю все «доски»[36]36
«Доска» – общее название печатной формы, с которой делается оттиск. Материалом для «доски» служат металл, дерево, камень, картон.
[Закрыть] к «Капричос» взамен на пожизненный пенсион для Хавьерека, теперь он может путешествовать и учиться, сколько душе заблагорассудится… ладно, не важно… короче, лезу я выше, а тут голубь крыльями хлопает, я увертываюсь, а из кармана сольдо выскальзывает и летит с этой высотищи вниз! Летит, летит, а звяканья так и не слышно. Что ж, поделом мне! А там, внизу, какой-нибудь паралитик нищенствующий тут же, поди, на ноги вскакивает и гонится за ним по всей базилике. На здоровье, думаю я себе, опрокинь стаканчик, чтоб я отсюда живьем слез. Наконец-то забираюсь на самый-самый верх, вытаскиваю из кармана штихель[37]37
Стальной резец, используемый при гравировании.
[Закрыть] и царапаю: Fran. Goya. И если ты, моя дорогая деточка, когда-нибудь задумывалась, чья же это фамилия значится на верху самой высокой постройки всего христианского и языческого мира, то скажу тебе скромно: фамилия твоего свекра, который написал в своей жизни парочку-другую картин, подарил вам вот этот дом, а сейчас сидит подле тебя и как ни в чем не бывало попивает шоколад».
А уже через минуту расписывает, как поехал в Рим с тореадорами, а те научили его самым что ни есть секретным секретам корриды, и вот он уже бросается к стулу, велит мне его поднять и изображать из себя быка, чтоб он, с кочергой в руке, мог показать, какие фортели выкидывал на арене во времена своей молодости. И в очередной раз не преминет вспомнить, как я в четыре года испугался лягушки, и тогда-то он понял, что никогда не бывать мне тореадором. А чуть позднее Гумерсинда уже слушает, как он по уши влюбился в юную монашенку и решил похитить ее из монастыря – приобрел прочную веревку и, взобравшись на стену, чуть было не обвел вокруг пальца сторожей, но дочь веревочных дел мастера оказалась настолько обворожительной, что он простил себе увлечение монашенкой.
«Полночь? Ой, и правда! – лицемерно удивлялся он, когда я писал ему, что Гумерсинда еле держится на ногах и, наверное, нуждается в отдыхе. – Ну и засиделся же я у вас, дети»! Тяжело сопя, он вставал с кресла и, глядя из-подо лба, будто я нарушил священный закон гостеприимства, неспешно выходил – затем только, чтоб назавтра заявиться в очередной раз и в очередной раз сочинять небылицы: о горделивой Тиране, о герцогах и герцогинях, об экипажах и охоте, о том, сколько дроздов он подстрелил тут, а сколько зайцев – там, и о том, что по сей день во всем Мадриде мало кто может сравниться с ним в стрельбе с двухсот шагов. Ну и что с ним сделаешь?!
Говорит Франсиско
Не скажу, что мне становилось досадно, когда миловидная девушка, затаив дыхание, слушала меня и смеялась над моими шутками. А ведь у Гумерсинды был выбор: муж – молодой, замечу, красивый, по тем временам еще не так оплыл, похож на меня в молодости, – и тесть – старый хрыч, глухой, завален работой, который уже давно распрощался со своим костюмом махо и сладостной привычкой просиживать в тавернах за стаканчиком вина аж до самого утра, но в котором сидело нечто такое, отчего у дамочек по ногам текло. И чего уж тут скрывать: я знал, что ей нравлюсь, хоть все, ясное дело, было совершенно невинно; я б в жизни не попрал законов божеских и человеческих. Чего ради? Чтоб облапить?
Жалко мне было, по-человечески жалко было эту молоденькую семнадцатилетнюю девицу, чуть ли не ребенка, весь день под замком в большом доме, без развлечений, с мужем-молчальником. «Послушай, – говорил я ему, порой даже при ней, чтоб пристыдить, – куда это годится, чтоб свекр оказывал своей невестке больше нежности, чем муж жене». А он только по-идиотски огрызался: «Вот именно, куда это годится?» – и выходил надутый. «Кончится тем, – подшучивал я над ним, – что твой первородный скорее на деда будет похож, чем на отца». А он снова надувал губы и – из дома вон. Я делал все, что мог, чтоб облегчить ей жизнь. От чистого сердца. Не совру, что не услаждала меня мысль, мол, захоти я, она бы, долго не раздумывая, стала моей. Я еще в дом не вошел, а она уже вся сияющая: «Что вам, папенька, подать? Чем вас, папенька, угостить?», и тут же то с шоколадом летит, то с разогретым обедом, если я проголодался во время работы; сроду не позовет прислугу, всегда сама приносит. Сокровище, а не девица, а тут Хавьер мой, стыдно признаться, – увечный какой-то. Не было счастья, да несчастье помогло: смастерил-таки он ей ребеночка, живот у нее вздулся, сделалась она капризной, как оно с брюхатыми происходит, и стала еще красивее. «Ого-го, – отзываюсь я, – старые бабы в Фуэндетодосе поговаривали: коль чреватая хорошеет, значит, парня носит, а коль дурнеет, значит – девку. Отсюда прихожу к заключению, что подаришь мне внука, а не внучку!» А она только улыбается, так робко – эх, сама сладость!
Говорит Хавьер
С того времени, как она понесла, отец появлялся у нас не каждый день, а два раза на дню – и как у него еще оставалось время стоять у холста?! В общем, переселился он к нам, да и мать тоже. Мы предоставили им спальни – ему отдельно и ей отдельно, в третьей комнате он поставил себе мольберт, перенес туда рулоны полотна, подрамники, пигменты и краски – и с тех пор мы уже никогда не чувствовали здесь себя хозяевами. А все потому, что ему хотелось погреться в нашем тепле. Уж он и ластился, и лебезил, и ворковал – и еще вразумительнее намекал, будто я ему всем обязан.
Тогда-то я и раскусил его шуточки, дескать, внук наверняка пойдет не в отца, а в деда, сообразил, откуда у него эта невыносимая самоуверенность, зазнайство и деликатность, с какой он клал руку на живот Гумерсинды. Сколько раз бывало, что, когда он приходил к нам, я тут же приискивал себе занятие в городе, хватал на лету шляпу и исчезал за порогом? Разве мало подвернулось случаев, чтоб положить на нее свои лапищи, внезапно осенило меня, пустить в дело силу своего убеждения, штучки, опробованные на натурщицах и герцогинях, на городских дамах и крестьянках, каких и сосчитать-то невозможно? А все эти хихоньки да хаханьки, а умение строить глазки и вставлять колено меж ног?
И эта страшная правда пробила тропку в глубь моего сердца – так мушкетная пуля прошивает арбузную мякоть, так винт железного сапога впивается в пятку маррана[38]38
Марраны – евреи, принявшие христианство во времена их преследования в Испании и Португалии (конец XIV–XV вв.), а также их потомство. Марраны, тайно продолжавшие исповедовать иудаизм, являлись главным объектом преследований испанской инквизиции. (Примеч. авт.)
[Закрыть] под пытками. Теперь я иначе стал присматриваться к каждому его жесту, к каждому ее взгляду, а по вечерам изводил себя: почему она не идет спать, а слушает бредни о бое быков, об обычаях монархов и чудачествах герцогини Альбы – вежливость наказует или тут нечто большее? Амуры, любовный заговор?
Но кому расскажешь о своих подозрениях? Самому себе и то не так просто, а что говорить о других? Пожалуй, только прибрежному тростнику, или камню, или ложке. Предметам кротким. Вот я и ходил по дому из угла в угол, не находя себе места; случалось, вполголоса открывал свою душу книгам и табуреткам, подушке и подсвечнику. Хотел обратиться к духовнику, но кто же исповедуется в чужих грехах? Можно, от силы, – в ошибочности своих подозрений. Но я знать не знал, ошибочны они или вовсе наоборот – до жути верны. Ни дом, ни город, ни луга и леса за городом, куда я выбирался на долгие прогулки верхом, не могли мне ничего прояснить – лето царило безраздельно, и все вокруг, словно в издевку, созревало и приносило плоды: наливные виноградные гроздья так и падали в корзины опаленных солнцем сборщиц, сливы лопались от сока, а я, выросший в Мадриде, стал там случайным гостем, переносимым ветром отчаянья с места на место.
Тем временем живот рос, и созревало в нем то, что мне предстояло полюбить, даром что день ото дня я чувствовал к этому твердому барабану, к этой неестественной вздутости все большую неприязнь, граничащую с ненавистью; с какой бы радостью я залез туда внутрь и взглянул, чьи у него глаза – его или мои, какого цвета волосы – черные или каштановые, брови – домиком или плавно сходящие к уголку глаза? Я не мог на нее смотреть и в то же время не мог оторвать глаз от резко обозначившегося живота. Я не заговаривал с ней, да и она перестала отзываться, и вновь я мучился: из-за деликатности ли чувств, а может, из отвращения ко мне и угрызения совести, ведь как-никак она же испакостила наши простыни самой гнусной, самой омерзительной изменой?
Случалось, что безо всякой причины кровь во мне внезапно закипала, и тогда, оборвав себя на полуслове, я вставал из-за стола, кланялся жене и выходил прочь, иначе с уст моих полились бы грязные помои и забрызгали стол вместе со всеми блюдами, а вонючая желчь потушила бы свечи. Иной же раз мне казалось, что она нежна и деликатна со мной, но я тут же задавался вопросом, а не продуманная ли это игра для отвода глаз? Я был в растерянности. И, лишь считая дни и недели, успокаивался.
Наконец пришел тот день, когда мы спешно послали за повитухой и вместе со слугой стащили с чердака старое родильное кресло; оно приехало сюда с улицы Десенганьо, а потом, по понятным причинам, так никогда и не было перевезено на улицу Вальверде; в этом кресле появился на свет я и шестеро моих братьев и сестер, сожранных впоследствии ненасытным временем.
Я сидел в библиотеке возле потухшего камелька, положив ноги на дровницу, и внезапно поймал себя на мысли, что прислушиваюсь к крикам Гумерсинды с некоторым даже удовольствием, – эта мысль устыдила меня, и я тут же вновь принялся за чтение, что оказалось мне не под силу. Шум наверху и сумятица в голове не дали бы мне возможности читать спокойно, впрочем, через минуту с криком «Сын, сын, у вас сын!» ко мне сбежала горничная, и я, резко вскочив и опрокинув стул, помчался наверх. «Сын, – закричал я, – покажите мне сына!» Повитуха подала мне сверточек, маленький такой конвертик, в котором лежал ребенок, как две капли воды похожий не на меня, а на моего отца.
«Это же надо, как на деда похож, – отозвался я многозначительно, со всей серьезностью (Гумерсинда даже приоткрыла один глаз), – занятно, очень занятно». – «Что же тут такого, – запротестовала повитуха, поправляя подушки младенцу и матери, – ребеночек чаще всего похож не на родителей, а на стариков. Всегда так бывает, ежели, конечно, на стороне не нагулян (тут она громко захохотала, сделав какой-то неприличный жест, но я его не разглядел). И такие роды я принимала, ой принимала, принимала. Ты, сеньор, лучше радуйся, коль семейное сходство видишь, а то, что хоть он и на деда похож, для тебя гарантия, что малец твой – плоть от плоти твоей, кровь от крови твоей».
Но меня это нисколько не утешило.
Говорит Франсиско
Не могу понять, как можно быть таким безразличным?! Родился первородный, а он? Я в день рождения моего Антонио сперва на радостях отплясывал на улице, а потом спился так, что два дня домой не приходил – силы в ногах не было. А он что тебе жаба холодная: вошел, спросил, почему ребеночек на него непохож, и вышел.
Как же можно не восхищаться этими черными глазенками, этими крохотными пальчиками и волосиками на тельце? А пяточки – прямо-таки малюсенькие драгоценности! Я, как масло, размяк. Уже в тот самый день, когда, опоздав, прибежал на улицу Рейес и, перепрыгивая, как юнец, через две ступеньки, вскочил на второй этаж, уже в тот день я знал, что этого маленького человечка буду любить не меньше, чем собственного сына.
А когда я выходил из спальни Гумерсинды, в библиотеке увидал Хавьера – уже смеркалось, сгущались тени, а он сидел в потемках, не зажигая света, будто в дом пришла трагедия, а не радость. Я стоял на пороге и смотрел на него, а он загляделся в окно. Мне даже захотелось войти и что-нибудь сказать, но я не знал, что именно. Как же трудно понять собственных детей.
X
Говорит Хавьер
Вот оно и случилось: вхожу я в комнату и вижу их обоих – спят; его старческое, местами обвислое тело раскрыто, полдень ведь, воздух неподвижен, и лишь тонкие полосы света, просачивающиеся сквозь ставни, рассекают дряблую, рыхловатую, широченную грудь заматеревшего волка со взъерошенными черными с проседью лохмами; захмелевший Бахус, на совести у которого чуть больше, чем открытая людям тайна приготовления вина. И она – миниатюрная, тоненькая, смуглая; лежит рядом с ним, будто упала здесь по чистой случайности и, как на грех, нагишом – зацепилась ногой за простыню, пытаясь поправить икону, закружилось в голове, вот и упала, а теперь лежит, свернувшись калачиком, у него под левой подмышкой; полоска света, пересекающая его грудь, бежит дальше, через ее щеку, доходя до изогнутой шеи, где обливает светом россыпь капелек пота; лежат едва ли не отдельно, но ведь вместе же – разворошенные простыни сбиты в изножье, а касаются друг друга только коленями: маленькой девичьей коленочкой, несоразмерно большой для такой тоненькой ножки, будто у лошади, и толстым, узловатым коленом, которое вместе со своим близнецом поддерживает мощное, кряжистое тело, что в течение дня может подстрелить несколько зайцев и птиц, отобедать четыре раза, проглотив гигантские порции, запить все полной кружкой горячего шоколада, написать половину портрета, сделать дюжину набросков, да еще и облапить другое тело (по меньшей мере одно в течение суток), с отличными от его собственных углублениями и отростками.
Тут я хватаю все, что есть под рукой. Нож, пистолет, рапиру. Всякий раз что-то иное. И в ту же секунду решаю: перерезать горло, сначала одному, потом второй, так что, очнувшись, они начнут харкать, разбрызгивая во все стороны густую, липкую кровь, хвататься за шею, пытаясь остановить эту реку, но ее остановить нельзя, и, разбуженные, привстав, воззрятся то на меня, то на самих себя, в ужасе, ослабевая все больше и больше, пока не падут на то самое место, где лежали вместе в мерзком грехе; нет, лучше не так: одного оставить трупом на простынях, а второй – допустим, это будет она – дать возможность выйти из постели, пусть вылезет из нее, поставит ногу на пол, протянет ко мне руку, не то проклиная, не то прося прощения, и только потом с грохотом рухнет на пол. Или рапира – острием в самое сердце. Тоже много крови, да и поговорить можно; а кто сильный, а некоторые ведь у нас на силу не жалуются, может броситься к окну и заорать: «Убивают, на помощь, родной сын на отца поднял руку!» «С рапирой» – стоило бы добавить, одной рукой я бы ничего не сделал. И наконец, пистолет – тут, по крайней мере, раз-два и готово; правда, стрелок из меня никудышный, и уже вижу, как драма оборачивается фарсом: пуля угождает в изголовье, он выскакивает из кровати с чем-то болтающимся между ног, заслоняется стулом, бросается схваченным со столика блюдом, вторая пуля попадает в какое-нибудь глупое место – плечо, ухо, палец на ноге, я с трудом его добиваю, снизу прилетает прислуга, дубасит в запертую на ключ дверь, прибегает и мать, поднятая с постели, где проводила свою сиесту, куда более добропорядочную. Нет, этого мне еще не хватало, уж лучше нож или рапира.
Я представлял себе подобное сотни раз, сидя вместе с ними за завтраком или ужином, во время церковной службы, прерывая поток воображения лишь тогда, когда надо привстать с лавки, или на пикнике, когда видел, как старый пень пальцами раздирает апельсин и по половинке передает матери и Гумерсинде, – и в тот же миг фонтаны крови обливали стоящий возле постели мольберт (не знаю почему, он ведь там никогда не стоял) с его последним, как выясняется, холстом. Исключительно неудачным. А он отзывается: «Что-то наш Брюханчик сегодня такой тихонький?», а я улыбаюсь, развожу руками, а вместе с тем испытующим взглядом внимательно присматриваюсь к двадцати трем внушительных размеров и уже начинающим синеть ударам клинка, которыми я двадцать три раза пригвоздил его к тюфяку, а раньше пригвоздил на нем Гумерсинду, правда, совершенно иным, саднящим теперь от боли орудием – оно тоже принимало участие в той омерзительной сцене.
Но пригодные решения, которые подкидывают нам наши мечты, редко случаются в жизни; а ведь насколько веским оказалось бы для меня доказательство измены, застигни я их на моем супружеском ложе, или на супружеском ложе родителей, или в любом другом укромном месте, на топчане ли, в скирде сена, – вот ведь подарок судьбы! А я что имел? Ровным счетом ничего, одни лишь догадки и фантазии. Слабо освещенные сцены в темном антураже, где едва видна молодая, миниатюрная женщина (рыжеватые волосы различимы в темноте лишь благодаря золотым отблескам), а рядом дряблое, поросшее дикой шерстью тело, и оба они ерзают в ворохе графитовых простыней (белизна ночью приобретает цвет графита или матового базальта). Кто бы назвал доказательством эти повторяющиеся сны, эти картины, возникающие перед глазами в любое время дня и ночи? Если я собирался избавиться от них, то только представляя себе нечто иное, куда более впечатляющее: кровавую бойню в спальне, рапиру, вонзившуюся в тело, в оба тела, и вытирание клинка о простыню.
Говорит Франсиско
Страшно скис парень. Страшно. И поговорить – не поговорит, и выйти из дому – не выйдет, только задницу от кресла оторвет, чтоб кивнуть мне, когда прихожу. Поехал бы поразвлечься, говорю Гумерсинде, – на охоту или посмотреть, как другие живут, съел бы чего-нибудь, ведь в Мадриде все такое тяжелое, камнем в желудке лежит… или это старость? Раньше я за обедом целую курицу мог проглотить, бутылку вина выпить, к этому еще хороший кусок чоризо[39]39
Пикантная свиная колбаса, приготовленная в красном вине.
[Закрыть], фрукты там, паштеты, стопочки две первача из Хереса[40]40
Херес-де-ла-Фронтьера – город и муниципалитет в провинции Кадис. Здесь вот уже много столетий производится традиционный испанский напиток крепостью от 36 до 45 градусов.
[Закрыть], а потом до самого утра гулять, плясать и волочиться. А сейчас – два ломтика ветчины, и уже тяжело, вздремнуть тянет. Другое дело, когда я с Мартином на охоте… о, тогда я наворачиваю за двоих, а с ним вдвоем – за четверых уминаем, видно, свежий воздух мне полезен; стоит, поди, на манер больших господ скопить деньжат, купить на берегу Мансанареса дом и выращивать самому фрукты-овощи, как отцы наши и деды делали.
Говорит Хавьер
То, что родилось, – росло. Так я это себе, по крайней мере теперь, объясняю, потому что ничего или почти ничего из того, что происходило в течение многих лет, не помню. Знаю, что Мариано был маленьким, но не помню ни его плача, ни личика, только впустую прожитые длинные дни. Я вставал, надевал то, что приготовила прислуга (придись мне самому выбирать, я бы не смог решиться до вечера), ел без аппетита, но и без отвращения, так же, как мылся или обувался, – очередное дело, которое надо переписать из графы «нужно сделать» в графу «сделано».
Примечал Гумерсинду. Видел, как меняется – медленней, чем ребенок… да, забавно, я помню, как быстро он превращался из новорожденного младенца в грудника, а потом – в карапуза, но не помню его сменяющихся лиц, не считая, наверно, того застывшего, какое знаю с портрета и какое теперь кажется мне тем настоящим, что было все то время. Гумерсинда же менялась медленней, но тоже бесповоротно, как и я. Губы утратили свою розовость, а лицо – девичью свежесть (да, знаю, сравнение с цветком оказалось бы здесь на месте, но мне бы хотелось его избежать, чуточку уважения к самому себе); бедра раздались, стали они какими-то мягкими, как подросшее тесто, прикрытое тряпицей, чтоб не высыхало. Я бы не сказал, что их вид меня отвращал. Но и не был нужен.
Порой мне казалось, что она не понимает, в чем дело, что она без вины. В другой же раз – что знает прекрасно, только строит из себя безгрешную; в такие дни я не мог на нее смотреть. Разгадать загадку мне было не под силу, да я и не хотел.
Мать потихоньку старела. По нескольку раз повторяла те же сплетни, с трудом поднималась по лестнице, ей все чаще не хотелось отправиться с прислугой на рынок и принести нам дыни или ощипанных гусей. А слава отца все росла и крепла – он уже давно написал большой семейный портрет монарха[41]41
Имеется в виду семейный портрет испанского короля Карла IV (1748–1819).
[Закрыть], а также всех остальных его родственничков (любезных королевскому сердцу и нежеланных) – фаворита королевы, откормленного Колбасника Годоя, разумеется, как Князя мира[42]42
Опасаясь распространения французской революции 1789 г., правительства Священного союза (России, Англии и Австрии) потребовали от Испании вступления в коалицию против Франции. Мануэль Годой пытался лавировать между членами коалиции и Францией, чем вызвал раздражение обеих сторон. В 1793 г. Франция объявила войну Испании. Неудачи в войне и боязнь своего собственного союзника – Англии – заставили Годоя искать мира с Францией. Результатом явился заключенный в июле 1795 г. Базельский мирный договор, за который Годой получил от монарха титул «Князь мира».
[Закрыть], развалившегося в походном кресле на поле битвы в ходе Апельсиновой войны[43]43
Трехнедельный вооруженный конфликт (1801) между Испанией и Португалией. В результате заключения мира с Францией Испания вступила в войну со своим бывшим союзником – с Англией. Того же она потребовала и от союзника Британской империи – Королевства Португалии. Не приняв этих требований, Португалия сама оказалась в состоянии войны с Испанией.
[Закрыть], его несчастную женушку графиню де Шиншон, а для равновесия – и любовницу Пепиту Тудо[44]44
Пепита Тудо была также любовницей Гойи. В последнее время считается, что на полотнах обеих мах изображена не герцогиня Альба, а именно Пепита Тудо.
[Закрыть], причем в двух вариантах: в одеждах и обнаженную, так что при нажатии специальной кнопочки один холст отъезжал в сторону, и взору представал другой, и Годой, как по мановению волшебной палочки, мог раздевать свою богиню, возникни лишь охота… Меня же все это совсем не интересовало.
Говорит Франсиско
Когда Колбасник запретил корриду, я сказал: отдал бы все до последнего мараведи из того, что от него получил, только чтоб дудка у него вяла при виде голенькой Пепиты… и как же я обрадовался, узнав, что повстанцы объявили конец его правлению, а он, как разожравшаяся мышь, аж полтора дня торчал под сваленными в кучу старыми коврами, без капли воды, с одной лишь маленькой краюшкой хлеба, которую успел прихватить со стола, накрытого к ужину!
Но я знать не знал, что это только начало!
Говорит Хавьер
Помню, еще бы не помнить, как спустя пару лет после моей женитьбы вспыхнуло восстание, как наследник трона взбунтовался против родителей, Годою пришлось бежать, а в город вошли французские солдаты… но меня это нисколько не занимало. Я вставал, мылся, одевался, завтракал, выходил на прогулку, возвращался, ложился спать. Моя настоящая жизнь перенеслась на страницы книг – там ждали меня бесчисленные приключения и переживания, там я влюблялся и страдал, переплывал океаны, сражался с волшебниками, победителем входил в осажденную крепость и плакал над судьбой несчастных полонянок в сарацинском[45]45
Сарацины – кочующее разбойничье племя, жившее вдоль границ Сирии.
[Закрыть] плену. Тут у меня довольно яркие воспоминания. Но вне книжных страниц простиралась сплошная пустота: все эти дни слились в один длинный-предлинный неинтересный день.
Меж тем отец был в своей стихии. Бегал по всему городу в поисках различных мерзостей, пожирал их глазами, набивал ими голову, как нищий, запихивающий в беззубый рот пищу: быстро, жадно, от голода и из опасения, что кто-то отнимет; даже в Сарагосу помчался, чтоб потом выгравировать на меди разрушенные дома и вспоротых женщин, и ту, единственную, Августину, что по трупам защитников, среди которых лежал и ее возлюбленный, взобралась на бастион и там подожгла фитиль пушки; он даже написал ее портрет, но французы и поляки[46]46
Французские войска под командованием генерала Шарля Лефевра учинили кровавую расправу осажденной Сарагосе. В его армии числилось два полка польских легионеров.
[Закрыть], когда вошли в город, порубили его саблями вместе с другими картинами, найденными в штабе генерала Палафокса[47]47
Хосе Ребольедо де Палафокс-и-Мельси, герцог Сарагосский (1776–1847) – непримиримый противник союза с Францией, бригадный генерал, возглавивший оборону Сарагосы.
[Закрыть].
Да и тут, в Мадриде, стоило только услышать, что случились какие-то кровавые волнения, пулей вылетал из дому; второго мая был безутешен – опоздал на площадь Пуэрта-дель-Соль и ничего не видел, лишь какую-то незначительную стычку возле нашего дома; но уже третьего[48]48
2 мая 1808 г. в Мадриде началось восстание против оккупации французов, а в ночь на 3 мая наполеоновские солдаты расстреляли группу мятежников. Этим событиям посвящены полотна Гойи, написанные в 1814 г.
[Закрыть], ночью, накинув плащ, с фонарем в руке, полетел туда, где расстреляли повстанцев, и рисовал трупы, еще теплые. Мне это казалось мерзким и отвратительным, мне казалось, что он полез туда, чтоб насладиться видом крови, запашком вываливающихся из живота экскрементов, вонью свежей мертвечины. Я же выбирал то, что приятно для глаза: солдат, наших и чужих, стоящих парами или тройками перед входом в дом, их чистые мундиры и подкрученные усы. Да нет, дело не в отсутствии патриотизма – я всем сердцем любил Испанию и всем сердцем ненавидел французов; но какое это имеет отношение к мундирам, поблескивающим пуговицами на солнце? Да ведь мой первый настоящий холст возник как раз из патриотического стихотворения, которое я прочел в один прекрасный полдень в маленькой книжице в зеленоватом муаровом переплете. «Дух Пиренеев» называется, Хуана Баутисты Арриасы[49]49
Хуан Баутиста Арриаса (1770–1837) – испанский поэт, дипломат и государственный деятель. Своей поэзией воодушевлял испанцев на борьбу за независимость.
[Закрыть]. Прекрасная вещь.
Глядь, а на вершине горной,
где пещер амфитеатр, солнце,
на закат склоняясь, вдруг
гиганта осветило – даже Пиренеи были
малым ложем для него.
И в ту же минуту я увидел целое полотно, с мельчайшими подробностями, будто появилось оно на страницах книжки: дым и облака, которые обволакивали поднимающегося во весь рост Колосса, его мускулистые плечи и спина, бегство в панике французских войск – эти их кони, мулы, повозки, оловянные солдатики. Много лет ничто так не возбуждало меня, а это видение настолько завладело мной, настолько домогалась запечатления та существующая только в моей голове картина, что я задохнулся; я встал, подошел к окну – я это прекрасно помню – и вернулся в кресло; потом меня вынесло в другую комнату; я не мог найти себе места до тех пор, пока не вытащил из угла большой пустой холст, загрунтованный под портрет какого-то французского полковника, которого отец собирался написать, но того послали в другой город и где-то по дороге убили и даже, по слухам, четвертовали. Большую же часть полотна, почти все свои запасы, отец отвез в Сарагосу и отдал на перевязку раненых защитников города, а в Мадриде остались только начатые холсты, а этим ран не перевяжешь.
Конечно, несмотря на спешку, я сохранял минимум благопристойности: снял сюртук, повесил его на спинку чистого стула, вытащил из кармана сюртука часы и положил их на стол, чтоб не упали, снял жилетку, развязал галстук, засучил рукава рубашки, ровненько, чтоб не помялись, и, надев рабочий халат, уже не помня себя, бросился в водоворот творения. Через закрытые двери я слышал, как Гумерсинда зовет меня, но мною настолько завладело то, что я увидел в мгновенном темном проблеске, когда читал стихотворение Арриасы, что не было сил ей ответить, крикнуть, что я в мастерской, что пишу; я второпях смешивал краски, широкими мазками писал хмурое, зловещее небо, тени на мускулах, потускневшую зелень пейзажа; позднее я слышал ее беготню, разговоры с прислугой, но все доходило до меня словно издалека, словно из иного времени, ибо тут, передо мной, на холсте четыре фута на четыре или даже побольше, проступали гигантские очертания – нет, не Колосса, а всей панорамы, в цвете и почти в движении; каково же было ее удивление, когда, поднимаясь по лестнице за простынями, она услышала, как я передвигаю мольберт, и, широко распахнув дверь, увидела своего законного супруга, в растерзанном виде, в одной лишь рубашке под халатом, пишущего картину. Ожидала ли она увидеть кого-то другого, кого на сей раз не было дома, он ведь стоял за этим мольбертом часами, днями, если, конечно, не охотился, не сидел за обеденным столом или не распускал хвост перед какой-либо девицей? Не знаю. Но, увидев меня, она поднесла руку к губам и, будто в трансе, показала мне ключ от шкафа с простынями, после чего повернулась и вышла.









































