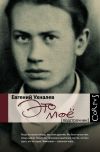Текст книги "Евгений Евстигнеев – народный артист"

Автор книги: Яков Гройсман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ЕЛЕНА АГАПОВА
…Женя, мой ученик в Горьковском театральном училище, и в юности отличался необыкновенными способностями. Его мать окончила всего два класса сельской школы, и в то время, когда Женя родился, работала чернорабочей на заводе Жир – треста в г. Горьком. С ней, с Марией Ивановной Чернышовой, я познакомилась уже после окончания Женей театрального училища и была поражена ее умом и интеллигентностью. Я спросила, откуда все это, а она отвечала, что всегда любила книги и много читала.
Женя поступил в училище 7 сентября 1947 года. Его мама потом рассказывала мне, что он еще раньше хотел учиться в студии при театре, но она его отговаривала. Насколько я помню, в училище он оказался вот почему.
В 1947 году, после окончания второго приема, мой муж Виталий Александрович Лебский, директор училища, получил записку от одного актера, работавшего вместе с нами в театре драмы. Он писал о том, что очень способный молодой человек, которому следовало бы поступить в училище, работает ударником в джаз-оркестре при кинотеатре ДК им. Ленина в Канавине. Муж поехал на выступление этого оркестра и, посмотрев Евстигнеева, принял его под свою ответственность, в виде исключения, после семилетки без экзаменов (полагалось принимать с десятиклассным образованием) в ту самую группу театрального училища, где я вела мастерство актера.
Очень помогало в работе наше содружество с мужем. Виталий Александрович был талантливым педагогом с богатой интуицией, очень любил молодежь, верил в нее и отдавал ей все, чем обладал сам. Мы как-то дополняли друг друга в работе, подчас очень спорили (не при учениках), иногда мне удавалось убедить его, иногда побеждал он.
Никогда только не могла убедить его хоть немного поберечь себя! Да, мы оба тогда не жалели себя… Часто, очень часто, особенно после экзаменационных показов, мы возвращались домой поздно ночью и долго не могли уснуть от усталости и пережитых волнений. Ведь играть самой много легче…
Курс, где учился Женя, был очень яркий, и это доказало время, прошедшее недаром для большинства выпускников.
По окончании училища пять однокурсников Евстигнеева были приняты в Горьковский театр драмы, но Женя не попал в их число. В том году председателем экзаменационной комиссии была А. Н. Самарина. Я просила ее за Евстигнеева, но Антонина Николаевна сказала, что выпускников рекомендовал в театр Н. А. Левкоев, и намекнула, что характерный актер не хочет принять в театр такого сильного соперника… Так Евстигнеев попал во Владимирский театр.
Летом 1952 года во Владимире побывал директор Школы – студии МХАТ В. 3. Радомысленский, там он увидел Женю Евстигнеева в спектакле и пригласил его на третий курс. Жене повезло еще и в том, что он попал к прекрасному педагогу Б. И. Вершилову. Думаю, что этот педагог дал ему очень много и что Евстигнеев, кроме своих способностей, обязан также и ему, и Радомысленскому.
Но всегда, даже будучи знаменитым столичным актером, он не терял связи ни с Горьковским театральным училищем,
ВЛАДИМИР КАШПУР
В 1951 году, когда я уже проработал сезон во Владимирском областном театре драмы имени А. В. Луначарского, из Горьковского театрального училища к нам приехала группа выпускников. Евстигнеев среди них считался самым талантливым.
При знакомстве он показался мне совсем мальчишкой: 25 лет, а выглядел моложе. Худой, живой, общительный, жизнерадостный. Поселили его со мной в одну комнатушку в общежитии. Была она полуподвальная, в два зарешеченных окна видны только ноги прохожих… Там у нас только и помещалось, что две кровати, стол да на треугольной полочке стоял радиоприемник, и мы ночами подолгу слушали музыку.
В этом старом доме (в общежитие переоборудовали бывшее картофелехранилище) прожили мы четыре года.
Он любил жизнь, хотя всегда критически, с улыбкой относился к ней, болезненно ненавидел любую несправедливость и всякое предательство. Был влюбчивым до бессонницы, до голодных обмороков… «Я ее страшно люблю, я без нее жить не могу!» – бывало, говорил он мне в порыве увлечения.
В театре Женя сразу завоевал признание не только зрителей, но, что еще труднее, труппы.
Играли мы все очень много – по пять-шесть премьер в сезон, почти каждый день выезды в область. В труппе было всего тридцать два человека, так что приходилось играть и большие, и маленькие роли. Наш главный режиссер Василий Кузьмич Данилов, бывший моряк, человек очень справедливый, любил молодежь и доверял ей. После приезда горьковчан популярность театра в городе возросла. Данилов вообще старался не отставать от театральной моды, часто ездил в Москву и дублировал понравившиеся ему спектакли. Во Владимире тогда шли «Порт-Артур», «На золотом дне», «Варвары», «Оптимистическая трагедия» и многие другие. Мы с Женей участвовали почти во всех постановках: в «Ночи ошибок» (это вообще был молодежный спектакль), в «Ревизоре» и «Ромео и Джульетте», в «Разломе» и «Любови Яровой». Случалось, играли в очередь одну и ту же роль, как в «Оптимистической трагедии» главаря анархистов. Василий Кузьмич, как я уже сказал, доверял нашей интуиции. Помню, в «Оптимистической» предложил: «Ребята, придумайте сами решение сцены!» Ну уж мы там и разошлись, похулиганили вволю, изображая группу анархистов. У одного за плечами торчит самовар, у другого – еще чище – на ремне кобура от пистолета висит, а когда он спиной повернется, – видно, что из нее торчит бутылка. Почти все это потом Василий Кузьмич снял, потому что, конечно, был перебор, но зато повеселились мы как следует и доставили удовольствие труппе.
Зарплата маленькая, жили бедно, одеты были кое – как. Помню, однажды мы с Женей приехали на рыбалку с удочками и засиделись дотемна. Куда идти? Стали стучаться в ближние дома, проситься переночевать, но хозяйки как увидят нас (выглядели мы просто какими-то бродягами), так и не пускают. Пришлось нам около знаменитого Спаса на Нерли под опрокинутой лодкой ночевать…
Однажды в день рождения Жени, 9 октября, мы еле-еле наскребли на четвертинку и одно яблоко. Много лет спустя в Москве я никак не мог придумать, что бы ему, тогда уже известному и обеспеченному артисту, подарить на день рождения. И преподнес ящик четвертинок и одно красивое яблоко. Он, конечно, вспомнил нашу молодость и с радостью рассказал за столом историю этого подарка…
Во Владимире он был на взлете, много играл, имел своего зрителя. И все же, несмотря на успех, уехал в Москву, вновь учиться. Вся его дальнейшая жизнь в провинции была предопределена, а МХАТ для всех нас являлся вершиной театрального искусства, и все мы стремились, конечно, только туда. Уговорил Женю поехать в Москву показаться его товарищ по Горьковскому училищу Миша Зимин. И ходит такая легенда, что уже после первого прочитанного им отрывка ему сказали: «Достаточно. Вы приняты».
Снова встретились мы в Москве, когда и я решил поступать в Школу-студию. Женя, который тогда ее уже окончил (шел 1956 год), подыгрывал мне как партнер. Курс набирал В. Я. Станицын, а поскольку я просил принять меня сразу на 3-й курс, то собрались все мастера студии: А. К. Тара – сова, П. В. Массальский, С. К. Блинников, М. Н. Кедров. Я показывал отрывок из 5-й картины «Кремлевских куран – тов» – встречу Ленина и матроса Рыбакова (Ленина я играл у себя в театре). Женя подыгрывал Рыбакова. Мастера были в некотором замешательстве, поскольку Ленин – и без грима?!
Потом В. Я. Станицын спросил меня, что еще я хотел бы показать. Тогда мы сыграли сцену из «Любови Яровой», где Евстигнеев был Швандей, а я – солдатом Пикаловым. После показа, когда экзаменаторы попросили нас удалиться, Женя успокаивал меня, что все завершилось удачно, он видел это по лицам педагогов. Так и получилось: я был принят, стал студентом, как когда-то Женя.
Он от природы был богато одарен: замечательная наблюдательность – такие детали схватывал с ходу, запоминал, что другой и не заметит вовсе; проницательность огромная – человека видел насквозь. Но умел все до поры прятать, обдумывать, копить в себе. Поэтому он был всегда ярок и обаятелен. Этим он сразу стал интересен, стал любим артистами, которым с ним легко было играть.
Ему были любопытны все люди – от прохожего на улице до знаменитости. Посмотрит – как сфотографирует, потом, может и не скоро, напомнит, покажет – а показывал он изумительно, даже одним жестом или взглядом! – только удивишься: когда успел запечатлеть?!. Приятелей у него в Москве среди актеров стало множество (ведь снимался постоянно, да при его общительности, жадности на людей), но сходился близко он с немногими, был в этом осторожен, выбирая тех, кому можно довериться. Люди от него заряжались, питались творческой энергией. Сам же он больше всего ценил жизнь в ее обычных, непосредственных проявлениях. Как-то мы с ним пошли на концерт самодеятельности. Выступала девочка, пела что-то, потом – то ли ноту не взяла или еще что произошло – она сказала «ой» и ушла со сцены, не захотела повторять… Жене понравилась эта непосредственность, он ценил ее и в жизни, и в искусстве.
Евстигнеев был очень музыкален во всем, даже в интонациях речи. Его реплики партнеру, порой одно какое-нибудь междометие, были музыкальны по ритму, их эмоциональность сразу отзывалась в зрительном зале. Он в юности играл на гитаре, немного на рояле. Обожал ударные. Причем на гитаре не романсы, а Листа любил играть. Классику способен был слушать часами. В спектаклях, если надо, он играл на балалайке. Но что меня всегда поражало – его слух, чувство ритма, тонкое восприятие каждого инструмента. Когда мы по ночам в общежитии слушали приемник, он, восхищаясь, часто говорил: «Слушай, как делят!» – это он про аранжировку мелодии инструментами так выражался.
На любом стуле, на любом столе мог ложками или пальцами ритм отстучать или ногами чечетку выбить! Все это от природы в нем было щедро заложено, особенно тяга к ритмическому самовыражению. Он многое делал импровизационно и очень заразительно.
Незаменимых нет – часто говорили и говорят у нас. Нет, не согласен! Евстигнеев незаменим, неповторим! И вообще, ведь каждый человек (а значит, и актер) индивидуален и неповторим, как отпечаток пальца. А Евстигнеев еще был и уникален. Казалось, что вдохновение не покидало его никогда. Он всегда умел создавать вокруг себя театр блестящими актерскими открытиями: и на репетиции, и в компании, и в быту. Он всегда, даже на съемке, искал зрителя-партнера – без обратной связи он не мог жить и работать. Ему казалось, что если он не сумел на репетиции найти что-то новое, интересное, то не стоит и репетировать. Ему всегда хотелось побеждать: в бильярд ли он играет (не уйдет, пока не выиграет) или на рыбалке – он желал во что бы то ни стало поймать рыбешку (пусть маленькую, но поймать, и тут же ее отпустить обратно в воду).
Прост он был только с виду, а по душе, по огромному таланту – неисчерпаемая глубина. Я часто вспоминаю его замечательную роль Чебутыкина в «Трех сестрах», которую он очень любил. Там есть сцена, в которой пьяный доктор разоблачает себя и окружающую фальшь. Он с такой мукой произносил: «Третьего дня разговор в клубе: говорят – Шекспир, Вольтер… Я не читал, совсем не читал, а на лице показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость!» Это было очень личное место, евстигнеевское, замечательно сыгранное к тому же – он там и смеялся, и плакал одновременно. Он и в жизни был очень искренним, совестливым, не любил ничего показушного и справедливо, без скидок оценивал окружающих.
А в роли Соломахина в пьесе А. Гельмана «Заседание парткома» он замечательно умел молчать. Тот, кто его хорошо знал, мог бы понять его отношение и без монолога – так он был выразителен. Евстигнеев мечтал о совсем молчаливой роли, без текста. Наверное, для этого нужен гениальный драматург, но он-то сумел бы это сделать, как никто другой… «Если я молчу, то зритель должен понимать, о чем я молчу», – говорил он.
В нем все сосуществовало: и глубокая искренность, когда он словами персонажа нес со сцены свое, выстраданное, и его бесчисленные, самые разнообразные находки. Он это называл «припек в роли». И в каждой из них у него был свой, евстигнеевский «припек». В любой его работе была закон – ченность, виртуозность отделки, я бы сказал, концертность. При этом он не позволял себе нарушать ансамблевость спектакля или режиссерский рисунок. Возьмите хоть Ивана Адамыча из «Старого Нового года» М. Рощина. Драматург на репетициях вписывал рожденные тут же Женей реплики, и роль вырастала. Все это автору, артисту и всем участникам спектакля нравилось. Да и в последней своей роли, в «Игроках – XXI», когда он появлялся на сцене, один его взгляд на партнера, один характерный поворот головы уже создавали образ и вызывали в зале аплодисменты. Так же его встречали и в спектаклях, которые он продолжал играть во МХАТе: в «Чайке», «Дяде Ване», «Колее». Он все роли играл всегда с пол – ной отдачей, хотя и отлеживался на кушетке в своей гример – ной, принимая лекарства, после каждой темпераментной сцены.
…Он любил свою маму Марию Ивановну самой глубокой и трогательной любовью. В тяжелые военные и послевоенные годы они очень заботились друг о друге. Он и в Москву учиться приехал в шитой ее руками шубе, потом она у него долго хранилась…
Последний раз мы виделись с ним в начале марта, перед его отъездом в Лондон на операцию. Он был живой, веселый. «Я тебя жду!» – сказал я ему на прощание. Оказалось – навсегда.
ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ
Солнце, весна, радость, любовь… студенчество, одним словом. Наши глупые молодые головы гордо реют над толпой: еще бы: мы – студийцы прославленной Студии МХАТ, у нас на груди значок с белоснежной чайкой, мы почти ежевечерне протираем единственные штаны на знаменитых ступеньках мхатов – ского бельэтажа, мы вхожи в кафе «Артистическое» напротив театра, где бульон и пирожки с мясом…
…Мы замечательно вдеваем отсутствующую нитку в отсутствующую иголку, вворачиваем отсутствующую лампочку в отсутствующий патрон, мы учимся жить правдой физических действий, наша общая гордость – этюд «Уборка урожая в колхозе», где отсутствующими вилами швыряем мы отсутствующие снопы…
…Мы делаем этюды «на общение», пытаясь без слов передать мысли партнеру, впадая от напряжения в полуобморочное состояние…
Мы – это студенты курса, руководимого Массальским, педагогами Вершиловым и Комиссаровым, мы – группа юношей и девушек, бедно одетых, полуголодных, полупьяных от сознания причастности к великой тайне Художественного театра.
Позднее в этой толпе счастливых щенят появляется новая, весьма странная фигура. Это худющий, костлявый, почти лысый человек с зеленоватым от недоедания лицом. На человеке этом – вечно один и тот же неопределенного цвета ветхий пиджак и почти прозрачные от древности, поблескивающие на коленях штаны.
Возраст – значительно старше нашего. Женька Евстигнеев. Он уже несколько лет работал в театре в провинции. Даже играл в джазе. В отличие от нас он знал, что такое сцена, помнил успех, овации, поклонение зрителей.
– Зачем тебе учеба, Женька?!
– Хочу стать настоящим артистом.
С его приходом наши успехи во втыкании отсутствующей иголки в отсутствующую пуговицу сильно потускнели.
Скучно было ему этим заниматься. Но когда он делал этюд, не просто потел от натуги, а, не особенно заботясь о точности движений, неожиданно являл какого-то другого человека, странного, к примеру – одинокого близорукого холостяка, всем телом пытающегося помочь непослушным рукам соединить нитку с иголкой.
На уроках вокала мы старательно демонстрировали наши успехи в постановке голоса, тщательно выпевая незатейливые мелодии, а Женька в песенке об Анри Четвертом, не особенно задумываясь о вокале, возьми да сыграй этого самого Анри – пьяницу, бабника, жизнелюба, на глазах превратясь из костлявого Женьки в вальяжного повесу, до макушки наполненного пленительным бургундским…
Да, скучновато ему, видимо, было заниматься школярством, но он решил освоить всю азбуку актерской мхатовской школы и работал всерьез на всех дисциплинах, хотя и подхулиганивал постоянно.
Однажды я дико заржал на занятиях по танцу: Женька за спиной у Марии Степановны Воронько, погоняемый ее обычной командой: «И-и-и, кретины! И-и-раз, и-и-два!»
– вдруг изобразил такого радостного идиота с окостеневшей ногой-кочергой, старательно нелепо подпрыгивающего в своих широких сатиновых трусах – и все мимо, мимо такта, – что я свалился, рыдая, от приступа неудержимого хохота.
Он и хулиганил талантливо, а попадало мне, потому что я ржал, а он неодобрительно покачивал головой, превращаясь в педантичного, преданного делу тихого студента.
Но что-то заставляло его все чаще уходить в себя, замыкаться, быть внутренне сосредоточенным на чем-то очень важном и не понятном для нас… Что это было? Не знаю… Может быть, сознание необходимости и трудности достижения цели, идеала, зовущего его?
Наш незабвенный Борис Ильич Вершилов сказал ему: «Женя, вы готовый прекрасный артист, но для того, чтобы стать артистом мхатовской школы, вы обязаны содрать с себя все провинциальные штампы, почувствовать радость от действия, а не от восторгов зрителей, научиться не захлебываться талантом… Это большая работа». Видимо, эта постоянная внутренняя работа и заставляла его уходить в себя, отдаляться от нас…
А я упивался поэзией сегодняшнего дня, ничуть не смущаясь при мысли о будущей прозе.
Кстати, вот я все «Женька» да «Женька»… Неуважительно как-то. А с другой стороны – как иначе? Евгений Александрович? Да Женька никогда бы не простил мне, подумал бы, что издеваюсь. Так что пусть будет – Женька.
Виталий Яковлевич Виленкин упрекнул нас однажды в том, что мы ленивы и нелюбопытны, что текучка заела нас, мы мало читаем, мало видим нового.
– А ведь ваша душа – копилка, из которой в будущем вам придется доставать золото ощущений… вы должны обогащать свой внутренний мир, не считаясь ни с какими трудностями, – постоянно читать, смотреть, слушать! Только человек с богатым внутренним миром способен быть подлинным артистом! Как Качалов! Как Станиславский!
Вдруг разнесся слух, что в клубе МГБ будет показан фильм Чарли Чаплина. Чаплинские фильмы не шли тогда, Сталин очень обиделся на фильм «Диктатор», и хоть был на дворе 55-й год, – заветы вождя были еще живы.
Упустить такую возможность – обогатить внутренний мир – было бы преступно, и я как староста курса обратился к ребятам с пламенной речью, главной мыслью которой было обогащение внутреннего мира посредством просмотра чаплинского фильма.
Положение несколько осложнилось тем, что начало просмотра фильма было назначено на два часа, что совпадало с началом лекции Виленкина по истории МХАТа. Но, помня слова Виталия Яковлевича – «не считаясь ни с чем, обогащать внутренний мир», – я пообещал все уладить, и мы, проглотив пирожки в «Артистическом», радостные и счастливые, повалили вниз по проезду Художественного театра, потом вверх по Кузнецкому, мимо холодящего душу гигантского застенка – зданий МГБ, возвышающихся над всей Москвой…
Как нам удалось уговорить стража с чистыми руками и горячим сердцем – не помню, помню только, что в зале оказалось нас немного – некоторые по дороге решили обогатить свой мир в других местах.
По телефону я радостно сообщил Виталию Яковлевичу, чтоб он не ждал нас на лекцию, ибо мы обогащаем свой внутренний мир в клубе МГБ.
Виталий Яковлевич сказал: «Спасибо, Олег. Вы очень любезны». И повесил трубку.
На следующий день я был с треском снят с поста старосты, им назначили Женьку – единственного, кто честно остался на лекции. Таким образом, теперь уже официально он был признан самым серьезным человеком на курсе.
Мне всегда было хорошо с ним. Никогда не забуду его «буги-вуги» на пианино, имитацию ударных ножом и вилкой, никогда не забуду нашу курсовую поездку с концертами на целину, наш общий котел, концерты на грузовиках посреди необъятной степи. Женька был изысканно элегантен в смокинге из костюмерной МХАТа, правда, на брюках спереди было большое белое пятно, видимо, лак, но застегнутый смокинг отлично скрывал его.
На выпускных экзаменах он показывался в двух ролях: Мориса в пьесе Крона «Глубокая разведка» и Лыняева в «Волках и овцах» Островского.
В «Глубокой разведке» прекрасно играли Козаков, Доронина, Сергачев, Кукулян и многие другие, но Женька, Женька!..
Каким живым, бешеным человеком был его Морис, как ненавидел он приспособленца Мехти, как интеллигентски беспомощно немел он перед его подлостью, бледнел от ярости, взрывался и хрипло восклицал: «…Эттто по-тря-са-юще!!!»
Да, потрясающе играл он эту роль, за его Морисом виднелись тысячи интеллигентов, фанатиков своего дела, которых не сломили на террор революции, ни унижение, ни репрессии… Я, наивный человек, убежден был, что его теперь введут в мхатовский спектакль…
В «Волках и овцах» его партнершей стала Доронина – Глафира. Дуэт получился блистательный. Доронина в рыжем парике была обольстительна и опасна, а Лыняев…
Каким чудом худющий, всегда голодный Женька превратился в кругленького, румяного, словно наливное яблочко, либерала-помещика?! Откуда у него эта дворянская плавная элегантность, эти раскатистые покровительственные интонации только что сытно отобедавшего, довольного собой человека?!
Как он был округл и мягок, как выразительны его белейшие руки вечного бездельника и сибарита, как он был наивен в своем либерализме, в своей торжествующей уверенности в том, что никакие чары Глафиры не заставят его изменить вольную, свободную жизнь, к которой он так привык! И какая беспомощность, какой подлинный ужас были в его глазах, когда он начал понимать, что его неудержимо несет в пасть акулы, когда он обнаруживал, что всё! Пойман!! Пасть захлопнулась!!! Трагикомедия российского либерала, неспособного сохранить, отстоять свои принципы в столкновении с жизненными трудностями…
Когда я сегодня слушаю постыдные попустительские речи иных наших бывших либералов, ныне вставших на крайне реакционные позиции, я вспоминаю женькиного Лыняева, своим попустительством создавшего силу, проглотившую его с потрохами.
В «Волках» я играл Беркутова. Мой мизерный жизненный опыт, стеснительность явно противоречили характеру этого персонажа – хищника умного, расчетливого. Я дико волновался перед экзаменом. Женька видел это.
– Ты вот что. Ты, когда выйдешь на сцену, – плюнь. Плюнь на комиссию. На всё. Плюнь и посмотри мне в глаза. Понял? – шепнул он мне перед выходом, на секунду превратившись из толстяка и сибарита Лыняева в привычного худющего и голодного Женьку. И когда на сцене я заставил себя увидеть его глаза – беспомощные, наивные, жалкие, – я почувствовал себя сильнее, умнее, и мне стало свободнее…
В гримерной моей висит сделанная Женькой фотография Вершилова с дарственной надписью нашего учителя. Этот снимок – лучшая память о Студии, о солнечной юности, о Женьке. Простите – о Евгении Александровиче Евстигнееве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?