Текст книги "Сон Сципиона"
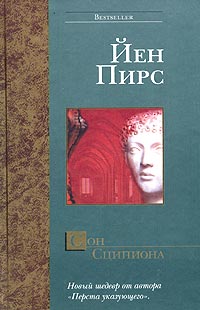
Автор книги: Йен Пирс
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Если бы Оливье не оказался на церковных ступенях в тот день и не влюбился, возможно, он и его семья не стали бы жертвами страшного позора; таков, во всяком случае, общепринятый взгляд, который все, кто слышал о нем, принимали безоговорочно. Тогда бы недуг любви не затуманил его сознание, и ее мужу не пришлось бы мстить за свою поруганную честь тем способом, какой он избрал.
Общепринятое толкование на самом деле абсолютно неверно. Если бы он не увидел данную женщину именно тогда, в этих конкретных обстоятельствах, он либо так и не узнал бы о ее существовании, либо остался бы равнодушен к ее обаянию. Теперь уже не модно и даже не совсем прилично говорить о вмешательстве судьбы или рока. Любовь – всего лишь стечение обстоятельств во вселенной, управляемой случайностью, которая смела прочь все остальные божества и обрела власть почти неограниченную. Но до чего же божество Случайность скучно в сравнении с теми, кого оно победило. Облаченное в хладнокровную рациональность – до чего же, в конце-то концов, рационально утверждать, что ни для чего нет никаких логичных причин, – оно привлекательно лишь для обнищалых духом.
Данный критический довод остается в силе, даже если бы Оливье не влюбился в эту женщину. Он ведь скорее влюбился в идею, обрызнутую солнечным светом в то теплое утро. София сказала бы, что его коснулось воспоминание о божественном, смутная память о происхождении души до того, как она упала на землю и вселилась в тело. Идея выглядела потрясающе, однако не была столь уж уникальной, как чудилось ему. К тому времени, когда Данте свел свою Беатриче к стихам, она вряд ли осталась реальной женщиной, а Лаура Петрарки, вполне возможно, существовала только в его воображении. Оба полюбили своих возлюбленных особенно сильно, когда те умерли и уже не угрожали их воображению появлением морщин или досадительной самостоятельностью мнения.
Результат достаточно хорошо известен – во всяком случае, ученым, знакомым с поэзией той эпохи и языком того времени: ведь Оливье писал на провансальском, который вновь вошел в моду с поколением отца Жюльена Барнёва, ну и его сын тоже выучил этот язык. Для таких людей уцелевшие стихи – около двадцати их – аккуратно разделились на две категории, получившие названия юношеских и зрелых. Согласно этому разделению, наиболее ранние стихи представляли собой essays55
эссе (фр.).
[Закрыть] – опыты подмастерья, в которых юный поэт еще не овладел искусством совершенствовать выражения, вытесывая их из грубого камня языка. От неточностей в этих стихах разит формализмом средневековья, в них ощущается загрубленный трубадурский стиль недавних времен. В ранней юности Оливье не обладал средствами выражения и достаточной уверенностью в себе, чтобы сбросить путы унаследованных приемов и заговорить прямо из глубины сердца.
А еще есть последние стихи, написанные, по-видимому, перед самым его крушением, когда он наконец полностью рвет с искусственностью и говорит со звенящей страстью, которая не звучала в поэзии более тысячи лет. Даже в переводе и через пятьсот с лишним лет трудно остаться равнодушным к тому, как он изливает свой всепоглощающий восторг от свершения любви и понимает, что это ни к чему привести не может. Естественно, такое впечатление слагалось не у всех; для других последние стихи были свидетельствами расстройства сознания, помутненного Черной Смертью либо какой-то внутренней психической болезнью.
И поскольку до выводов Жюльена никому ничего подобного и в голову не приходило, даже не рассматривалась возможность, что такая внезапная зрелость самовыражения, такой сдвиг в сторону нарастающей эмоциональной напряженности – сопровождаемый весомостью системы образов и уверенностью в подходе – были следствием того, что Оливье впервые по-настоящему полюбил реальную женщину, а не абстракцию, существовавшую только в его воображении. Также не было известно, что любовь эта была не к Изабелле де Фрежюс, по установившемуся мнению – вдохновительнице его поэзии; Жюльен установил, что данная ассоциация возникла только после его смерти. Изабелла действительно спускалась по ступеням той церкви в тот день, но Оливье ее даже не заметил. Он смотрел в другую сторону, устремив неподвижный взгляд на девушку в темном шерстяном плаще, аккуратно, но заметно заплатанном, торопливо шагающую в одиночестве по другой стороне улицы. До тех пор, пока Оливье не увидел ее снова и не узнал ее имени, он искал ее с исступлением, сквозящим в написанных тогда строках. Каждый день, выходя на улицу, он надеялся увидеть ее; много раз он следовал за фигурой, закутанной в темный плащ, только чтобы ужаснуться, наконец увидев лицо, скрытое под покрывалом.
Жюльен заметил Юлию в первый же день круиза, когда поднимался по сходням с чемоданчиком в руке, который побоялся доверить матросу. Она облокачивалась о поручень высоко вверху, глядя на портовую суету и разговаривая с мужчиной, которого Жюльен счел ее отцом, в чем не ошибся.
Она была настолько же красива, насколько ее отец был уродлив; в ней смуглость, пухлость губ и легкая удлиненность носа слагались в то, что художник вроде Модильяни превратил бы в классический образ эпохи, в намек на неуловимую необычность. Те же самые черты у ее отца могли быть подчеркнуты, искажены и окарикатурены в еще один классический образ той же эпохи, но без какого-либо тончайшего намека.
Вечером того же дня он познакомился с ней за коктейлями, которыми отпраздновалось начало круиза. Все они путешествовали первым классом, закупленным en bloc66
целиком
[Закрыть] организаторами для интеллигентного сообщества профессоров, писателей и интеллектуалов, которые объединились в круговом неспешном объезде Средиземноморья с тем, чтобы некоторые читали лекции или возглавляли экскурсии, когда пароход причалит вблизи изучаемых ими достопримечательностей, а другие слушали бы. Большинство составляли французы, хотя за столиками сидели и представители других европейских стран, главным образом тех, которые еще совсем недавно сражались вместе. Юлия Бронсен и ее отец были неясной национальности. Привкус Франции в сложном рецепте, но эксперт различил бы в нем капельку итальянского, а также намек на русскую кровь. Жюльен так и не узнал, насколько это было важно для его любви к ней.
Собственно, познакомился с ним ее отец, Клод Бронсен, и Жюльен, как-то присоединившись к нему и его дочери за обедом, вновь поразился, что такой несуразный некрасивый мужчина оказался отцом столь красивой дочери. Он легко поддался тому, как Бронсен разговорил его, задавая ему вопросы о нем, поздравив его с успехом, о котором он, все еще по-юному тщеславный, успел упомянуть уже за супом, а затем принявшись рассказывать о Париже, и Риме, и Лондоне. Отец и дочь внесли в мир Жюльена нюанс утонченности, ведь, несмотря на войну, он почти не соприкасался с обществом. Он давно грезил о таком окружении, о том, чтобы стать желанным гостем на приемах и суаре, о том, чтобы видеть в своем кругу и писателей, и художников, и дипломатов, и просто влиятельных людей, или хотя бы быть принятым в их кругу. Бронсены были его первым соприкосновением с этими сферами, и он смаковал бы их, даже будь они менее приятными, интересными и приветливыми.
– Вы поедете в Рим, это так? – спросила Юлия.
– В сентябре, – ответил он. – В Эколь ди Ром на два года.
– Поздравляю вас с вашим успехом, – сказала она. – А я была там только раз. Когда мне было всего четырнадцать. Но как знать? Быть может, я сумею убедить папу опять свозить меня туда. И даже не исключено, что в один прекрасный день он отпустит меня одну, перестанет все время » надзирать за мной.
Из других уст такие слова могли бы прозвучать саркастически или даже жестоко; Жюльен на том этапе говорил бы о своем отце именно так. Но к упреку Юлии добавлялось любящее снисхождение к отцовской слабости, которая, однако, не маскировала до конца, насколько ее угнетала его нужда в ней. Ее ласковый бархатный голос был исполнен смирившейся, чуть насмешливой любви дочери к обожающему отцу, разлученному с женой, когда девочке было только шесть месяцев, и приложившему все усилия – согласно требованиям эпохи – вырастить ее в одиночку. Он не женился во второй раз, никогда даже не думал об этом, Юлия была для него и началом, и концом, и она принимала это в ущерб себе, с легким протестом.
– И что вы будете делать там, мсье? – осведомился отец. – Распуститесь и утонете в безделии? Или будете транжирить время на честный труд?
У него была манера, унаследованная его дочерью, переворачивать фразы вверх ногами и произносить их с юмором, который, если его хорошо проанализировать, говорил о многом. Был ли Жюльен всего лишь книгочей? Или он чутко отзывался на внешний мир, умел воспринимать время и место, ощущать историю в камнях и таким образом делать свой труд более тонким и емким? Вы всего лишь педант, мсье? Или в вас таится живая искра? Вы сделаете что-то со своей жизнью? Ответьте на мой вопрос со всем доступным вам остроумием, и мы увидим.
– Я не могу бездельничать, если не тружусь, – сказал Жюльен. – Постоянный надзор над нами гарантирует, что меня сразу отправят восвояси, если я не покажу требуемых результатов. Через девять месяцев нам разрешат жить в городе и работать более самостоятельно – или нет, это уж как у кого. Но я вряд ли буду сталкиваться с особыми соблазнами. Те, в Эколь, кто может стать моими друзьями, будут схожи со мной.
– А именно?
– Серьезными, усердными и скучными, – ответил он. – Тут ничего не поделаешь. Распущенность в учебную программу не включена.
– В таком случае, – сказал отец, – вы упустите самое прекрасное и поучительное, что предлагает Рим. Нам следует приехать и спасти вас. Мне приходится посещать Италию по крайней мере раз в год. И я предлагаю вам обмен. Вы покажете мне Рим, который, без сомнения, за самый короткий срок узнаете лучше, чем я, а я познакомлю вас с римлянами. Их, во всяком случае, я знаю хорошо.
– Согласен, и с большим удовольствием, – радостно ответил Жюльен. – И вы должны сдержать слово. Я буду с нетерпением ждать вашего приезда и очень огорчусь, если не получу от вас вестей. Могу ли я спросить, почему вы ездите в Италию?
После почти часового разговора он в первый раз осмелился проявить инициативу, в первый раз попытался перевести разговор с себя на другую тему, отчасти почувствовав, что должен выглядеть страшно эгоцентричным, но главным образом потому, что отец и дочь вдохнули в него непринужденность.
Однако отец махнул рукой.
– Не имеет значения и неинтересно, – сказал он. – Просто работа. Потребуется жизнь целого поколения, чтобы возместить то, что было разрушено за несколько лет. А может быть, и больше, если политики и дальше будут транжирить на ветер время и деньги, насколько в их силах. Моя обязанность – обеспечить, чтобы им не на что было ссылаться, кроме собственной апатии. Но это малоувлекательно и не идет ни в какое сравнение с тем, что делаете вы.
Шутка на его счет? Да, решил Жюльен, но Юлия перевела ему:
– Папа – ученый manqu77
несостоявшийся (фр.).
[Закрыть], – сказала она мягко. – Он всегда мечтал писать книги. Но вместо этого разбогател, так что об этом не может быть и речи.
– А вы, мадемуазель?
– Она занимается искусством, – сказал Бронсен, улыбнувшись ему.
– Правда? – Он снова обратился к ней и заметил, что она внимательно что-то ищет в нем. Притворного восхищения? Презрения к бездарной любительнице? Непонимания и легкого неодобрения богемы? – Каким искусством?
– Я художница, – ответила она. Но ничего больше не сказала.
– Хорошая? – не отступал он.
– Да. На редкость, – вновь ответил за нее отец. Улыбка Жюльена, понимающая, но слишком проницательная, заставила ее ответить подробнее.
– Нет, – сказала она, – пока еще нет.
Сказала она это с такой осторожностью, что Жюльен, который мог бы легко переменить тему и заговорить о чем-нибудь не столь личном, решил копнуть глубже.
– Я замечаю тут некоторое расхождение во мнениях.
– Папа надеется, а я знаю. И я не недооцениваю себя. Я могу стать хорошим художником. Или даже не просто хорошим. Но до этого мне еще далеко.
– Но что для этого требуется? Чего недостает?
— Труда, – сказала она. – Работы, пота моего лица. Великая картина – это не гений, помахивающий кистью. Это годы сконцентрированных усилий. Путешествие без карт и лишь с самым туманным представлением о том, куда направляешься.
– Она кривит душой, – вставил Бронсен с улыбкой, ласково потрепав ее по плечу. – Не обманитесь ее скромностью. Собственно говоря, скромностью она не страдает. И прекрасно сознает свои способности. Как и комитет Salon de Automne88
Осенний Салон (фр.).
[Закрыть], отобравший для выставки три ее картины.
– Теперь моя очередь поздравить вас. Хотя, не увидев своими глазами, я пока воздержусь от суждений, – сказал Жюльен. – Мне очень хотелось бы посмотреть ваши работы, если вы не против. Хотя, предупреждаю заранее, мое мнение ничего не стоит.
Юлия внимательно посмотрела на него.
– Увидим. Быть может.
Примерно на половине круиза Жюльен дружески и без всякой цели разговорился с человеком средних лет, жизнерадостным, добродушным, приятным субъектом из тех, что сразу вызывают симпатию. Они только что покинули Афины и направлялись к Палестине, погода стояла прекрасная, и все предались беззаботному удовольствию общих впечатлений.
– Меня удивляет, что вы столько времени проводите с этими двумя евреями, – услышал он. – Если не поостережетесь, вас могут счесть тоже евреем. Сам я считаю, что их присутствие на борту портит атмосферу.
Случайное, небрежное замечание без задней мысли или злости. На долю секунды оно угнездилось в сознании Жюльена, но слепящий гипнотический блеск волн был слишком великолепен, чтобы тревожиться, и он скоро забыл эти слова. И он ничего не сказал в ответ, ни в свое оправдание, ни в похвалу своим корабельным знакомым. Он только пожал плечами с притворным безразличием и посмотрел на море; он понял эти слова позднее и осознал, что это был момент, суммировавший все его существование в едином мгновении, подобно миру, отраженному в крохотной бусине воды, пока она падает на землю.
Юлия сидела на земле, скрестив ноги, делая наброски среди холмов над Иерусалимом, где они остановились с ночевкой. Загорелые руки и сосредоточенность настолько абсолютная, что даже оса – единственное, что приводило ее настоящий ужас, – могла бы спокойно ползать у нее по ноге, оставаясь незамеченной. Жюльен смотрел, очарованный ее самообладанием, распознавая в ней нечто, пробудившее в нем чуть заметную тревогу.
Этот образ запечатлелся в его мозгу, как фотография, и остался с ним до самой его смерти. Такое бывает. Весь круиз, чудеса, которые он видел – столицы и городки, руины и пирамиды, храмы и церкви, – медленно стерлись в его памяти или превратились в воспоминания, которые всплывают, если потребуются, но подавляющую часть времени покоятся нетревожимые. Однако эта виньетка обладала собственной жизнью. Она преследовала его, взывала к нему, навязывалась. Когда он засыпал, когда покупал газету, или шел по улице, или сидел, читая, у жаркого огня, – его мысли мешались, возвращали его именно к этому моменту, всегда неизменному, всегда точно такому же.
Каждому дано в жизни мельком увидеть рай. А это был рай Жюльена. Ему было бы достаточно протянуть руку.
Позднее он решил, что его удержали нравственные понятия и робость буржуа из провинции; человек, который уехал из Рима в 1927 году, не испытал бы подобных сомнений и колебаний, он стал бы любовником Юлии тогда же и там же и облек бы магическое мгновение плотью. Однако он знал, что такое объяснение было ложью, предназначенной замаскировать и разуверить. Он не опасался быть отвергнутым, скорее он боялся получить согласие. Он знал, что она была единственной в мире, с кем он не смог бы расстаться. И боялся полюбить ее.
Несколько секунд спустя она вздохнула и принялась укладывать листы назад в этюдник. Она не понимала, почему вздохнула, с ней это случалось редко. Быть может, она тоже осознала, что в этот момент что-то было упущено.
Жюльен ушел с этим осколком памяти, навеки сверкающим в жарких лучах средиземноморского солнца, как напоминание о чем-то предложенном, но отвергнутом. И оно оставалось с ним, пока он не узнал больше и не был готов. А до того у него взамен был этот миг, это выражение на ее лице, когда их глаза встретились.
Он объезжал Средиземноморье, чтобы смотреть и узнавать – идея, которая даже в голову бы не пришла людям эпохи Оливье де Нуайена: у них не хватало ни энергии, ни денег, ни времени для траты на любые излишества такого рода, а уж растранжирить сразу все три – о подобном они и помыслить не могли. Да и природу они не находили столь уж чудесной, они были хорошо с ней знакомы и не питали никаких сладостных иллюзий о ее благотворности. Порой в лирических стихах мы улавливаем одобрительный намек, когда легкий ветерок пробуждает влюбленное сердце или облетающие листья знаменуют умирание любви, но, в общем, письменные памятники той эпохи обходят молчанием красоту природы, кроме как в уподоблениях.
Даже Оливье считал, что совершает свои бесчисленные крест-накрест путешествия по нынешним южной Франции, Италии и Швейцарии ради конкретной цели. Есть даже указание, что один раз он посетил Англию в свите епископа Винчестерского в 1344 году, хотя весомых доказательств нет. Да и вообще это выглядит маловероятным. По всей очевидности, он отправлялся в эти поездки с неофициальными дипломатическими или административными поручениями, которые умел выполнять с такой ловкостью и пользой – передавал известия, возносил хвалу, собирал сведения, – или разыскивал древние манускрипты, что стало для него почти манией.
Однако Жюльен не просто налагал собственные ценности и мнения, когда воображал, что Оливье извлекал удовольствие из самого путешествия помимо его конечной цели и что он нередко избирал кружной путь и без всякой нужды останавливался в местах ничем не интересных, кроме своего очарования. Опять-таки многое сводилось к предположениям: точно засвидетельствованы были только две поездки поэта: одна в Дижон, прославленная его великим аллегорическим письмом о святой Софии, и еще в Бордо. Тем не менее, безусловно, были еще и другие, поскольку список приобретенных им рукописей указывал на многократные путешествия.
Конечно, Оливье видел мир по-новому, непривычно. Манлий созерцал пейзаж и подгонял его к условностям эклог Вергилия, превращая его в подтверждение литературной традиции, почти исчезнувшей к его эпохе, и наполняя его меланхолией ностальгического бессилия. Жюльен откликался со всей ортодоксальностью человека, вскормленного на Руссо, но реакция Оливье была более непосредственной и самостоятельной. Он чувствовал, что испытывает тайное, доступное только ему наслаждение, и то, что никто еще не мог – да и не желал – разделить его восторги, составляло самую суть его счастья.
Случайно оброненная фраза заставила его сделать крюк после поездки к бургундскому двору в 1346 году. В двух днях пути от Авиньона, отдыхая в доме, чьи хозяева были в долгу у кардинала, он услышал, как кто-то упомянул часовню Святой Софии к востоку оттуда на расстоянии длинной прогулки.
– Очень священное место, – сказал его радушный хозяин, – обладающее великой силой благодаря заступничеству благословенной святой. Особенно женщины отправляются туда, когда им приходится принимать трудные решения. И там есть маленький скит, если не ошибаюсь, очень древний, где живут люди, присматривающие за святилищем.
Оливье тотчас заинтересовался, и одного имени святой оказалось практически достаточно, чтобы он отменил все свои планы на следующий день, оставил там небольшую свиту из слуг и друзей – к большой досаде радушного хозяина, которому теперь предстояло кормить их два лишних дня, – и на следующее утро отправился в путь. Возможно, этому решению способствовало и то, что часовня находилась неподалеку от его родного городка, а он не видел родных почти два года. Кроме того, всем известно, сказал он в свое оправдание, что подобные места хранят много сокровищ.
Но все это было лишь частью причины: остальную часть, в которой он почти не отдавал себе отчета, составляло блаженство идти, вдыхая свежий деревенский воздух, в полном одиночестве, не зная, что ждет за следующим поворотом. Посидеть на полдороге на теплом склоне, залитом солнцем, слушая птиц, съесть кусок хлеба с луковицей, вздремнуть в тени, а проснувшись, увидеть солнечные блики в густой листве над головой. В безмятежном покое. Не слышать человеческих голосов, не вести разговоров, позволять мыслям воспарять все выше и выше.
И какой это был рай! Ведь если эта область Франции восхищала сердце Жюльена Барнёва и он спешил туда всякий раз, когда нуждался в утешении, то Оливье она восхищала вдвойне – до того, как строительные работы и сведение лесов изменили пейзаж, лишив холмы их деревьев и почвы. Хотя люди жили там уже две тысячи лет, они еще очень немного воздействовали на ландшафт; большая его часть оставалась нетронутой и не замечала их присутствия.
В конце его пути стояла часовенка – на выступе склона над долиной Увеза, распаханной лишь частично, а в остальном сохранившей Дремучий лес. Со временем деревья на западной стороне будут выкорчеваны и заменены виноградными лозами и оливами, как было и в дни Манлия. Сама часовня была каменной, и более образованный глаз, чем у Оливье, определил бы ее как романскую, построенную на более древнем фундаменте. Дверь обрамляла полукруглая арка с пространством для барельефа, так и не изваянного. У крыши тоже был незаконченный вид, между каменными ее плитками пробились кустики и деревца, но ее незавершенность ничуть не смутила Оливье; куда больше его поразило то, как вокруг нее разрослись деревья, укрывая ее от солнца и осенних ветров, как уютно она угнездилась там. Едва он ее увидел, как почувствовал радость, и именно это чувство он попытался поймать и претворить в свою первую прозу, а затем в стихи.
Прогулка эта заняла два дня и – поскольку даже поэты склонны сводить испытанное ими к общепринятым, а часто и литературным формам – в ретроспективе превратилась в паломничество. Жюльен об этом знал, так как Оливье описал свою поездку в письме к патрону, и клерикальные бюрократы подшили даже его. Письмо отчасти послужило предлогом для объяснения, почему простая доставка послания его патрона заняла пять месяцев и обошлась в небольшое состояние, но и в нем внимательный читатель мог уловить первые проблески чего-то нового. Оливье прибегнул к аллегории, и описывая долгое путешествие как странствования его души, взбирание на холм – как восхождение к Богу, приближение к часовне – как приобщение к истине. Эта форма – не роман – допускала реализм описаний, не имеющий параллелей ни у Данте, ни у Петрарки, ощущение природы, которое другие сводили к общепринятым. Путаница, тогда во многом присущая сознанию Оливье, создала поразительный эффект – смесь паломничества и туризма, духовной жажды и физического желания, и все это было облечено в форму, отчасти в традиции трубадуров, а отчасти – возрожденно-классической, и в результате абсолютно новую. Жюльен перевел письмо и опубликовал в приложении к своей «Histoire»99
«История» (фр.).
[Закрыть], хотя грозные события того времени помешали его труду привлечь к себе внимание.
Во что бы ни верили окрестные жители – а многие и по сей день считают, что святая пришла туда с Магдалиной и прожила остаток жизни отшельницей, после того как обратила край в христианство, – часовня Святой Софии имела куда более простое происхождение, что Жюльен установил впервые, когда заметил совпадение имени святой с именем проводницы в рукописи Манлия. Ибо София действительно доживала свои последние годы там, но отнюдь не как проповедница христианства; а наоборот, ее там поселил Манлий Гиппоман, когда спешно увез из Марселя, становившегося слишком опасным. Без его поддержки ее будущее было бы беспросветным. У нее никогда не было сколько-нибудь солидного семейного состояния – ничего, кроме арендной платы за два-три дома и столько же лавок и земельного участка в глуши, но теперь она почти не получала с них дохода. Население уменьшалось, торговля хирела, и арендные взносы почти прекратились. Только налоги остались прежними.
Положение ее стало настолько тяжелым, что София впервые узнала настоящую нужду. Что подобная женщина, некогда всеми почитаемая и даже внушавшая страх силой своей мысли и благородством души, была низведена до такого положения, глубоко поразило Манлия, когда он услышал об этом, хотя и не видел ее уже несколько лет. Обрести возможность помочь ей было самым великим, самым гордым моментом в его жизни, который доставил ему больше радости, чем даже минуты, когда он встал держать речь перед всеми сенаторами Рима и был вознагражден за свои слова церемониальным высоким званием. И пока он не осуществил эту помощь, ничто другое не занимало его мыслей.
Известие доставил еврейский купец Вейзон, явившийся к нему на виллу сообщить о ее беде. Скромный, с мягкой речью, человек этот был почти достоин, чтобы с ним обошлись как с гостем, оказали ему гостеприимство, если бы только он его принял.
– Ты знаешь госпожу? – спросил Манлий, когда угощение было подано. Еврей вежливо и неподчеркнуто отказался от всего и пил только воду. Невысокий чистоплотный человек с четкими движениями и лицом, почти никогда не менявшим выражения. Более невозмутимый, чем осторожный. Манлий нашел бы его интригующим, будь он ближе ему по положению.
– О ней я знаю уже несколько лет, – ответил тот. – Хотя, конечно, не могу сказать, что знаю ее.
– Ты говоришь, она нуждается.
– Ей еле хватает на еду, и она одевается в лохмотья, хотя не придает этому значения. Но здоровье ее плохо, беды подкосили ее дух. Она там одна, и у нее нет родных, чтобы искать у них помощи. Некоторые люди старались помочь, но, – он безнадежно развел руками, – с каждым днем людей, способных помочь, становится все меньше. Она гордая и надменная женщина, господин мой, и внушает страх простым людям. Я думаю, она не попросила бы о помощи, пока не оказалась бы в поистине отчаянном положении, и все же она просила меня передать тебе эту весть.
Манлий не стал обдумывать, что делать. В этом не было нужды. Обязательства, связывавшие его с ней, не утратили силы с течением времени, а его положение особенно подходило, чтобы помочь. Не то чтобы это было просто. Дни, когда письмо властям сразу привело бы все в порядок, ушли безвозвратно. Властей почти не осталось. А чиновники, сохранившие свое положение, были не способны что-то сделать.
Но он все еще располагал огромными возможностями.
– Ее надо устроить в безопасном месте, чтобы ей больше не о чем было беспокоиться, – сказал он. – Я у тебя в долгу, почтенный, за то, что ты был так добр и доставил мне это известие. Когда ты вернешься туда?
– Примерно через две недели, если с моим делом не будет помех.
– В таком случае, уповаю, ты окажешь мне большую любезность и, быть может, исполнишь несколько моих поручений ради нее.
Еврей охотно согласился и ушел. Вернулся он, как и сказал, ровно через тринадцать дней, и Манлий вручил ему письмо и кожаную сумку.
– Письмо для госпожи, а сумка на ее налоги. Мне бы хотелось, чтобы ты позаботился обо всем об этом для меня, и, конечно, ты будешь вознагражден за свою доброту.
– Благодарю тебя, господин мой.
– Письмо все ей объяснит, но на случай, если она откажется принять то, в чем так очевидно нуждается, я объясню суть и тебе. Будь добр, выполни указания, каким бы ни было ее мнение о них. Найди откупщика налогов и уплати все ее долги, какими они ни были бы. Продай ее собственность как можно выгоднее, тогда я приеду со всей быстротой и увезу ее на мою виллу. Я буду там через три недели.
Еврей кивнул и направился к двери.
– И последнее, – сказал Манлий. Еврей обернулся.
– Да?
– Как тебя зовут?
Тот улыбнулся.
– Странно, как редко меня спрашивают об этом, – сказал он. – Меня зовут Иосиф, господин мой.
– Благодарю тебя за твою доброту, Иосиф.
– Странно, – сказал он позднее Луконтию, рассказав про эту встречу, – что от него зависит весь мир.
– А я и не знал.
– О да! Мои глубокие розыски в христианстве совершенно ясно мне это показывают. Все полностью согласуется. Воскрешение тел, которое, как я понимаю, составляет ступень во втором пришествии, не может произойти, пока все евреи не придут к Христу. Так, мне кажется, говорит святой Павел. Судя по моему другу Иосифу, наступление этого желанного дня откладывается весьма надолго. Он явно не имеет такого намерения.
– А ты не указал ему, что он немного эгоистичен, заставляя всех ждать?
– О нет. Он прекрасный малый – честный, добрый и трудолюбивый, хотя чувство юмора различить в нем трудновато. Возможно, он не находит тут ничего смешного. И, сказать правду, христиане так истово верят в эту нелепость, что бывали случаи, когда их стремление убеждать не ограничивалось только доводами. Мой милый друг, это наводит на меня тоску.
– Что наводит?
– Лицезреть торжество чего-то столь грубого и тупого. Подумай о Софии, о мудрости и изяществе того, чему мы у нее научились. Подумай о красоте ее философии и совершенстве созерцательного идеала. О сложной глубине ее понятий и проявлений Бога. А потом подумай о смрадной черни и ее верованиях. Несчастных евреев поносят только потому, что невежественный сброд видит в этом способ попасть на небо.
– Ты едва ли сумеешь растолковать ее постулат о душе своим христианам, – ответил Луконтий. – И тем более приобщить к формальной природе ее логики.
– Знаю, они требуют результатов. Они ждут кого-то, кто придет и скажет: «Повторяйте за мной и живите вечно. Чем меньше вы знаете, тем лучше».
Он улыбнулся.
– Не то чтобы я собирался пригласить Иосифа на обед. В конце-то концов, он купец, да и в любом случае приглашения не примет. Но я немного побеседовал с ним, и он кажется достаточно приемлемым, хотя странным, как большинство его сородичей. Во всяком случае, он не утверждает, что его спасение зависит от поведения кого-то другого. Он просто верит с безупречной вежливостью, что все другие глубоко ошибаются относительно всего.
Он встал и взял чашу у слуги.
– И пусть он как можно дольше остается таким, говорю я, потому что оно стоит того, чтобы увидеть праведное возмущение на лицах христиан при одной только мысли о подобных людях.
И иронично улыбаясь, они выпили за здоровье Иосифа, еврея.
Манлий тщательно все обдумал до приезда Софии и приготовил для нее один из своих домов в Везоне, поблизости от форума и в той части города, которая оставалась плотно населенной и полной деловой суеты. Дом был компромиссом: таким простым, как хотела она, и таким внушительным, как требовалось ему – ведь она будет находиться под его протекцией и не должна ставить его в неловкое положение своей экономностью. Однако она настояла, чтобы рабов убрали.









































