Текст книги "Сон Сципиона"
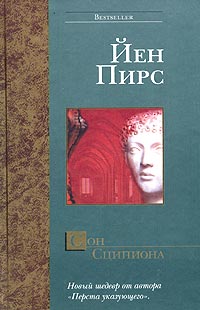
Автор книги: Йен Пирс
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Жюльен пожал плечами и посмотрел в сторону.
– Политика наводит на вас скуку? – сказал Бронсен. Жюльен улыбнулся.
– Да. Приношу свои извинения, и не то чтобы я не пытался ею увлечься. Но тщательные и подробные изыскания подсказывают гипотезу, что все политики – лгуны, дураки и интриганы, и пока еще я не обнаружил никаких свидетельств обратного. Они способны принести огромный вред и редко совершают что-либо хорошее. Задача всякого разумного человека попытаться защитить цивилизацию от ущерба, наносимого ей политикой.
– И как вы этого достигаете?
– Я? Конкретно?
– Да.
– Моя лепта – сидеть в архивах и читать старинные манускрипты. Собирать картины – одну из которых мне хотелось бы показать вам и узнать ваше мнение – и постараться доказывать важность всего этого другим людям. Убеждать их, что политика – это отходы фермента цивилизации, неизбежные, но опасные, если не предохраняться от них надлежащим образом. Иными словами, быть учителем, кем, по всей вероятности, я стану, когда вернусь во Францию.
– Это, без сомнения, их напугает, – сказал Бронсен с улыбкой.
– Я серьезно, – сказал он, стараясь скрыть убежденность под саркастической улыбкой. – Цивилизация нуждается в том, чтобы ее вскармливали, ублажали и уберегали от тех, кто может навредить ей. В том числе и от политиков. Она требует непрерывных забот. Стоит людям стать равнодушными, как она зачахнет и погибнет.
– И что? Мир горит, а вы сидите в библиотеке?
– Да, мир действительно горел, – ответил Жюльен, – и я присутствовал при его кремации. И было бы лучше, если бы я не покидал библиотеки. Во всяком случае, человек, который теперь мертв, остался бы жив, потому что меня не оказалось бы там, чтобы всадить в него штык.
Бронсен хмыкнул.
– Я восхищен вашей логикой, хотя и не опытом, которому вы ею обязаны. Мои горизонты ограничены наживанием денег, потому что это то, что я хорошо знаю и умею. И таким образом я превращаюсь в подобие карикатуры, что меня огорчает, но не настолько, чтобы удерживать. Слишком уж хорошо я понимаю, что еврей без денег даже еще более уязвим, чем еврей с деньгами. Не то чтобы это так уж интересно. Я предпочту послушать, какую форму ваша защита цивилизации принимает в эти дни. Так расскажите, какие новости из архивов?
Много лет спустя Юлия сказала ему, что этот разговор привел ее отца в полное недоумение.
– Он был так доволен собой. Он же только что подписал самый большой контракт в своей жизни на постройку двух заводов под Римом и под Миланом и изнемогал от желания рассказать про это кому-нибудь. А ты даже не спросил, как идут его дела.
– Мне казалось, что я спросил, – ответил Жюльен. – Но он как раз упомянул маленькую подробность, что ты выходишь замуж. Не думаю, чтобы после этого мне так уж хотелось ублажить его тщеславие. Но я все-таки дал ему возможность рассказать мне. Во всяком случае, я не поскупился на намеки.
Она засмеялась.
– Бог мой! Неужели ты так и не заметил, что он не понимает смысла слова «намек»? Что такие тонкости в нем заложены не были?
– Я думал, что спросить прямо будет грубостью.
– А он счел грубостью то, что ты не спросил. В этом урок для нас всех.
– И ты унаследовала эту черту?
Она подумала.
– Возможно, я чуточку более цивилизованна, чем он. Но только до определенной степени. Быть может, ты теперь это уже понял.
Главная причина, помешавшая Клоду Бронсену и Жюльену Барнёву стать близкими друзьями, заключалась в Юлии и в разнице в возрасте, форме разделения, которую двадцатый век, все более и более уравнительный, так и не нашел средств преодолеть. Во всех других отношениях глубокая и прочная дружба казалась вероятной. Но расхождения, сопутствующие разрыву в возрасте, создающие несоответствия в опыте и воззрениях, были слишком велики. В течение нескольких дней вслед за описанным обедом они виделись часто, разговаривали подолгу. Они совместно получили много незначительных впечатлений и много удовольствий. Однако расстояние между ними сохранялось, и в конце концов Бронсен уехал домой, а Жюльен вернулся в свои архивы. Столь много обещавшая в других отношениях дружба незаметно не состоялась, потому что ни тот, ни другой не разглядел ее потенциала и потому что Бронсен оставался постоянным напоминанием о своей теперь недостижимой дочери.
Для Чеккани и Оливье де Нуайена такой возможности вообще не возникало, хотя каждый испытывал к другому искреннюю, пусть и неясную симпатию. Расстояние между ними было слишком уж велико. Такой человек, как кардинал, вообще не мог иметь друзей – не существовало никого, с кем он мог бы что-то делить. Он был связан по рукам и ногам предопределенностью своих отношений – доминирование власти ясно определяло любые его контакты с людьми. Папы и короли требовали почтительности и подобострастия, от которых дружба сморщивается, как устрицы под уксусом, которые он любил настолько сильно, что перестал их есть. Другие кардиналы были его соперниками и требовали непрерывной слежки. Все остальные были его клиентами или его слугами, а прочее человечество вообще не существовало.
Точно так же разрыв между Манлием и Сиагрием был слишком велик из-за того, что Манлий относился к своему секретарю как к сыну, а между отцами и сыновьями не может быть подлинной дружбы. И в «Сне» он подчеркнуто исключил подобные отношения из рассмотрения, когда коснулся темы любви. Тут место великого движителя гордо занимал долг. Дети воплощали пожелания своих отцов, обеспечивали продолжение их именам и славе. В подобном представлении не было места ни для чего более мягкого. Именно поэтому его обращение с молодым человеком было таким жестким, не допускавшим никакой близости – ведь Сиагрий был и залогом его будущего, и упреком ему.
Своих детей у Манлия не было, что, возможно, определило многие его поступки и решения. Ведь сумерки культуры, столь ему дорогой, были параллелью исчезновения, угрожавшего ему самому. Христианство, которому он следовал внешне и которое многие его современники приняли по убеждению, не имело силы развеять такие страхи. Когда его имени настанет конец, некому будет приносить жертвы на его могиле, устраивать ежегодные пиры в его память, даровать ему вечность, которой он жаждал, а его новая религия, по его убеждению, не могла ему этого дать.
В ту ночь, когда у его жены случился четвертый выкидыш, от выработанной им самодисциплины и аристократа, и философа не осталось ничего. Он пошел на кладбище и пролил масло на могилу своего отца. Только так мог он попросить прощения за свою неудачу и надвигающийся конец всего их рода. Когда он заснул, то увидел развалившиеся гробницы и низкорожденных, забирающих камни, чтобы строить свои амбары, а вокруг все заросло бурьяном.
Тем не менее он смирился со своей судьбой и не развелся с женой, хотя мог бы легко это сделать, и никто бы его не осудил. Даже и она не была бы сражена, так как происходила из семьи, понимавшей всю важность продолжения рода. Она удалилась бы в женский дом молиться и была бы счастлива. Но он оставил ее у себя, строил планы, чтобы усыновить Сиагрия, и вскоре после этого вернулся к политической деятельности. Он знал, что Сиагрий не даст исчезнуть только его имени, но не сохранит ничего истинно ценного, так как мальчик был добрым, но абсолютно глупым, скучным в беседе и скудным в мыслях, усыновленным потому, что не нашлось никого лучше. Он никогда не читал и за все время, пока оставался на вилле Манлия, ни разу не произнес ни единого сколько-нибудь интересного слова. Ничего, кроме пошлостей, никогда не срывалось с его языка. Никакая избитость, никакая глупость его не останавливали, любое клише заставляло его согласно кивать светловолосой головой, а изящная фраза с глубинным смыслом вызывала только недоумение. Он, бесспорно, очень старался, всегда был рад угодить, нравился его жене, обладал многими достоинствами. Однако Манлий не мог не сравнивать его с тем, каким следовало быть его наследнику, и разительное несходство делало его резким и неоправданно грубым. Сиагрий терпеливо сносил это. Впрочем, у него не было выбора, но тем не менее он оставался в выигрышном положении. Ведь, терпя разочарования Манлия, он получил его имя, а со временем должен был получить все его имущество. Удача ему улыбнулась: подожди Манлий еще несколько лет, и его он не избрал бы, но его ввели в заблуждение льняные волосы мальчика, его искренняя улыбка, и он решил, что красивое лицо указывает на утонченную и благородную душу. В этом заключалась ошибка Манлия: пусть мальчик был и добрым, и честным, и старался все делать так, чтобы угодить Манлию, но он был частицей другого мира и не видел никакой ценности в утонченности и изысканности, составлявших основу основ существа Манлия.
Манлий вернулся к политической жизни не с полным восторгом, ведь он помнил и другие аспекты учения Софии, которые воздействовали на него с большей силой. Ее вечность была иной – поисками завершенности, даже не зная цели, пока она не будет достигнута. Она учила притчами и обсуждениями, как ее отец до нее, используя простейшие формы для подготовки к более сложным идеям. Любимым ее приемом было рассматривать мифы, обсуждать и расчленять их под увеличительным стеклом философии, чтобы отыскивать скрытые в них истины. Однажды Манлий заговорил о Елене, которая влюбилась в Париса, потому что троянский пастух заручился обещанием Афродиты. Конечно, не потребовалось и минуты, чтобы свести всю историю к вздору: божественное не вмешивается в жизнь людей, принимая участие в конкурсах красоты, или, добавила она с улыбкой, разделяя воды моря, или претворяя воду в вино.
– Но нельзя ли увидеть чего-нибудь еще? – заметила она. – Мы заключили, что высшее не вмешивается в существование низшего, но значит ли это, что легенда нелепа и лишена достоинств? Напомню вам, что литература полна подобных сказок. Почему Дидона и Эней полюбили друг друга, что Вергилий тоже приписывает вмешательству богов? Почему Ариадна предает все, что ей дорого, из любви к Тесею?
– Я читал, – сказал Манлий, – что это болезнь, недуг крови, не так ли написал Гиппократ?
Она кивнула.
– Но почему мы заражаемся этой болезнью? То, как влюбленного влечет к любимой, бессонница, потение, потеря рассудка, всеподавляющее желание воссоединиться с кем-то другим, берущее верх над разумным поведением? Болезнь, не спорю. Но нам следует пойти дальше. Почему влечение именно к ней или к нему? Почему не к кому-то другому? Почему только к ней или к нему в тот момент? Я слышала о многих странностях в человеческом поведении, но мне не приходилось слышать про изнемогание от любви к двоим.
И она продолжала, вплетя речь Аристофана в «Пире» о том, что некогда люди были сферами, но боги, карая, рассекли их пополам. И с тех пор они вынуждены искать свои вторые половины и не находят покоя, пока не воссоединятся. И миф об Эре в «Государстве», где люди должны рождаться вновь и вновь, пока их души не узнают, как вознестись на небеса, освободившись из темницы тела. Опять-таки это не следует понимать буквально – ничто, сказала она, не бывает буквальным, – а как аллегорию поисков, каким должна предаться душа, чтобы объять трансцендентное. В этом растворении заключалось бессмертие, которое предлагала София.
Манлий избегал выполнения своего общественного долга столь долго из страха перед тем, как будет его выполнять. Его отец знал о своих врагах, но ничего не предпринимал, пока уже не стало поздно; он был убит теми, кого старался спасти. Манлий знал, что не допустит такой ошибки, и, значит, он окажется перед необходимостью решения и задачей: можно ли поступать неправосудно во имя правосудия? Может ли добродетель проявляться через безжалостность? Он не знал, как будет отвечать на эти вопросы. Он знал только, что его отец ответил на них неверно и тяжко поплатился. Та добродетель, которой он обладал, бессмысленно канула в неудачи. Манлий сделал выводы из его ошибок и ужаснулся тому, что было сокрыто в нем самом.
Что разговор о святой Софии между Оливье де Нуайеном и сиенским художником действительно имел место, это не более чем предположение. Жюльен установил такую возможность на основе больших соответствий между рассказом Оливье в архиве Чеккани и иконографической серией на стенах часовни. Что-то подобное должно было иметь место, и вывод, что Оливье повторил художнику, расписывавшему часовню, легенду, которую изложил в своем письме Чеккани, вполне логичен. К тому времени, когда Юлия Бронсен узнала эти панно настолько близко, что могла бы сама их написать, вывод этот казался ей и Жюльену наиболее вероятным.
Во время круиза она сказала Жюльену, что потенциально она хороший художник, и ее уверенность в себе не была самообманом. К исходу 1930-х годов она обрела такую репутацию, хотя еще не стала особенно известной. Да, действительно, она училась в Париже, в академии Колорасси – круиз по Средиземному морю с отцом знаменовал завершение этой поры ее ученичества и начало периода настоящего постижения того, как стать художником, – тогда в ее жизни мелькнул ранний ученик Матисса, человек, которым она восхищалась, который даже снискал одобрение ее отца. Потом она пошла своей дорогой, а не путем, необходимым для достижения славы, брезгуя связями и контактами, которыми должен обзаводиться художник, чтобы оставить свой след. Кто-то как-то сказал, что богатство погубило ее как художника, и в глубине души она согласилась. Не то чтобы оно ограничивало ее восприятие или воздействовало на то, что она писала, но оно позволяло ей игнорировать владельцев галерей и критиков, которые делают художников великими. Она не обращала на них внимания, они платили ей тем же. Если бы она приложила чуть больше усилий в этом направлении, посмертная репутация, начавшая складываться в шестидесятых годах на основе ее сохранившихся работ, могла бы выкристаллизоваться много раньше.
Работала она как одержимая и обычно в полном одиночестве. Жизнь, которую она выбрала с некоторым ущербом для себя. Никакой муж не мог бы долго выдержать такой режим – для него просто не хватало места. Брак, так ранивший Жюльена, когда он про него услышал, был глупой ошибкой – отчасти желанием спастись от вседавящего присутствия отца и отчасти желанием раз в жизни поступить так, как от нее ожидалось, быть как все. Жак Ментон, как и сказал ее отец Жюльену, был дипломатом с большим будущим. Хорошая семья, не чересчур аристократичная и не чересчур буржуазная. Человек не без ума, доброты и даже юмора. Протестант с корнями в Эльзасе и с заметной примесью немца. Не целиком француз, как и она сама, однако ощущение, что он не до конца свой, делало его только еще большим рабом условностей, держало в постоянном напряжении и быть, и казаться безупречным.
Но он любил ее с дипломатической осмотрительностью, и одно время ей казалось, что она отвечает на его чувства. Она испытывала желание быть своей, а он мог показать ей, как этого достичь; как ни странно, ее отец не возражал против их брака, хотя находил общество Жака утомительным и ни на секунду не верил, что это брак по большой любви. Жюльен заметил это и позднее упомянул в письме к ней. «Разумеется, он не годился в мужья, – надменно объявил он из-за своего письменного стола в Авиньоне. – Твой отец ничего против него не имел. В будущем возьми за правило влюбляться только в тех, кого Клод Бронсен не терпит. И чем больше он его не терпит, тем больше тот подойдет. Если ты не готова открыто пойти наперекор ревности твоего достопочтенного родителя, тебе придется ждать его смерти. У него крепкое здоровье, у твоего отца. И жить ему еще долго. Думаю, тебе лучше придерживаться своей живописи». Инстинкт не обманул его. Муж относился к ее занятию живописью снисходительно, и его вполне устраивало иметь одаренную жену, она-то думала, что он понимает, почему она должна писать, и принимала его снисходительность за нечто более глубокое, а его молчание на эту тему – за инстинктивное понимание.
– Я не перестану писать. Это моя работа, то, что я делаю.
Поразительный отклик на его случайную фразу в разговоре через полгода после их свадьбы – через шесть месяцев, на протяжении которых ему все больше досаждало, что она ни на йоту не изменила свой образ жизни. Он указал – и совершенно справедливо, – что у нее не хватит времени писать по десять часов в день и играть роль хозяйки на званых вечерах, которые ему необходимо давать, чтобы сделать карьеру дипломата, не говоря уж о детях, которых он хотел отчаянно.
Его резкий смешок убил их брак, сметя все иллюзии. Короткое пронзительное ржание, вырвавшееся у него изо рта полупридушенным по выработанной привычке, сардоничное по тону, длившееся всего полсекунды. Он принимал ее страсть за развлечение, а самозабвенную сосредоточенность за пустоголовость. И хуже всего – он понятия не имел, насколько она была хороша. Вот этого она стерпеть не могла.
Возможно, ее реакция была неоправданной, она вовсе не исключала такой вероятности. С дипломатической точки зрения – точки зрения ее мужа, собственно говоря, – этот безудержный гнев, которому она дала полную волю, был непредвиденным, чрезмерным, даже немного вульгарным. Но не было ни вымученной мелодрамы, ни стремления произвести эффект в том, как тряслись ее руки и дрожал ее голос, пока она пыталась объяснить – человеку, который был способен понять это не больше, чем глухой понять Баха, – почему она делала то, что делала, почему это было так важно.
– Ну почему вы все такие истерики?
Столетия, если не тысячелетия были втиснуты, высушены и дистиллированы в одно небрежное замечание, произнесенное, просто чтобы парировать ее гнев. Подтекст мог бы заполнить, да и заполнил множество книг. Сами слова, презрительный тон, смесь брезгливости с легким страхом. Этот клубок размотался бы на длиннейшие пряди. Но зачем? Истолкования Юлии не требовались, а по испугу в его глазах она поняла, что не требуются они и ему. Он знал, что именно он сказал.
Больше она с ним никогда не разговаривала, какой смысл? Но она и не развелась. Подвергаться такой длительной и тяжелой процедуре тоже не имело смысла, а для карьеры ее мужа даже невидимая жена была лучше, чем никакая. Он был и остался порядочным, честным и прямолинейным, по-своему любящим; и когда гнев угас, она могла отдать должное многим его прекрасным качествам. Но, кроме того, на миг она увидела тьму, которую могла извинить, но чуралась всякой с ней близости. Тем не менее никакого желания вредить ему у нее не возникло. Мстительной она не была и со временем даже начала чувствовать себя немного виноватой. Тот факт, что ее гнев угас так быстро, доказал ей, что она никогда его не любила и вся эта тягостная ситуация возникла по ее вине.
К тому времени, как она рассказала Жюльену, она уже могла смеяться над этим. Он стал ее исповедником, едва она возобновила переписку с ним почти сразу после свадьбы под предлогом объяснения, почему он не был приглашен. Она посылала ему письмо за письмом, объясняя и оправдывая свое поведение, а он отвечал, иногда утешая ее описанием какого-нибудь смешного случая, иногда ободряя, иногда выговаривая. Это, осознала Юлия, было худшей формой измены, адюльтером духа и чувств. Радость, которую доставляли ей его письма, послужила одной из главных причин, в конце концов толкнувших ее на решение уйти.
«Ты слишком много времени тратишь на подыскивание причин, – мягко написал он ей как-то, – я и сам страдаю тем же, а потому знаю, о чем говорю. Послушай эксперта. Ты хочешь бежать. Ты совершила ошибку. Этим все и исчерпывается. В конце-то концов, никто рядом с тобой не сумеет быть счастливым, если ты несчастлива».
– Ты знаешь, почему я художник? – сказала она при их встрече несколько месяцев спустя, когда она наконец упаковала чемоданы и обзавелась квартирой. – Ты знаешь, почему я обмазываюсь яркими красками, будто какой-нибудь древний пикт? Это мой знак. Чтобы люди сразу видели, что я ничему не принадлежу, и не тратили бы на меня времени понапрасну. Моя мать была правоверной еврейкой, насколько это возможно, мой отец отбросил все это и смотрит на религию как на суеверие, а на традиции – как на воплощение трусости. А потому я – ничто. Спасибо ему, даже изгои изгоняют меня. Так что я все должна делать сама.
– Делать что?
Она засмеялась.
– Не знаю. Если бы знала, то, наверное, знала бы, чего я ищу. И я не обременила бы бедного Жака, выйдя за него.
Он мягко ей улыбнулся и смотрел, как она снова заказала еще выпить – виски, второй раз после того, как они вошли в этот убогий бар, куда она часто заходила, проработав день у себя в мастерской на бульваре Монпарнас.
– Почему ты никогда не задаешь вопросов, не пытаешься понять меня? С тобой я всегда ощущаю себя немного неудачницей. Пытаюсь быть непостижимой и таинственной, а тебя это словно бы совсем не интригует.
Он пожал плечами.
– Ты не находишь меня обворожительно-загадочной? Странной? Чудесной? Чудачкой? Экзотичной? Тебя не интересует, откуда я пришла и куда иду, что мной движет?
Он был озадачен.
– Да нет, – сказал он затем. Она насмешливо фыркнула.
– Не знаю, лестный ли это комплимент, или оскорбление, какого мне еще никто не наносил.
– Во всяком случае, я не назвал тебя истеричкой.
– И то правда. Но ведь я никогда не швыряла в тебя вазами.
– Ты швырнула в него вазу?
Она кивнула, и ее глаза заблестели ребячьей шаловливостью.
– Но промахнулась, – сказала она. – Черт дери.
Они обменялись взглядом взаимного одобрения и рассмеялись. Это был восхитительный ужин. И Жюльен снова осознал, что никогда и не пытался очаровать ее, или поразить, или осыпать комплиментами. И конечно, кроме того, он сознавал, что нравится Клоду Бронсену.
Но сказала она неправду. Во всяком случае, не всю правду. Юлия решила стать художницей в возрасте десяти лет в 1913 году, когда она разбушевалась в двухстах ярдах от отцовской квартиры на бульваре Осман. Она была со своей бонной, англичанкой, каких в то время предпочитали богатые парижане, женщиной доброй, но с чуткостью кавалерийского офицера, закрывавшей глаза на то, в какой семье она служит, но на свой лад любившей Юлию. Ей не было суждено оставаться там долго; она пыталась ввести порядок и дисциплину, но ей приходилось вести бой с самим Бронсеном и его снисходительными потаканиями. Юлия в те годы подолгу в школу не ходила, так как ее отец без конца брал ее с собой, разъезжая по Европе, иногда на месяц, иногда на полгода. Они уезжали туда, куда его затребовали дела, и хотя он знал, что мог бы отдать ее в пансион, где она училась бы нормально, у него не хватало духа расстаться с ней. В конце-то концов, он выдержал тяжелые бои, чтобы держать ее подальше от своей жены, и, выиграв ее, не собирался снова терять.
У Юлии было много родственников, но росла она почти в полном одиночестве: то, как ее отец разорвал свой брак, вызвало всеобщее негодование. Его жена, кроткая и покорная, известная своей добротой, была несомненной жертвой, доведенная до болезни тщетными попытками понять яростного, воинственного человека, за которого вышла замуж. Его приступы бешеного гнева и взрывы ангельской доброты были равно непредсказуемыми. Все соглашались, что он невозможен. И в отместку за осуждение Бронсен давал все больше поводов для него. Он никогда не признавал себя виноватым – наоборот, он считал, что оберег свою дочь от женщины, чьи черные настроения и буйства были нестерпимы. Он никому не открывал своей стороны дела; он был либо слишком горд, либо все еще хранил лояльность к женщине, которую когда-то любил. Он не ссылался на бесчисленных врачей, на те месяцы, которые она уезжала якобы на курорты, а на самом деле в клиники по всей Европе в бесплодных поисках лечения, которого не находили самые прославленные психиатры. Он никогда не рассказывал об истошных воплях, о тех днях, когда она исчезала и он был вынужден прибегать к помощи полиции, о тех бесчисленных случаях, когда ему приходилось запирать Юлию в детской и стоять перед дверью, чтобы защитить девочку от материнского гнева, вспыхнувшего из-за самого незначительного проступка. Знала только Юлия; она погребла те темные дни в своей памяти и заговорила о них только один раз, когда Жюльен пришел к ней после смерти ее отца. Но она помнила и помнила, как лежала на полу, а на щеке у нее багровел синяк, и ее резкий, грубый, невоспитанный отец стоял рядом на коленях, гладил ее по волосам, а потом отнес в постель. Всю эту ночь он оставался с ней, чтобы составить ей компанию и защитить ее. На следующий день ее мать уехала навсегда.
Клод Бронсен принял вину на себя, но он отомстил тем, кто поспешил осудить его и вынести ему приговор. Он порвал со своей семьей, своей религией, со всей своей средой, стер всякую память о языке, на котором говорил мальчиком до того, как уехал из Германии навсегда, чтобы избавиться от липкой заботливости своих родителей. Даже в десять лет он уже знал, что должен будет покинуть тягостную практичную атмосферу их дома, где отец зарабатывал как коммивояжер, а мать вела хозяйство в традиционном еврейском духе – скаредно и безрадостно. Его не привлекало то, что они – такие респектабельные люди, такие робкие и осторожные, и одновременно такие придирчивые и требовательные – считали ценным в жизни. Но он делал все, чтобы умиротворить и успокоить их, старался, чтобы им не пришлось стыдиться его, когда он был еще беден и неудачлив, тщательно следил за своим языком, когда они начали восхищаться жизнью, которую он создал для себя собственными трудами и талантами в блистательном Париже на пороге нового века. Его жена Рахиль была наградой за этот тяжкий труд, немецко-еврейская красавица, блондинка, культурная, с высокомерным, почти аристократическим лицом.
Осуждение со стороны его родителей, то, как они сразу решили, что его чудесная жена не выдержала его обращения с ней или же рождения Юлии (роды проходили очень тяжело, так как она появилась на свет после отчаянного сопротивления), было предательством, которого он не смог забыть. Даже в 1930-х годах он отказывался помириться с теми, кто с его точки зрения так несправедливо подверг его остракизму. Теперь-то им понадобилась его помощь – экономический хаос и политическая злоба. Он не откликнулся, его не заботили преследования, которым они подвергались. Собственно говоря, Бронсен практически не считал себя евреем. Он был француз, натурализовавшись давным-давно, богатый делец, приобщенный к культуре. И иной личности ему не требовалось. Особенно его радовало, что Юлия пошла в него и ни в ее внешности, ни в ее характере ничего материнского почти не было, а когда она выросла в талантливую красавицу, его гордость и благодарность были так велики, что ему почти не удавалось сдерживать их. В награду за нее он предложил ей весь мир: он дарил ей книги, и музеи, и великие европейские города, и ощущение неиссякаемых поисков. Он лишил ее ритуалов, а взамен предложил свободу. Все, чего бы она ни захотела, она получала, и рассердился он на нее всего один раз – когда в четырнадцать лет она сказала, что хочет повидаться с матерью. Их единственная ссора, и победа осталась за Юлией. Но это был единственный раз. Встреча не удалась. Ею руководила мечта подростка: все устроить, исцелить раны и обрести обоих родителей. Это было невозможно. Болезнь ее матери даже еще усугубилась и превратилась в глубокую и бешеную ненависть к человеку, который, как ей твердили все вокруг, был таким жестоким, таким бессердечным и таким несправедливым. К тому времени Юлия переняла многие отцовские жесты и даже то, как она погладила щеку, когда обдумывала ответ, вызвало взрыв. Ее вышвырнули вон, велели убираться и никогда не возвращаться. Она послушалась всецело и, рыдая, бросилась в объятия отца, который в тревоге дожидался ее в конце улицы. Больше они не встречались, и только из отрывистых слов отца Юлия, когда ей было восемнадцать, узнала, что ее мать умерла. «Поезжай на похороны, если хочешь», – сказал он.
И она поехала – одна, и была встречена злобными взглядами своих родных – из них никто не захотел утешить ее или понять. Для нее это было первое и последнее соприкосновение с ее религией, которая ассоциировалась у нее с осуждением со всех сторон, давившим на нее в синагоге в тот холодный мартовский день.
Воспитывая ее, Клод Бронсен понимал, что Юлии следует научиться быть более вежливой и отполированной, чем он, и культурной в той степени, какой он достигнуть не мог; его вкусы выработали в нем своего рода презрительность, которую, надеялся он, она с ним разделит, но научится лучше контролировать. Он точно знал, какого ребенка хочет, в воображении видел, как она растет, и его труды принесли первый плод в тот день на бульваре Осман. Бонна, ошеломленная этой вспышкой, шлепнула девочку, чтобы ее поторопить. Юлия закричала еще громче и продолжала кричать, пока ее лицо не покраснело от смеси возмущения и отчаяния. Ее уволокли в квартиру, все еще вопящую, и велели сидеть в своей комнате, пока она не научится вести себя. Она никогда не узнала, как испугался ее отец, сколько ночей он провел без сна, терзаемый страхом, что болезнь, погубившая его жену, теперь проявилась в его любимой дочери. Этот ужас преобразился в безграничную, всеподавляющую тревогу за нее, которая слишком часто выливалась в чрезмерную обволакивавшую заботливость, почти не оставлявшую ей возможности дышать.
Однако ее выходка в тот день была просто упрямством, бунтом, а не симптомом будущего безумия. Юлия не пожелала вести себя прилично – можно даже сказать, что с той минуты она никогда себя прилично не вела. Одно мгновение преобразило благовоспитанную, уступчивую девочку в заляпанную краской отщепенку, какую она гораздо-гораздо позднее описала Жюльену (с некоторой гордостью). Вспышку спровоцировал рисунок, еле различимый сквозь витрину не слишком респектабельного торговца картинами. Она хотела остановиться и посмотреть, но бонна торопилась, ей не терпелось выпить чаю. Она пила чай во второй половине дня, а от Юлии требовалось переодеться, чинно сидеть и тридцать пять минут вести положенный разговор о том, как прошел ее день.
И она всегда это делала, а после этого дня не делала уже никогда. Через два-три месяца бонна ушла, предпочтя более цивилизованную семью. Она отказалась исполнить просьбу Юлии зайти в эту маленькую галерею, чтобы посмотреть на картину, которая даже не была выставлена в витрине, а лишь еле-еле виднелась на левой стене внутри. Юлия указала на нее. Бонна засмеялась: «Нет, только посмотрите! Обезьяна и то нарисовала бы лучше!»
Этот случай распахнул в Юлии шлюзы развивающейся личности. Перед ней было что-то, благодаря чему она могла упорядочить все те спутывающиеся мысли и чувства, которые вихрились в ее душе. Вот причина, чтобы не вести чинных разговоров, не переодеваться и не сидеть, сдвинув колени. Вот причина не подчиняться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































