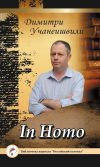Читать книгу "Homo ludens. Человек играющий"
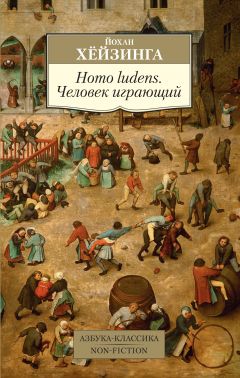
Автор книги: Йохан Хёйзинга
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Идеи Кереньи о празднике как понятии культуры дают возможность укрепить и расширить основы построения этой книги. И все же утверждением о том, что настроение священного празднества и настроение игры тесно соприкасаются, еще не все сказано. С подлинной игрой, наряду с ее формальными признаками и радостным настроением, неразрывно связана еще одна существенная черта: сознание, пусть даже оно и отступает на задний план, что все это «ну просто так делается». Остается вопрос, не может ли что-то вроде подобного чувства сопутствовать и совершаемому в самозабвении священнодействию.
Обратившись к сакралиям архаических культур, мы смогли бы указать на несколько пунктов относительно серьезности, с которой все это делается. Этнологи, как я полагаю, согласны с тем, что состояние духа, в котором пребывают участники и зрители больших религиозных праздников у дикарей, не есть состояние приподнятости и иллюзии. Задняя мысль, что все это «не взаправду», здесь отнюдь не отсутствует. Живой пример такого состояния духа приводит А. Э. Йенсен в своей книге Beschneidung und Reifezeremonien bei Naturvölkern[41]41
Stuttgart, 1933.
[Закрыть] [Церемонии обрезания и инициации у первобытных народов]. Мужчины, судя по всему, не испытывают никакого страха перед духами, которые бродят повсюду во время праздника, а затем являются всем в ключевые моменты. И тут нечему удивляться: ведь это те же мужчины, что осуществляют режиссуру всей церемонии; они сами изготовили маски, они сами их носят, и они же спрячут их от женщин, когда все это кончится. Они поднимают шум, возвещающий появление духа, и прочерчивают его след на песке, они дудят в дудки, представляющие собой голоса предков, и размахивают трещотками. Короче говоря, завершает Йенсен, их поведение ничем не отличается от поведения родителей, разыгрывающих Синтерклааса[42]42
Loc. cit., S. 151. У Йенсена здесь, естественно, Weihnachtsmann [Рождественский дед].
[Закрыть]. Мужчины потчуют женщин всевозможными враками о том, что происходит в отгороженном от других священном лесу[43]43
Loc. cit., S. 156.
[Закрыть]. Поведение самих посвящаемых колеблется между экстатическим возбуждением, напускным безрассудством, дрожью от страха и ребяческой заносчивостью и притворством[44]44
Loc. cit., S. 158.
[Закрыть]. В конечном счете женщины менее прочих поддаются обману. Они в точности знают, кто прячется за той или другой маской. Однако впадают в страшное волнение, если маска приближается к ним с угрожающим видом, и с воплями разбегаются в стороны. Это выражение страха, говорит Йенсен, отчасти совершенно стихийно и неподдельно, отчасти всего лишь традиционная обязанность. Так полагается делать. Женщины как бы выступают фигурантками в пьесе, и они знают, что им нельзя быть «шпильбрехерами»[45]45
Loc. cit., S. 150.
[Закрыть].
Нижнюю границу, где священная серьезность ослаблена вплоть до fun [забавного], нельзя во всем этом провести окончательно. Какой-нибудь наш по-детски простодушный папаша может всерьез разозлиться, если собственные дети ненароком застанут его за переодеванием в Деда Мороза. Индеец племени квакиутль[46]46
Квакиутль (квакиютл) – индейский народ, живущий на крайнем юго-западе Канады (о. Ванкувер и близлежащее побережье материка); численность – около 1 тыс. человек. Была весьма развита резьба по дереву, в частности изготовление тотемных столбов и ритуальных масок. Это искусство практически исчезло в начале XX в., но с 70-х гг. снова возрождается в резервациях в качестве сувенирной промышленности.
[Закрыть] в Британской Колумбии убил свою дочь, будучи застигнут ею за вырезанием маски в ходе приготовления к культовой церемонии[47]47
Boas. The social Organisation and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians. Washington, 1897, p. 435.
[Закрыть]. Шаткость религиозного чувства негров лоанго[48]48
Лоанго – прибрежная область в Экваториальной Африке между устьями рек Огове и Конго (иное название реки – Заир). Во время написания Homo ludens входила в состав французских, бельгийских и португальских владений, ныне – в Габоне, Конго и Анголе. Название область получила по туземному королевству Лоанго, существовавшему там с XIV в. до европейских завоеваний в XIX в. Этнографы XIX – начала XX вв. именовали термином лоанго население одноименной области, в большинстве своем принадлежавшее к вили – племенной группе народа (фактически – совокупности племен) конго.
[Закрыть] в сходных с Йенсеном выражениях описывает Пехуэль-Лёше. Вера этих людей в священные представления и обычаи – это некая полувера, сочетающаяся с насмешничаньем и проявлением равнодушия. Главное – настроение, заключает он[49]49
Volkskunde von Loango. Stuttgart, 1887, S. 345.
[Закрыть]. В главе Primitive Credulity [Первобытные верования] книги Р. Р. Мэретта The Threshold of Religion [Ha пороге религии] рассказывается, каким образом в примитивных верованиях в игру неизменно вступает определенный элемент «makebelieve» [ «деланой веры», «притворства»]. И колдун, и околдовываемый – оба в одно и то же время и знают, и обманываются. Но они хотят быть обманутыми[50]50
Loc. cit., SS. 41–44.
[Закрыть]. «Точно так же, как дикарь – хороший актер, полностью, как ребенок, исчезающий в изображаемом персонаже, он и хороший зритель, и также и в этом подобен ребенку, способному до смерти пугаться от рева – как он знает – “ненастоящего” льва»[51]51
Loc. cit., S. 45.
[Закрыть]. Туземец, говорит Малиновский, ощущает свою веру и боится ее больше, чем он это сам для себя с четкостью формулирует[52]52
Argonauts of the Western Pacific. London, 1922.
[Закрыть]. Поведение тех, кому первобытное общество приписывает сверхъестественные свойства, часто может быть лучше всего определено как «playing up to the rôle»[53]53
Ibid., p. 240.
[Закрыть] [ «игра в соответствии с ролью»).
Несмотря на осознание доли ненастоящего в магических и сверхъестественных действиях, те же исследователи подчеркивают, что это не дает оснований для вывода, будто вся система веры и ритуальных обрядов – не более чем обман, выдуманный частью неверующих, с тем чтобы других, верующих, держать в подчинении. Впрочем, подобное представление разделяется не только многими путешественниками, но то тут, то там передается в изустной традиции и самими туземцами. Но оно не может быть справедливым. «Истоки сакрального действа могут лежать только в набожности всех и каждого, и обманное поддержание ее с целью укрепления власти какой-нибудь одной группы может быть всего лишь конечным продуктом исторического развития»[54]54
Jensen, l. c., S. 152. К этому способу истолкования церемоний инициации и обрезания как намеренного обмана вновь прибегает, как мне кажется, отвергаемая Йенсеном психоаналитическая теория.
[Закрыть].
Из всего предыдущего, по моему мнению, со всей ясностью следует, что, говоря о священнодействиях первобытных народов, собственно понятие игры нельзя упускать из виду ни на минуту. Не только потому, что при описании этих явлений нужно постоянно обращаться к слову играть; само понятие игры как нельзя лучше охватывает это единство и неразрывность веры и неверия, это соединение священной серьезности с дурачествами и притворством. Йенсен, правда, хотя и допускает сходство мира дикаря и мира ребенка, настаивает на принципиальном различии между поведением ребенка и поведением дикаря. Ребенок имеет дело в лице Деда Мороза с «fertig vorgeführte Erscheinung» [ «показанным в готовом виде явлением»], в котором он непосредственно «sich zurechtfindet» [ «разбирается»], опираясь на свои собственные способности. «Ganz anders liegen die Dinge bei dem produktiven Verhalten jener Menschen, die für die Entstehung der hier zu behandelnden Zeremonien in Frage kommen: nicht zu fertigen Erscheinungen, sondern zu der sie umgebenden Natur haben sie sich verhalten und sich mit ihr auseinandergesetzt; sie haben ihre unheimliche Dämonie erfaßt und darzustellen versucht»[55]55
Loc. cit., SS. 149–150.
Глава вторая
[Закрыть] [ «Совершенно по-иному обстоит дело с направленным поведением тех, кого мы принимаем в расчет в связи с возникновением обсуждаемых здесь церемоний: они вели себя так или иначе по отношению не к готовым явлениям, но к окружающей их природе и ей же противостояли; они постигли ее зловещий демонизм и попытались запечатлеть его»]. В этих словах можно узнать взгляды Фробениуса, учителя Йенсена, – мы уже касались их выше. Здесь, однако, возникают два возражения. Прежде всего Йенсен «ganz anders» [ «совершенно по-иному»] делает различие лишь между духовным процессом в душе ребенка – и в душах первоначальных создателей ритуала. Но о них нам ничего не известно. Мы имеем дело с культовым обществом, которое так же, как наши дети, получает свои культовые представления «fertig vorgeführt» [ «показанными в готовом виде»], в виде традиционного материала, и, как наши дети, на него реагирует. Оставляя этот вопрос нерешенным, мы отмечаем, что процесс «Auseinandersetzung» [ «противостояния»] опыту познания природы, ведущий к «Erfassung» [ «постижению»] и «Darstellung» [ «запечатлению»] в образах культа, полностью ускользает от нашего наблюдения. Фробениус и Йенсен приближаются к этому лишь с помощью образного языка фантазии. О функции, воздействующей на этот процесс возникновения образной речи, вряд ли можно сказать более того, что это функция поэтическая, и мы обозначим ее лучше всего, если назовем ее игровой функцией.
Подобные рассуждения уводят нас в самую глубину проблемы сущности первоначальных религиозных представлений. Как известно, одно из важнейших понятий, которое должен усвоить всякий занимающийся наукой о религии, есть следующее. Когда некое религиозное построение, занимающее промежуточное место между вещами разного порядка, например человеком и животным, принимает форму священного тождества самой их сущности, то возникающие здесь отношения не находят четкого и действенного выражения через наше представление о некоей символической связи. Единство обоих существ много глубже по самой своей сути, нежели связь между субстанцией и ее символическим образом. Это – мистическое тождество. Одно стало другим. Дикарь, исполняющий свой магический танец в образе кенгуру, и есть кенгуру. Необходимо, однако, всегда быть начеку, помня о недостаточности и различиях наших выразительных средств. Чтобы представить себе духовное состояние дикаря, мы вынуждены передавать его посредством нашей собственной терминологии. Хотим мы этого или нет, мы превращаем его религиозные представления в строго логическую определенность наших понятий. Так, мы выражаем отношение между ним и связанным с ним животным как нечто, обозначаемое для него посредством глагола быть, в то время как для нас по-прежнему вполне достаточно глагола играть. Он принял сущность кенгуру. Он играет кенгуру, говорим мы. Но ведь сам дикарь не ведает о различии понятий быть и играть, не знает о тождестве, образе или символе. И, таким образом, остается вопрос, не приблизимся ли мы лучше всего к духовному состоянию дикаря во время сакрального действа, если будем придерживаться такого первичного термина, как игра? Наше понятие игры устраняет различие между верою и притворством. Это понятие игры без всякой натяжки соотносится с понятием освящения и священного. Любая прелюдия Баха, любая строка трагедии служит тому доказательством. Рассматривая всю сферу так называемой примитивной культуры как игровую, мы открываем для себя возможность более непосредственного и более общего понимания ее характера, нежели с помощью остро отточенных методов психологического или социологического анализа.
Это священная игра, столь необходимая для блага общества, чреватая космическим ви́дением и социальным развитием, но всегда – лишь игра, деятельность, которая, в представлении Платона, протекает вне и поверх сферы трезвой обыденной жизни с ее нуждой и серьезностью.
Сфера священной игры – та самая, где дитя и поэт чувствуют себя как дома, так же как и дикарь. Эстетическая чувствительность несколько приблизила к этому современного человека. Мы не можем не подумать о моде, где ныне маска обрела радость существования в виде предмета искусства. Нынешняя тяга к экзотике, не лишенная порой некоторой аффектации, в целом гораздо глубже, нежели бытовавшая в XVIII в., с его модой на китайцев, индейцев и турок[56]56
Увлечение экзотикой в конце XVII–XVIII вв. имело различные основания и принимало разные формы. В дальних странах – особенно в Индии и Китае – искали некоей древней мудрости, у первобытных народов – близости к природе, естественного, не испорченного цивилизацией состояния человека. Подобные увлечения влияли и на философию (Руссо, Вольтер), и на изобразительное искусство (росписи или обои в так называемом китайском стиле, например в Царском Селе, Кускове), и на моду (китайские рестораны в Париже, стиль chinoiserie, то есть китайщина). Нельзя не отметить, что китайцы или индейцы в массовых представлениях европейцев XVIII в. имели мало общего с реальными жителями Китая или аборигенами Америки.
[Закрыть]. Современный человек, несомненно, обладает развитыми способностями к пониманию далекого и чужого. Ничто не оказывается при этом более кстати, чем его восприимчивость ко всему, что является маской и переодеванием. В то время как этнология выявляет огромную социальную значимость всего этого, просвещенный дилетант попадает во власть непосредственного эстетического переживания, где к прекрасному примешиваются угрожающее и таинственное. Даже для образованного взрослого человека в маске всегда остается что-то таинственное. Вид человека в маске уводит нас, в том числе и на уровне чисто эстетического восприятия, с которым не связаны сколько-нибудь определенные религиозные представления, из непосредственно окружающей нас «обыденной жизни» в иной мир, нежели мир дня и света. В сферу дикарей, детей и поэтов, в сферу игры.
Позволив себе свести высказанные нами мысли относительно значения и характера примитивных культовых действий к не упрощаемому далее понятию игры, один в высшей степени каверзный вопрос мы все же оставили нерешенным. Как, собственно, мы поднимаемся от низших форм религии к высшим? От разнузданных, причудливых священнодействий первобытных народов Африки, Австралии и Америки наш взор перемещается к ведическому культу принесения жертвы, уже несущему в себе мудрость Упанишад, или к глубоко мистическим уподоблениям религии Египта, или к орфическим или элевсинским мистериям[57]57
Религиеведение XIX – начала XX в. подразделяло религии на высшие и низшие. Первые отличались наличием богословия, то есть философской рефлексией по поводу мифов и обрядов, верой в спасение, личной преданностью божествам. В Индии в VI в. до н. э. появились первые Упанишады, религиозно-философские произведения, которые рассматривались как толкование Вед. Санскритское упа-ни-шад – букв. сидеть около, то есть пребывать в обществе учителя с целью познания истины; отсюда позднейшее значение этого слова – сокровенное знание, тайное учение. Всего известно более двухсот Упанишад, они сочинялись до XIV–XV вв. Главная проблема Упанишад – достижение духовного освобождения, понимаемого как слияние индивидуальной души с Мировым Духом.
Религия Древнего Египта, строго говоря, не знала богословия; представления о египетской мистической мудрости принадлежат скорее грекам, нежели самим египтянам. Культ египетской богини Исиды, первоначально богини плодородия, широко распространился уже в эллинистическую эпоху (IV в. до н. э. и позднее) не без влияния греческой философской мысли; Исида становится матерью всего сущего, спасительницей тех, кто предан ей душой и помыслами.
В Древней Греции, в г. Элевсине в Аттике, с древнейших времен находился культовый центр богини плодородия Деметры; по меньшей мере с VI в. до н. э. культ ее принял тайные формы; обряды – мистерии (букв. тайные), которые проходили только для посвященных; разглашение тайн этих обрядов категорически воспрещалось. Представления о Деметре-Природе, умирающей осенью и возрождающейся весной, преобразовались в веру в воскресение после смерти, которое ждет участников мистерий. Предположительно в VI в. до н. э. в Греции возник орфизм (предания называют основателем этого учения полулегендарного поэта Орфея, жившего в глубокой древности до Гомера); в основу орфизма положена идея о душе как благом начале, частице божества, и теле – как темнице души. Участие в мистериях (орфизм сильно повлиял на осмысление Элевсинских таинств), насколько нам известно, посвященных Деметре и Дионису, должно высвобождать душу из телесного плена. Дионис – первоначально бог-покровитель виноградарства и виноделия, потом бог-спаситель, освобождающий человека в результате экстатических обрядов.
Следует отметить, что во всех перечисленных религиях речь идет о посмертной судьбе индивидуальной души человека, тогда как низшие религии направлены на благополучие не столько человека, сколько рода, племени, общины, притом в этом, земном мире.
[Закрыть]. Их форма и практика, вплоть до замысловатых и кровавых подробностей, теснейшим образом родственны так называемой примитивности. Но мы признаем или предполагаем в них наличие мудрости и истины, и это не позволяет нам взирать на них с превосходством, которое, в сущности, уже неуместно и по отношению к так называемым примитивным культурам. Вопрос теперь в том, следует ли, исходя из формального сходства, качества, свойственные игре, распространять на священное чувство, на веру, наполнявшую эти более высокие формы. Натолкнувшись однажды на Платонову концепцию игры, к чему нас и вело все вышесказанное, мы уже не имеем в этом ни малейших сомнений. Игры во славу богов – вот то наивысшее, во имя чего люди должны ревностно отдавать свою жизнь, – так смотрел на это Платон. Оценка священной мистерии как наивысшего достижимого выражения того, к чему нельзя подойти чисто логически, ни в коей мере при этом не устраняется. Освященное действие некоторыми своими сторонами во все времена остается включенным в категорию игры, но наличие такой подчиненности не мешает нам признавать его священный характер.
Глава вторая
Концепция и выражение понятия игры в языке
Мы говорим об игре как о чем-то известном, мы делаем попытки проанализировать выражаемое этим словом понятие или, по крайней мере, к нему приблизиться, но при этом все мы прекрасно знаем, что для обозначения этого понятия употребляется самое обиходное слово. Не исследующая наука, но творящий язык породил совместно и это слово, и это понятие. Именно язык, то есть многие и многие языки. Невозможно рассчитывать, что все они совершенно одинаковым образом назвали тождественное самому себе понятие игры одним-единственным словом, подобно тому как в каждом языке есть всего одно слово для обозначения руки или ноги. В данном случае все не так просто.
Мы вынуждены здесь исходить из того понятия игры, какое находится у нас в обиходе, то есть обозначается словами, соответствующими ему, с теми или иными различиями, в большинстве современных языков Европы. Нам казалось возможным описать это понятие следующим образом: игра есть добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но, безусловно, обязательным правилам, с целью, заключающейся в самóм этом занятии; сопровождаемое чувствами напряжения и радости, а также ощущением инобытия в сравнении с обыденной жизнью. Кажется, что, определенное таким образом, это понятие в состоянии охватить все, что мы называем игрой у животных, детей или взрослых: игры на смекалку и ловкость, с применением ума или силы, так же как театральные постановки и представления. Игра как категория, казалось, могла рассматриваться в качестве одного из наиболее фундаментальных жизненных элементов.
Но здесь тотчас же выясняется, что такую всеобщую категорию язык вовсе не везде и не изначально различал с одинаковой определенностью и именовал одним словом. Все народы играют, и при этом на удивление одинаково, но далеко не все языки охватывают понятие игры столь прочно и столь широко всего одним словом, как современные европейские. Здесь можно вновь коснуться номиналистских сомнений в обоснованности общих понятий[58]58
Номиналистские представления – взгляды, восходящие к спорам о проблеме универсалий: общих понятий в средневековой схоластической логике. Сторонники реального существования универсалий – реалисты – рассматривали их как реально существующие нематериальные формы. Противники их – номиналисты – считали эти универсалии названиями, обозначениями, именами (nomina), существующими лишь в вещах или (как здесь) только в сознании познающего субъекта.
[Закрыть] и сказать: для любой группы людей понятие игры содержит в себе не более того, что выражает слово, которым они для этого пользуются. Слово – но ведь это могут быть и слова. Как бы то ни было, оказалось возможно, чтобы один язык лучше других объединил в одном слове различные формы проявления этого понятия. И вот сразу же иллюстрация подобного случая. Такая абстракция, как понятие игры вообще, в одну культуру вошла раньше и полнее, чем в другую, вследствие чего высокоразвитые языки обозначают различные формы игры с помощью совершенно различных слов, и это множество встало на пути обобщения всех форм игры одним-единственным термином. Этот случай отдаленно напоминает известный факт, что в так называемых примитивных языках иной раз есть слова для разновидностей – но не для вида вообще: скажем, для угря или щуки – но не для рыбы.
Есть ряд указаний на то, что насколько первостепенной могла быть сама функция игры, настолько второстепенным было в некоторых культурах место этого явления как абстракции. Особенно веским кажется мне в связи с этим то обстоятельство, что ни в одной из известных мне мифологий игра не нашла воплощения в фигуре божества или демона[59]59
Лузус, сын или спутник Вакха и основатель рода лузитанов, является, конечно же, позднейшим измышлением1*.
[Закрыть], тогда как, с другой стороны, божество часто предстает как играющее. На позднее происхождение общего понятия игры указывает также тот факт, что в индоевропейских языках мы не находим общего для них слова с таким значением. Даже германская группа языков расходится в наименовании игры, используя для этого три разных слова.
По-видимому, не случайно именно те народы, у которых игра во всех ее видах была, так сказать, глубоко в крови, имели множество разных слов для выражения этой деятельности. Полагаю, что могу это утверждать более или менее определенно в отношении греческого, санскрита, китайского и английского языков.
В греческом языке для обозначения игры есть примечательное выражение в виде окончания – ινδα. Означает оно не что иное, как просто играть. Это несклоняемый и грамматически неупрощаемый суффикс[60]60
Самое большее, здесь можно предположить некоторую связь с – ιντος, а на основе этого отнести окончание – ινδα к праиндогерманской, эгейской языковой группе. Как отглагольный суффикс это окончание встречается в – ἀλίνδω, κυλίνδω, со значением валяться, возиться, близким к ἀλίω и κυλίω. Значение, связанное с игрой, присутствует здесь, видимо, в ослабленном виде.
[Закрыть]. У греческих детей были такие игры, как σφαιρίνδα (сфери́нда) – игра в мяч, ἑλκυστίνδα (гелкюсти́нда) – перетягивание веревки, στρεπτίνδα (стрепти́нда) – игра с пращой, βασιλίνδα (басили́нда) – царь горы. В полной самостоятельности этого суффикса уже как бы символически выражена окончательная неупрощаемость понятия игры. В противоположность этой исчерпывающей специфике квалификации детских игр греческий язык использует для наименования сферы игры вообще не менее трех разных слов. Прежде всего это παιδιά (пайдиá), сразу же оказывающееся под рукою слово, которое обозначает игру. Этимология здесь вполне прозрачна: то, что имеет отношение к детям; в то же время это слово отличается от παιδία (пайди́а) – ребячества. По своему употреблению, однако, παιδία не ограничивается исключительно сферой детской игры. Вместе с производными от него παίζειν (пáйдзейн) – играть, παῖγμα (пáйгма) и παίγνιον (пáйгнион) – игрушка оно может означать всевозможные формы игры, вплоть до самых высоких и самых священных, подобно тому как мы уже это видели. Со всей этой группой слов связан смысловой оттенок радостного, веселого, беззаботного. Слово ἀθύρω, ἄθυρμα (атю́ро, áтюрма) в сравнении с παιδιά остается на заднем плане. Оно выражает смысловой оттенок чего-то пустого и незначительного.
Остается, однако, еще одна обширная область, которая, согласно нашей терминологии, также попадает в сферу игры, но греками не затрагивается и не охватывается ни понятием παιδιά, ни понятием ἄθυρμα, а именно – игровые состязания и поединки. Во всей этой, столь важной в греческой жизни, области господствует слово ἀγών (агóн). Область его действия вроде бы включает в себя существенную долю понятия игры. Значение несерьезного, игрового в нем, как правило, не получает отчетливого выражения. На основании этого, а также из-за чрезвычайно важного места, которое ἀγών занимал в эллинской культуре и в повседневной жизни каждого эллина, Болкестейн упрекнул меня в том, что я в своем докладе О границах игры и серьезности в культуре неправомерно включил в понятие игры греческие состязания, от крупных, укорененных в культе, до самых малозаметных[61]61
Bolkestein H. De cultuurhistoricus en zijn stof. Handelingen van het Zeventiende Nederlandsche Philologencongres, 1937, p. 26.
[Закрыть]. Говоря об Олимпийских «играх», замечает Болкестейн, мы перенимаем, «не задумываясь, латинское выражение, в котором содержится оценочное суждение римлян по поводу обозначенных этим термином состязаний, полностью, однако, расходившееся с отношением греков». Перечислив многообразные формы агонистики, явственно показывающие, как жажда соперничества наполняла всю жизнь греков, он заключает: «С игрой все это не имеет ничего общего, разве только решиться утверждать, что вся жизнь греков была игрою!»
В определенном смысле именно таков замысел всей этой книги. Несмотря на мое восхищение той манерой, с какой этот утрехтский историк неуклонно проясняет наши взгляды на греческую культуру, и несмотря на то, что греческий язык не одинок в своем чисто языковом различении между агоном и игрою, я должен самым решительным образом воспротивиться этому мнению. Опровержение воззрений Болкестейна, собственно говоря, содержится во всем последующем изложении. Я ограничусь поэтому одним предварительным аргументом: агон, будь то в греческой жизни либо еще где-нибудь в нашем мире, несет в себе все формальные признаки игры и в том, что касается его функции, несомненно оказывается в рамках праздника, то есть в сфере игры. Совершенно невозможно отделить состязание как одну из функций культуры от взаимосвязи игра – праздник – сакральное действо. Объяснение того, что в греческом языке понятия состязания и игры терминологически разделены, по моему мнению, скорее всего, нужно искать в следующем. Концепция всеобщего, всеохватывающего и логически однородного понятия игры, как мы и предположили, появилась довольно поздно. В эллинском обществе, уже на самой ранней его стадии, агонистика заняла столь обширное место и оценивалась столь серьезно, что осознавать ее игровой характер в дальнейшем не представлялось возможным. Состязание, во всем, при каждом удобном случае, стало для греков столь интенсивной функцией культуры, что его принимали за обычную и полноценную золотую монету и уж во всяком случае не за игру.
Случай с греческим языком, как мы сейчас убедимся, вовсе не единичный. Это же происходит в несколько ином виде и у древних индусов. И там выражение понятия игры представлено различными терминами. Санскрит имеет для этого в своем распоряжении по меньшей мере четыре различных корня. Наиболее общий термин для обозначения игры – это krīḍati. Слово это обозначает игру детей, взрослых, животных. И так же, как слово, обозначающее игру в германских языках, оно приложимо к движению ветра и волн. Оно может обозначать и вообще подпрыгивание или пляску без сколько-нибудь выраженного игрового значения. Это последнее тесно сближает его с корнем nṛt, распространяющим свою власть на всю область танца и лицедейства. Divyati, в первую очередь, обозначает игру в кости, но оно же означает также вообще играть, шутить, tändeln [подтрунивать], выставлять на посмешище. Первоначальным значением здесь было, по-видимому, бросать, с чем корреспондирует сиять, испускать лучи[62]62
Связи с dyu, светлое небо, мы здесь касаться не будем.
[Закрыть]. В корне las-, отсюда – vilāsa[63]63
Слово krīḍati образовано от krīḍ – веселиться, развлекаться, шутить, играть с кем-либо. Слово nṛt означает жест, ужимка и в качестве корня входит в такие слова, как nṛti – танец, игра, праздничное представление; nṛta – танцовщик, актер; nṛtta – танец просто; nṛtya – танец, пантомима. Divyati означает бросать, кидать, но также излучать, сиять и связано с divana – игра в кости, а также с div – небо, и весьма многозначным divya – небесный, чудесный, божественность, обет, клятва, божий суд, ордалия. Слово vilāsa также весьма многозначно и означает появление, игра, шутка, проворство, привлекательность, радостный, желаемый, и с этим словом связаны vilāsita – блестящий, сияющий, возникший, взволнованный, резвый, а также vilāsin – веселый, влюбленный, любовник, супруг. Важнейшее для индийской культуры понятие līlā включает в себя такие значения, как игра, забава, шутка (часто с эротическим оттенком, восходящим, по мнению специалистов, к весенним обрядовым играм, связанным с ритуалом плодородия), а также притворство, но и красота. Современные индологи утверждают, что līlā есть прежде всего акт сотворения мира, деяния бога, каковые он производит по собственной воле, но при этом легко, играючи. Это же слово применяется и для описания игр богов с людьми: проказы Кришны, а равно и подвиги Рамы.
[Закрыть], объединяются значения сиять, вдруг появиться, прозвучать, двигаться взад-вперед, играть, вообще быть занятым, немецкое etwas treiben. Существительным līlā (с деноминативом – līlayati), по-видимому с основным значением колыхаться, раскачиваться, выражается прежде всего то легкое, воздушное, радостное и беззаботное, что есть в игре. Помимо этого, в līlā звучит как будто, оно передает нечто кажущееся, подражательное. Так, например, gajalīlayā означает буквально играя в слона, как слон; gājendralīla буквально – некто, чья игра – слон, то есть тот, кто изображает, играет слона. Во всех этих наименованиях игры семантическим исходным пунктом с очевидностью выступает быстрое движение, связь, которая прослеживается и в других языках. Это, разумеется, ни в коей мере не говорит о том, что все эти слова первоначально обозначали исключительно такое движение и лишь позднее стали употребляться в приложении к игре. Игровые понятия в приложении к состязаниям в санскрите не применяются, и, хотя древнеиндийское общество знало различные виды состязаний, едва ли это понятие было представлено в виде особого наименования.
Любезному разъяснению профессора Дёйвендака я обязан некоторыми данными относительно выражения игровой функции в китайском языке. Здесь также отсутствует одно обобщенное наименование всех тех видов деятельности, которые, как мы полагаем, должны быть отнесены к понятию игры. На первом плане находится слово вань, в котором перевешивает значение детской игры. Оно обнимает главным образом следующие конкретные значения: быть чем-либо занятым, в чем-либо находить удовольствие, забавляться пустяками (to trifle), озорничать, баловаться, шутить. Оно используется также для выражения значений: ощупывание, обследование, обнюхивание, перебирание бисера и, наконец, даже наслаждение лунным сиянием. Семантическим исходным пунктом здесь, по-видимому, служит что-либо воспринимать с присущим игре вниманием, беззаботно отдаваться чему-либо. Это не годится для игры на смекалку и ловкость, для состязания, игры в кости и представления.
Для этого последнего, то есть для упорядоченной драматической игры, в китайском используются родственные слова, передающие позицию, ситуацию, расстановку. Для всего, что имеет отношение к состязанию, имеется особое слово чжэн, вполне сравнимое с греческим словом агон, а помимо этого также и сай, в особенности для специально организованного состязания на какой-либо приз.
Как пример выражения понятия игры в языке из группы так называемых примитивных культур, или, скажем, первобытных народов, я могу теперь, благодаря любезности профессора Уленбека, описать ситуацию, обнаруженную в блэкфуте, одном из языков племени алгонкинов[64]64
Алгонкины – группа индейских народов Северной Америки. Название дано по племени собственно алгонкинов, небольшого – около 2,5 тыс. человек – народа, живущего на юго-востоке Канады. На языке алгонкинской группы, ныне вытесняемом английским, говорят члены племени блэкфут (то есть черноногие, самоназвание сиксика значит то же самое), живущие на северо-западе США и юго-западе Канады, у подножия Скалистых гор; до второй половины XIX в. занимались конной охотой на бизонов.
[Закрыть]. Для наименования всех детских игр служит здесь глагольная основа koăni. Она не может сочетаться с названием какой-либо определенной игры, ею обозначается детская игра вообще, будь то игра ради забавы или игра по правилам. Но как только дело касается подобных занятий взрослых или подростков, тогда, даже если речь будет идти о той же самой игре, в которую играют и дети, это уже не koăni-. Зато koăni употребляется еще и в эротическом смысле, в особенности же для обозначения запретных отношений. Чтобы выразить что-либо связанное с проведением определенной, обусловленной правилами игры, пользуются общим термином kachtsi-. Это слово пригодно как для азартных игр, так и для состязаний в силе и ловкости. Побеждать, соревноваться – вот что является здесь смысловым моментом. Таким образом, отношение koăni- к kachtsi-, будучи перенесенным с номинального на вербальное, в некотором смысле уподобляется отношению παιδιά к ἀγών, с той разницей, что азартные игры, которые для греков входили в παίζω, в языке блэкфут подпадали под понятие агонального. Для всего, что лежит в сфере магически-религиозного, танцев и торжественных церемоний, не подходит ни koăni-, ни kachtsi-. В блэкфуте есть, помимо этого, два особых слова со значением побеждать, одно из которых, amots-, передает как победу в беге, состязании или игре, так и победу в боевой схватке, – в этом последнем случае особенно в смысле устроить резню; другое же, skits– (skets-), относится исключительно к играм и спорту. По всему этому видно, что сферы чисто игрового и агонального здесь полностью смешиваются. Есть здесь свое слово и для проигрывать – apska-. Примечательно, что здесь можно придавать глаголу дополнительное значение неправда, в шутку с помощью приставки kip-, буквально ну чуть-чуть, например: ániu – он говорит, kípaniu – он говорит в шутку, а сам так не думает.
Взятая в целом, концепция понятия игры в блэкфуте, в том, что касается уровня абстракции и выразительных возможностей, кажется не столь уж отдаленной от греческой, хотя с ней и не совпадает.
Тот факт, что в греческом, древнеиндийском и китайском языках выражение общих понятий состязания и игры, как мы в этом убедились, раздельно, тогда как блэкфут проводит эту границу несколько по-другому, мог бы побудить нас склониться к мнению, что Болкестейн все-таки прав и что это разделение в языке отвечает глубоко заложенному социологическому и психобиологическому сущностному различию между состязанием и игрою. Такому заключению тем не менее сопротивляется не только весь культурно-исторический материал, который будет привлекаться нами в дальнейшем, но и тот факт, что в данном отношении уже названным языкам можно противопоставить ряд далеко отстоящих друг от друга языков, где понятие игры представлено в виде гораздо более широкой концепции. Наряду с большинством современных европейских языков это справедливо для латыни, японского и по меньшей мере для одного из семитских языков.
Что касается японского, я могу сделать несколько замечаний, опираясь на любезную помощь профессора Радера. В японском, в противоположность китайскому и подобно современным западноевропейским языкам, есть одно вполне определенное слово, прилагаемое к игровой функции вообще, – так же как и примыкающее к нему слово, противоположное по смыслу и обозначающее серьезное. Существительное asobi и глагол asobu обозначают: вообще играть, а также развлечение, забаву, времяпрепровождение, прогулку, отдых, распутство, азартную игру, ничегонеделание, лежание без дела, пребывание в праздности. Это также – играть во что-то, что-либо представлять, подражать. Примечательно и дополнительное значение: speling, play [зазор, игра] – о некоторой подвижности сопряженных поверхностей в колесе или другом устройстве, то есть как в нидерландском или английском[65]65
Может ли здесь идти речь о влиянии английской техники на японский язык, я установить не берусь.
[Закрыть]. Интересно также употребление asobu в выражениях, означающих учиться у кого-либо – или чему-либо, что наводит на мысль о латинском ludus в значении школа. Asobu может обозначать и показательный бой, то есть мнимое сражение, воинское учение, но не состязание как таковое, – так что разграничение между агоном и игрою проходит здесь по-иному. И наконец, asobu, сравнимое в этом с китайским вань, фигурирует в искусстве японской чайной церемонии, в ходе которой ее участники, любуясь, восторгаются передаваемыми из рук в руки прекрасными изделиями из керамики[66]66
Чайная церемония – особый культурный обряд у японцев, включающий не только приготовление и употребление чая (в четко фиксированном ритуале), но и созерцание чайной посуды, окружающего ландшафта, картин и цветов (чайная церемония происходит в саду, в особом помещении, украшенном вазами с цветами, свитками с живописными изображениями, каллиграфически выполненными изречениями и т. п.). Обряд символизирует единство с окружающим миром, достигаемое в повседневной жизни.
[Закрыть]. Таким образом, связи со значениями быстро двигаться, сиять, резвиться здесь явно отсутствуют.
Точное определение японского понимания игры завело бы нас в рассмотрение японской культуры гораздо глубже, чем это и для нее, и для меня здесь возможно. Удовлетворимся поэтому следующим. Необычайная серьезность японского жизненного идеала маскируется представлением, что это всего лишь игра. Подобно chevalerie христианского Средневековья, японское bushido полностью оказывалось в сфере игры, проявляло себя в игровых формах. Язык сохраняет это представление в asobasé-kotobá, то есть в учтивой речи, дословно – игровом языке, употребляемом в разговоре с лицами более высокими по своему статусу. Высшие классы предположительно, чем бы они ни занимались, делают все играя. «Вы прибываете в Токио», произнесенное с учтивостью, в буквальном переводе звучит как «вы играете прибытие в Токио». Подобным же образом «я слыхала, что ваш отец умер» превращается в «я слыхала, что господин ваш отец сыграл, как умереть». Выражения такого рода, по моему мнению, весьма близки нашему «U gelieve»[67]67
В нынешнем эпистолярном стиле это выражение большей частью понимают превратно: словно именно та персона, коей что-то угодно, является субъектом по отношению к глаголу gelieven [соблаговолить, соизволить].
[Закрыть] [ «Соблаговолите…»] или немецкому «Seine Majestät haben geruht»[68]68
Что касается глагола geruhen, то ruhen возникает здесь лишь на втором плане. Geruhen [изволить] первоначально никак не связано с ruhen [отдыхать], но соответствует средненидерландскому rоескеп [быть озабоченным], – ср. roekeloos [беспечный].
[Закрыть] [ «Его Величество соизволили»]. Высокопоставленная персона видится на такой высоте, где ее поступками движет лишь желаемое ею самой удовольствие.