Текст книги "В тени Нотр-Дама"
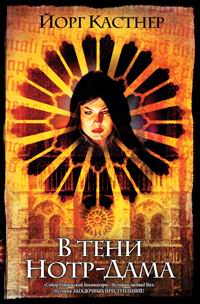
Автор книги: Йорг Кастнер
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 5
Отец Клод Фролло
О, что за счастье, которое возникает при мягком прикосновении нежной женской руки! Дрожь охватывает все тело, наполняет его теплом. И то и другое рождено желанием ощущений и предвосхищением радости того, что еще предстоит. Меня клонило в сон и все перепуталось, поэтому я не мог наслаждаться этим чувством счастья, как подобает. К тому же глаза мои были закрыты, мир вокруг меня – мрачен, как облачная ночь. И все же я знал, что это была женщина, которая обтирала мне лоб и щеки влажным, дарящим приятную прохладу платком. Только женщина могла действовать с такой материнской нежностью.
Узкое лицо Антуанетты всплыло предо мной в памяти. Я снова лежал в теплой кровати, которую Донатьен Фрондо ради своих дел в другом городе и с опрометчивым легкомыслием предоставил своей супруге одной. И мне. Прелестная Антуанетта склонилась надо мной, она щекотала меня своими белокурыми локонами и демонстрировала мне два острых холма своей женственности, которые вырывались из тесного декольте. Я прошептал имя возлюбленной и жадно схватил оба розовых яблочка, которые, как спелые фрукты, висели надо мной и, похоже, только того и ждали, чтобы быть сорванными.
Прикосновения были сладкими и нежными недолго. Влажная тряпка грубо шлепнула по моим щекам, и Антуанетта вырвалась из моих растопыренных рук – совершенно также, как в тот злополучный вечер, когда ее супруг неожиданно ворвался в спальню и преждевременно погасил факел нашей страсти тумаками и криками.
– Ваши дела явно пошли на поправку, месье! Слишком хорошо, что вы с закрытыми глазами хватаете женщин. Поищите себе хотя бы ту, которая не дала обет по уставу святого Августина!
Раздраженный голос на пару с мокрой тряпкой, теперь крайне неприятно раскачивающейся, прогнал мой прекрасный сон. Я испуганно открыл глаза, и Антуанетта осталась в прошлом. Я действительно лежал в кровати, но место было мне неизвестным. Большой, залитый солнечным светом зал, в котором в два длинных ряда стояли кровати одна за другой. Большинство занимали больные, как предположил мой постепенно пробуждающийся разум. Некоторые кровати были отгорожены балдахинами и занавесами от любопытных взглядов. Там, видимо, лежали хворающие, которые нуждались в особом покое. Между ними ревностно сновали женщины в одеянии монахинь Августинского ордена. Они подметали пол, перестилали кровати и заботились о больных.
Широкое лицо, склонившееся надо мной и не имеющее ничего общего с белокурым ангелом Антуанеттой, тоже было обрамлено черным монашеским покрывалом. Мясистые ноздри дрожали гневом, а надутые губы искривились в выражении упрека. Большие глаза метали на меня неодобрительные взгляды. Сильные руки, при первом взгляде от которых было трудно ожидать таких нежных прикосновений, вызвавших у меня воспоминания, держали маленькую оловянную миску с водой и влажный платок, с которым я познакомился вначале более, а потом – менее приятно.
– Где я? – спросил я и повернул голову, чтобы осмотреться. Это имело два последствия. Во-первых, я увидел другие кровати с больными, как и монахинь и послушниц, которые заботились о постельном белье. Во-вторых, сильная боль пронзила мою голову. Я вернулся обратно на ложе, закрыл на короткое время глаза и издал подавленный стон.
– Вы в Отеле-Дьё, месье, там, куда вас принес ваш друг. Очень легкомысленно было с вашей стороны присоединиться к толпе сброда в Новом городе, – монахиня глубоко вздохнула. – Если бы волхвы знали, что Париж в день их именин устроит праздник шутов и привлечет так много отбросов на улицы, – отбросов, каких и не сыщешь на всем белом свете! – они бы, возможно, выбрали другой срок для своего посещения у нашего Господа Христа.
Когда я спокойно лежал на подушке, головная боль стихла и дала место размышлениям. Я вспомнил ужасные вчерашние события, мое бегство и укрытие в бочке, которая вдруг рухнула на землю. Но я не мог припомнить сброд, с которым я якобы связался, несмотря на все усилия воли. И еще одно было мне неясно.
– Вы говорили о моем друге, достопочтенная сестра, – сказал я и снова открыл глаза. – Где теперь он?
– Ушел прочь, после того как он разбудил брата Портария и обратил внимание на вас.
Я почесал голову, отчаянно пытаясь отыскать утраченные воспоминания.
– Было так поздно?
Ответ прозвучал укоризненно:
– Все молебны были давно отслужены, а до заутрени оставалось еще несколько часов.
– Итак, около полуночи.
– Можно и так выразиться, месье Сове.
– Вам известно мое имя? – с удивлением спросил я.
– Ваш друг назвал его брату Портарию. Вы не похожи на переписчика, но такое случается, когда люди попадают к оборванцам. Возможно, вы даже в том и не виноваты, если выбрали себе друзей среди нищих.
– С чего вы это взяли?
– Потому что попрошайка, который доставил вас сюда, представился как ваш друг.
– Каким именем он представился?
– Я не была при этом, я не знаю, – теперь все еще строгое лицо монахини-августинки приняло более мягкое выражение, и она продолжила:
– Но я не хочу упрекать вас, это позволено только нашему Высшему Судии. Вчера весь Париж превратился в сумасшедший дом. Вы слышали, что мэтр Аврилло, al mosenier ordo sancti benedicti coelestinensis[23]23
Almosenier ordo sancti benedicti coelestinensis (лат.) – представитель ордена Святого Бенедикта, целестинец (прим. перев.)
[Закрыть], был убит самым бесстыдным образом? Ко всему прочему – еще и во дворе Гран-Шатле, на глазах у прево! Если такое могло произойти, где же тогда христианин должен чувствовать себя в безопасности, спрашиваю я вас?
Я не знал ответа, да он мне был безразличен. Совсем другие вопросы, как сильный град, стучали в моем мозгу. Следствием снова стала головная боль. И я чуть не задохнулся от неожиданного приступа страха. В этом холодном, суровом январе мне стало жарко как в солнечный июльский день, и я почувствовал капли пота на своем лбу.
Я был убийцей мэтра Аврилло!
Нет, конечно, это был не я, Господь мой свидетель! Я же хотел спасти целестинца. Но кто мне поверит? Как друга нищих, очевидного для других и самого догадывающегося об этом, меня подозревали и преследовали. Знали ли преследователи меня в лицо, даже мое имя? Но как это случилось, что я невредимый лежу в Отеле-Дьё, прямо под башнями собора Парижской Богоматери? Я чуть было не спросил об этом монахиню, однако соображение, что отправляю себя сам под нож, заставило меня промолчать.
– Что с вами, месье, упадок сил? – монахиня приложила платок к моему лицу и велела одной из послушниц, одетых в белое, принести крепкий куриный бульон.
– У меня закружилась голова при мысли, что могло произойти со мной вчера ночью, – объяснил я и ничуть не солгал при этом. – Убийство брата ордена! Убийца известен?
– Нет, только человек, который убил мэтра Аврилло. – Я изобразил удивление:
– Разве это не одно и тоже? Монахиня покачала массивной головой:
– Смерть облата вызвала понесшая лошадь мэтра Жиля Годена, нотариуса в Шатле. Без сомнения, почтенный муж выше всяких подозрений.
– Без сомнения, – пробормотал я и подумал, о мрачном всаднике на белом в яблоках коне, который всего лишь сбил с ног мирянина и напоследок обвинил меня в убийстве.
– Вина в смерти мэтра Аврилло падает не на него, а на нищего из толпы, которая присоединилась к процессии фламандских послов. Мессир Годен отлично видел, как нищий толкнул бедного Аврилло ему под лошадь. Потом этот сын дьявола скрылся в темной ночи, – при упоминании злодея монахиня-августинка поспешно осенила свою грудь крестом.
– И его не смогли поймать?
– Нет, месье. Возможно, правы те, кто утверждает, что в День волхвов не только небо, но и ад открывается, чтобы выпустить демонов в мир и закрывается снова в полночь, – она снова перекрестилась. – Убийца остался непойманным. В погоне за ним королевские лучники схватили другого сына Сатаны.
Послушница принесла суп и протянула его монахине, которая поставила миску с водой и положила платок на качающуюся скамеечку, чтобы покормить меня с грубой деревянной ложки. Приятное тепло растеклось по моему желудку, давно лишенному еды. И мой рот наслаждался вкусом птичьего мяса, свиного сала, гороха и молока, сдобренным яйцом, инжиром и шафраном.
Лишь когда последняя ложка вкусного супа была проглочена, я спросил:
– Кто этот сын Сатаны, которого схватили лучники?
– Дьявол из собора Парижской Богоматери, горбун! – прошептала она с широко раскрытыми глазами и снова, как я едва мог видеть, осенила себя крестом.
– Квазимодо, – пробормотал я и вспомнил странный ночной эпизод, в котором перемешались прекрасная цыганка, поэт Гренгуар, Квазимодо и его закутанный в плащ спутник.
– Вы его уже знаете, хотя недавно в Париже?
Я прикинулся дураком, однако чуть не выдал себя. Пришлось поспешно ответить:
– Я был во Дворце правосудия, когда звонаря выбрали Папой шутов.
– Позор! Бесстыдство! – заругалась монахиня. – Такое злое создание выбрать Папой – пусть даже шутов, – это насмешка над нашим святым Папой в Риме. Этот Квазимодо одержим злыми духами. Он доказал это, когда вчера вечером попытался украсть девушку. Мне не хочется даже думать о том, для какого жестокого, бесстыдного ритуала ему была нужна жертва, – ее изборожденный морщинами лоб и глаза, заблестевшие и отведенные в сторону, выдали, что монахиня как раз основательно размышляла над этим.
– Собственно откуда вы знаете, достопочтенная сестра, что этот Квазимодо – сын дьявола?
– Ну, сами посмотрите на него! – ответила она тоном глубокого убеждения. – Его дикость и его сверхчеловеческая сила свидетельствуют об этом. Вам надо было видеть, как Квазимодо карабкался по фасаду Собора, словно церковь была деревом, а он – обезьяной на ветках. Он играет большими колоколами, словно они котята. И его уже видели во многих местах Собора в одно и то же время!
– Да, это действительно доказательство, – сказал я робко, вопреки рассудку. Прошлым вечером я убедился, как легко ложные обвинения могут превратиться в кажущуюся истину. – Если этот Квазимодо такой чертовский парень, почему его тогда терпят в соборе Парижской Богоматери?
– Потому что он доверенное лицо архидьякона, – ответила сестра с приглушенным голосом и беспокойным взглядом, словно боялась, что ее могут подслушать.
Теперь у меня была третья версия.
По словам Жеана Фролло, Квазимодо был братом, по словам Пьера Гренгуара – сыном, по словам августинки – доверенным лицом архидьякона. С недоумением я посмотрел на монахиню.
– Как такое почти животное может стать доверенным лицом столь почтенного, образованного клирика?
– Тогда зовите Квазимодо слугой Фролло, его преданным псом – это одно и тоже. Вы даже можете назвать отца Клода Фролло отцом Квазимодо. У нашего архидьякона нет супруги, но он вырастил сразу двоих сыновей.
– Как же такое возможно?
– В молодости, когда Клоду Фролло не было еще и двадцати лет, он изучал после теологии со всем рвением медицину, свободные искусства и языки, когда Господь Бог решил подвергнуть его тяжелому испытанию. Это было жарким летом 1466 года, тогда дыхание чумы опалило весь город Париж и все графство. Черная смерть забрала и родителей Фролло, и на его плечи вдруг легла обязанность заботиться о младшем брате Жоаннесе, который в то время лежал еще в колыбели. Отец Фролло отдал дитя жене мельника, чтобы она выкормила своим молоком и воспитала младенца. И видимо, того было недостаточно, потому что судьба одарила его в тот же год вторым сыном, Квазимодо. Это было…
Августинка вдруг замолчала резко. Ее слегка розовая кожа лица побледнела, в глазах отразился ужас и обреченность, словно она заглянула в лицо призрака И действительно аскетические черты лица человека, одетого в темное, который возник позади моей кровати, были довольно близки представлениям о потустороннем существе.
Я уже с прошлого вечера знал, когда увидел на Гревской площади этого серьезного скрытного человека, что это отец Клод Фролло, архидьякон собора Парижской Богоматери. Было невозможно сказать, как много он услышал из нашего разговора. Его глаза холодно глядели из запавших глазниц, а черты лица оставались неподвижными, словно окаменевшими.
– Простите, если я прервал вас, сестра Виктория, – сказал Клод Фролло голосом, который заставлял пожалеть о всяких чувствах, даже о сожалении. – Но я ищу пациента по имени Арман Сове, мне сказали, что вы взяли его под свою опеку.
Августинка проглотила слюну и кивнула, но ее дрожащие губы не произнесли ни слова. Мне показалось, что она чувствовала более чем просто неудобство из-за того, что должна была неодобрительно высказываться об архидьяконе. Я совершенно ничего не понимал, но она производила впечатление очень напуганной – как маленький ребенок, который холодной зимой неожиданно повстречался забредшему в город волку. Возможно, он оказывал на монахиню такое впечатление оттого, что был человеком литеры «G», считающимся таинственным и непростым, иногда внешне открытым, а порой – без особого повода замкнутым. И он наклонился вперед, как если бы кто-то оказался у него на крючке.
– Арман Сове – это я, – сказал я с надеждой, что меня не отправят за это к палачу.
Едва различимо по лицу Фролло похожему на маску скользнуло подобие улыбки:
– Очень хорошо, месье Сове. Вы опытный переписчик и писарь из Сабле, и ищете новое место?
– Это так, – ответил я сбитый с толку. – Но откуда Вам это известно, монсеньор?
– Ваш друг передал мне это через одного дьякона.
– Мой друг? Что-то вроде нищего?
– Он самый.
– Вы случайно не знаете его имя, отец Фролло?
Глаза Фролло сузились от удивления, что я спрашиваю имя собственного друга. Я совершил ошибку? Но архидьякон ответил совершенно спокойно:
– Насколько я знаю, он назвался Коленом.
– Колен! – ахнул я. – Это такой тощий парень с бородой?
– Я бы описал его так же.
Вероятно, это было утро сюрпризов. Напрасно я искал причины, почему старый бродяга оказал мне эту добрую услугу. Он случайно нашел меня после падения из бочки и отнес в Отель-Дьё, чтобы компенсировать принесенное мне воровством неудобство? Но как могла произойти такая случайность? И с каких это пор воры обладают столь безукоризненной честью?
– Похоже, вы с некоторым трудом припоминаете своего друга, месье Сове, – сказал Фролло с вопросительным тоном.
– Возможно, это последствия удара головой, монсеньор, – возразила сестра Виктория, чей взгляд покоился на архидьяконе с некоторой смесью из трепета и страха.
– Ах, да, на вас же напали разбойники, – согласился Фролло. – Чтобы быть кратким: я срочно ищу нового писаря. Вы, вероятно, уже слышали, что месье Пьер Гренгуар, который до недавнего времени работал у меня, ушел в сочинители мистерий. Если даже его вчерашний дебют и не закончился однозначным триумфом, не стоит ожидать, что он вернется ко мне на службу. Если ваши раны не так сильны, месье Сове, вы можете стать моим человеком. К тому же, вы прибыли издалека и, вероятно, не столь увлекаетесь женским полом и вином, как здешние писари, слишком испорченные посещением пивных. За вознаграждением дело не встанет. Еду и кров вы получите бесплатно в соборе Парижской Богоматери. Ко всему прочему, мне бы пришлось по душе, если бы вы могли начать прямо сейчас.
– Месье Арман отделался только парой ушибов и ссадин, – объяснила августинка. – Еще пара дней головной боли и боли в руках и ногах, но потом все пройдет.
– Если вы хотите, я тут же пойду к вам, мэтр Фролло, – сказал я поспешно, так как у меня не было ни денег, ни крова.
Архидьякон согласился, и я встал с постели.
– Вы выглядите несколько пообтрепавшись, – сказал Фролло. – Вы не обидитесь на мое указание, что к лицу писаря архидьякона подобает новая и, прежде всего, чистая одежда?
– Ни в коей мере, монсеньор. К сожалению, я не располагаю средствами, чтобы последовать этому указанию.
– Мошенники, которые напали на вас, обобрали вас, не так ли?
Я кивнул в знак согласия, потому что это избавляло меня от длительных объяснений.
Фролло достал десять солей из кожаного кошелька на поясе и отсчитал их в мою руку.
– Этого задатка из вашего жалованья должно хватить на первое время. Идите, оденьтесь заново, и зайдите ко мне сегодня вечером.
Я пробормотал пару слов благодарности и схватил мой кисет, чтобы убрать неожиданное богатство. Когда я сунул правую руку под камзол и нащупал наполненный кожаный мешочек, я застыл в недоумении. Дар умершего целестинца! Я чуть было не достал его на свет Божий и не выдал себя.
– Что там у вас? – спросил Фролло и посмотрел изучающим взглядом на меня.
– Меня только что пронзила мысль, как сильно я должен быть благодарен Всевышнему за милость, которую он ниспослал мне в вашем предложении, мэтр Фролло.
– Воистину. Помолитесь перед алтарем и поблагодарите Господа Бога, когда вы ступите на порог Собора.
С этими словами он покинул больничный зал. И сестра Виктория тоже явно не была расположена разговаривать со мной дальше. Она поспешно распрощалась и занялась другими больными. Об этом я сожалел, потому что с удовольствием узнал бы, что связывало моего нового патрона с этим таинственным звонарем.
Когда я вышел из больницы, мой взгляд упал на Собор. Его башни возносились в безоблачной синеве неба, словно хотели объединиться с солнцем. Несмотря на теплые лучи солнца, я озяб. Отец Клод Фролло вовсе не показался мне чудовищным. Но все же меня тревожила мысль, что мне предстоит жить отныне с этим ужасным Квазимодо под одной крышей.
Глава 6
Кровь, песок и вода
Вскоре мне стало ясно, почему я стремился на север и направил свои стопы через мост Нотр-Дам в Новый Город. Толпа людей напирала в этом направлении как сильное течение реки, которая подхватила меня и превратила в крошечную каплю, безвольно плывущую в потоке. Из страха, потерять монеты Фролло так же быстро, как дар монаха-призрака, я переложил их теперь в кошелек, который крепко прижимал к себе под камзолом. Толкотня не позволяла мне бросить взгляд на предмет, который лежал под деньгами.
Целью толпы была Гревская площадь. Огромная площадь на северном берегу Сены была забита людьми еще плотнее, чем накануне. Над головами, шляпами и острыми чепцами женщин с лентами, перьями и прочей мишурой неподвижно и почти гордо возвышалась виселица – цель всеобщей толкотни и внимания крикливой толпы. Среди такого окружения от виселицы исходило спокойствие и достоинство.
– Что случилось? Что должно произойти? – спросил я пробегающего мимо и схватил его за старомодный, широкий рукав его грубой куртки. По крепким, в трещинах, руках и загорелой, обветренной коже я узнал в нем крестьянина, который явно прибыл в Париж на праздник Трех волхвов и остается в городе еще и на сегодня, чтобы последовать предлагаемой программе.
– Не знаю, – рыкнул он, недовольный тем, что ему помешали исполнить свое желание и обеспечить себя местом поближе к месту казни. – Уже спозаранку возле виселицы стоят часовые. Полагаю, сегодня кого-то вздернут. А теперь отпусти меня, чтобы я мог видеть, как несчастливец закатит глаза в предсмертных судорогах! Если я подойду совсем близко, то, возможно, сумею урвать кусок одежды мертвеца. Рассказывают, что боль в руках и ногах проходит за ночь, если их обернуть в него.
Крестьянин заработал своими крепкими руками и локтями, чтобы проложить себе дорогу поближе к виселице. Я воспользовался образовавшимся за ним проходом и последовал за ним. Действительно ли я хотел поглазеть на смерть другого человека? Было ли это чистое любопытство, которое двигало мной? Или я догадывался, ощущал глубоко внутри, что предстоящее тесно связано с моей собственной судьбой, с тем, что Париж уготовил мне?
Возможно, это просто была радость, что сам избежал палача. Сегодня я не знаю, что и сказать по этому поводу, тогда же я о том не задумывался.
Зеваки и мошенники, достопочтенные дамы и проститутки, актеры и карманники напирали со всех сторон, когда под удары литавр и барабанную дробь промаршировал вооруженный отряд стражников с улицы де ла Ваннери. Ударами копыт и нагаек солдаты прево расчистили себе место, которое толпа уступила не очень-то поспешно. В своих роскошных военных мундирах из фиолетового камлота, грудь которых украшал большой белый крест, стражники производили впечатление приводящих в исполнение Страшный суд.
Для бедного правонарушителя, привязанного к повозке с мулом, они хотели быть именно таковыми. Связанный и скрученный он был плохо виден с того места, где я стоял. Бесформенная масса из мяса и волос, одежды, веревок и цепей. Я узнал его лишь, когда его имя облетело толпу, передаваемое из уст в уста с возгласами удивления.
– Квазимодо!
– Это он, верно, звонарь из собора Парижской Богоматери!
– Горбун!
– Сын дьявола!
– Пройдоха! Теперь он заплатит за все сполна!
– Да, повесьте это чудовище! Но возьмите веревку толще вдвойне, чтобы его тяжелый горб не оборвал ее!
Первоначальный ужас при виде преступника превратился в гнев и насмешку, в иронию и злорадство, чем ближе повозка приближалась к месту казни, тем отчетливее доходило до сознания зевак, что горбун был беспомощен в крепких веревках и цепях. Затянутые так сильно, они врезались в его горбатое тело. Разорванная одежда пропиталась кровью.
Отвращение, которое непроизвольно вызывал у меня вид горбуна, исчезло. Я испытывал сострадание к измученному существу, хоть и говорил себе, что его вчерашний проступок, нападение на Эсмеральду, заслуживал наказания. Но сразу ли веревку? Никто не пострадал от действий Квазимодо, если даже нападение благополучно закончилось благодаря появлению стрелков. Если Квазимодо повесят за это, что же они тогда делали в Париже с убийцей? От этой мысли у меня пересохло в горле, словно меня душили.
Шепот прошел по толпе, и облегчение охватило меня, когда солдаты повезли повозку не к виселице. Отряд остановился возле позорного столба, около десяти футов высотой, полого внутри куба из грубой кладки камней. Пики и алебарды отогнали народ, пока ярко одетый всадник раскрутил бумагу.
– Это Мишель Нуаре! – раздалось где-то за мной, – глашатай его величества короля! Что случилось, месье Нуаре? Почему вы отвели горбуна не на виселицу, а к позорному столбу?
– Довольно докладов, лучше повесить!
Глашатай заставил замолчать толпу сильным голосом и прочитал приводимый в исполнение приговор:
– Квазимодо, также известный как звонарь нашего собора Парижской Богоматери, обвиняется в следующих преступлениях, в чем и признан виновным: во-первых, в нарушении ночного покоя, во-вторых, в насильственном и неприличном нападении на беззащитную женщину, в-третьих, в оказании сопротивления и неподчинения стрелкам нашего достопочтенного господина прево. Для приведения в исполнение приговора в полдень на Гревской площади отводится час у позорного столба, во время которого будет применено рядовое наказание, и осужденного выпорют. По истечении этого часа он будет выставлен на обозрение народу еще на один час. Решено и подписано 7 января в 1483 году от Рождества Христова в королевском суде Гран-Шатле достопочтенным господином Жаком д'Астутвилем, королевским прево города Парижа.
Народу понравился приговор. Он обещал приятное зрелище и возмещение того, что собравшиеся понапрасну ждали – хруста шеи повешенного. Под одобрительные крики Квазимодо провели по «приступочку», как называли ступени лестницы из неотесанного камня, на известняковые плиты эшафота позорного столба.
Горбуна, похоже, покинула всякая воля, всякое человеческое чувство, он повиновался, как безропотная скотина. Что должно было произойти в существе, которое еще вчера на том же самом месте было почитаемым Папой шутов теми же самыми людьми? Или произошло такое вовсе не с этой бесформенной головой? Может, его разум был так же искалечен, как тело?
На эшафоте позорного столба возвышалось большое, стоящее перпендикулярно деревянное колесо для обычного наказания. Квазимодо должен был встать на колени на колесе, и привязан в такой позе за руки за спиной. Когда стражники резкими движениями сорвали кафтан и рубашку с его тела, толпа содрогнулась. В одежде звонарь представлял собой гротескное явление, но его обнаженный торс выглядел несравнимо ужаснее. Люди обязательно отвели бы взгляд, если бы жажда увидеть чудовище во всей его отвратительности не была так велика. А звонарь казался отвратительным!
Как вулканическая гора, возвышался у него на спине горб, окруженный холмами поменьше, которые выглядели, как застывшая лава. Теперь вулкан заснул, но разве он не мог проснуться в любую минуту со всей яростью и силой, которые умел извергать чудовищный Квазимодо?
Как только ужас от увиденного прошел, стали снова слышны крики насмешек:
– Парень таскает на себе целую горную гряду!
– Гора, которую можно было бы отнести к пророку!
– Если это человек, то тогда мы не люди!
В толпе горлопанов я обнаружил продувное лицо под белокурыми локонами, которое тут же узнал: Жеан Фролло де Молендино или Жоаннес дю Мулен, брат моего нового патрона. И брат Квазимодо, если я его правильного понял. Но почему он насмехается над звонарем, родным для него?
Коренастый, дюжий мужчина в одежде стражника поднялся к позорному столбу, и его имя с быстротой молнии облетело толпу: мэтр Пьера Тортерю, присяжный палач Шатле. Он поставил в один из углов площадки позорного столба большие черные песочные часы – начался первый час телесного наказания. Красный песок в верхней стеклянной колбе мерно посыпался через тонкое отверстие в нижнюю.
Раздались аплодисменты, когда палач снял свое фиолетовое верхнее платье и взял в правую руку толстую плеть, кошку с девятью хвостами. Лоснящиеся, сплетенные из кожи ремни были с узлами и металлическими гвоздями, чтобы оставить на коже преступника и под ней особенно сильные следы. В полной тишине Тортерю засучил левой рукой рукав на правой руке до самого плеча.
– Дайте же, наконец, кошке покусаться, мэтр Тортерю! Но не пастью, а хвостами. Там сидят зубы, которые особенно мило кусаются.
Нетерпеливым горлопаном, как теперь отчетливо было видно, оказался Жеан Фролло, потому что он поднялся высоко над другими головами. Он сидел на плечах у другого широкоплечего человека, в котором я узнал его друга Робена Пуспена. На лице Жеана было написано злорадство и подлость, его глаза горели от азарта в предвосхищении предстоящего.
Если бы я сам не был сиротой, я бы охотно увидел в нем живое доказательство тому, что ничего хорошего не может выйти из ребенка, лишенного материнской ласки и наказывающей руки отца. Меня охватило глубокое отвращение, которое относилось, однако, не к несчастному существу у позорного столба, а к Жоаннесу дю Мулену. Сердечная черствость и подлость исходили от него, как чума. Неужели черная смерть, которая лишила его родителей, оставила ему жизнь только для того, чтоб отравить его сердце?
– Пожалуйте сюда, дамы и господа, – продолжал Жеан тоном рыночного зазывалы. – Подойдите и посмотрите, как стегают по велению его величества мэтра Квазимодо, звонаря моего брата отца Клода Фролло. Обратите внимание на этот чудный образчик восточной архитектуры, в который сейчас вопьются разом девять хвостов кошки. Эту роскошную, напоминающую купол спину и ноги – как витые колонны!
Всеобщий смех замер, когда мэтр Тортерю топнул ногой, подав знак двум своим помощникам, которые поднялись через узкий проход внутрь площадки позорного столба, чтобы начинать наказание. Они повернули ось тяжелого дубового колеса, на котором сидел Квазимодо. Звонарь начал медленно и равномерно вращаться, так что каждый зевака воспользовался случаем увидеть сгорбленную спину и ту рожу, которую только с большим трудом можно было назвать человеческим лицом.
Когда во время одного из поворотов горбатая спина оказалась перед ним, палач взмахнул рукой. Показалось, что взмах был не очень сильным, но это было ошибочное впечатление. Сила удара заключалась не в использованной силе тела, а в технике, которой Пьера Тортерю владел в совершенстве. Девять тонких ремней просвистели в воздухе и прочно впились своими узлами и гвоздями в кожу горбуна.
Вулкан пробудился! Толчок прошел по телу Квазимодо, словно он хотел подняться, и цепи громко забряцали. На долгий момент народ затаил дыхание, ожидая мести чудовища, платы за ругань и насмешки. Никто из плотно прижатых друг к другу зевак, казалось, не избежал бы гнева Квазимодо. Но цепи был достаточно крепки, а веревки удерживали звонаря в скрюченной позе.
Беспомощно он вертелся перед снова начавшей ликовать толпой, пока Пьера Тортерю отвешивал удар за ударом. Квазимодо сжимался каждый раз, но он не кричал, не стонал, не просил о пощаде. Только его здоровый глаз был широко раскрыт и сверкал под кустистой бровью. С кем встречался взгляд, для того это было, как удар плеткой палача. Удивление смешалось во взгляде с болью, боль – со злобой, а злоба – с дикой жаждой расплаты.
Девять хвостов плетки с узлами и гвоздями прочертили бесчисленные борозды на спине горбуна. Красные царапины расплылись в раны и проступили на горбатой спине, как лава из ручейков. Капля за каплей, ручей за ручьем лилась кровь по разодранной коже Квазимодо, но пытка не заканчивалась. Бесконечно долго сыпался красный песок из верхней колбы в нижнюю. Песчинка за песчинкой с трудом пробивалась через узкий проход – такие же красные, как кровь. В какой-то момент глаз циклопа закрылся, подбородок Квазимодо опустился на грудь, и полумертвый, он смиренно сносил град ударов плетки и подзадоривающие крики.
Пока я смотрел на него, не в силах вырваться из толпы или даже закрыть глаза, я беспрестанно спрашивал себя, виновный ли висит на деревянном колесе. Я ясно видел перед собой сцену вчерашнего вечера. Квазимодо был не один во время нападения. Я не знал, какая роль выпала в этой ужасной пьесе Пьеру Гренгуару, но закутанная в плащ фигура, которая сопровождала звонаря, должна, по крайней мере, рассматриваться как соучастник. Кем бы ни был этот соучастник, Квазимодо страдал за него, принимал муки, которых с лихвой хватило бы не одному.
Спустя целую вечность пристав Шатле, одетый в черное, верхом на черном коне, поднял свой жезл из черного дерева и указал на песочные часы. Верхний сосуд был пуст, в нижнем – возвышалась острая красная горка.
С выражением сожаления на лице, поскольку не заставил кричать преступника от боли и молить о пощаде, мэтр Тортерю опустил свое обагренное кровью орудие пытки и дал стечь крови. Он встряхнул плетку с девятью концами, и я вздрогнул, когда красные капли брызнули мне в лицо. Кровь горбуна, сына дьявола!
Палач топнул ногой, и колесо пыток остановилось с тихим поскрипыванием, при этом истерзанный не сделал ни одного движения. Пытка была позади, бичевание тоже – но не мучения звонаря. Прежде, чем Тортерю покинул позорный столб, он перевернул песочные часы, и начался час для зрителей Квазимодо. Сыпался красный песок, и текла красная кровь.









































