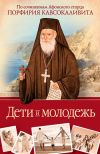Текст книги "Родителям: как быть ребенком"

Автор книги: Юлия Гиппенрейтер
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Разбуженная, моя память оказывается на удивление инфантильной. В именитых людях, посещавших наш дом по воскресеньям, а иногда и в другие дни недели, она сохранила черты не основные, а побочные, не главные, а случайные. Не те, какие в прославленном человеке интересны взрослому, а те, какие в каждом прохожем интересны ребенку. Если мимо шагает прохожий, ведя на цепочке собаку, то всякий ребенок заинтересуется сначала собакой, а уж потом – человеком. Лошадь, которую ты гладил в детстве по шелковой шерсти и кормил сахаром с ладони, – она незабвенна. А уж первая белка! Репин. Мастерская. Помню холсты на мольбертах, много Пушкиных, Шаляпина, помню каких-то черных загорелых людей, размашисто гребущих в широкой лодке среди волн. Помню Репина за письменным столом у Корнея Ивановича, изображающим кого-то в «Чукоккале» папиросным окурком, который он макает в чернильницу. Но мне семь лет, и гораздо более, чем о портретах, картинах, кистях, холстах и таком странном орудии, как окурок, я думаю о том: правда ли рассказывают, будто репинский Мик кинулся недавно во дворе у соседей на живую курицу? и съел ее? Собаки не могут без мяса, а жена Репина, Наталья Борисовна, ни мяса не ест, ни молока не пьет и никому не позволяет – не только гостям, но и Репину самому, а Мика перевела на одни каши… вот с горя он и бросился на курицу. Интересно, съел ли он ее и как? Разорвал в клочки или проглотил живьем? Это ужасно занимает меня и Бобу. И в мастерской у Репина нас не более занимают картины, чем жгучий вопрос: если тут играть в прятки – не будут ли видны ноги из-за пышных занавесей, опущенных над холстами? И еще: позволит ли мне кучер снова заплетать в косички гриву репинской лошади Любы, чтобы волосы не падали ей на глаза? И самое главное: правду ли Репин сказал мне, что к нему в парк каждый день приходит белка? Спросить не решаюсь, а мне смерть как хочется знать. Помню моторную яхту, которая никак не могла пристать к нашему берегу: мелко! и матроса в бескозырке с золотой ленточкой, и лодку, которая была спущена с яхты и называлась шлюпкой, и человека в белом свитере и с биноклем через плечо, о котором я слышала столько разговоров кругом: Леонид Андреев. Но я на него еле взглянула. Гораздо больше занял меня матрос. Тельняшка. Трепещущая на ветру ленточка с золотыми буквами «Дальний». Первый мотор и первый матрос в жизни. Звук мотора, стучащий, мертвый, чуждый плеску волн, синеве, тишине. Помню день, когда Корнея Ивановича навестил гостивший в «Пенатах» Шаляпин. Пения его слышать мне не довелось; но, когда он поднимался в кабинет на второй этаж, я в недоумении глянула в окно: мне показалось, там, в саду, зашумели деревья. Это он напевал себе под нос, поднимаясь по лестнице. Поразило меня, что он не только шире в плечах, крупнее, огромнее нашего отца, но и выше его на целую голову. «Полтора папы». В кабинете за ними закрылась дверь, и прямо носом в дверь уткнулась, застыла собака: широкогрудая, зубы наружу и в попоне с бубенчиками. Она ни на секунду не отходила от двери, за которой скрылся хозяин. Я впервые видела собаку в попоне… Она была противная, хрипела, сопела… У Шаляпина был лакей-китаец; первый мой китаец в жизни: с длинной косой, в шароварах. Он обращался со мной изысканно вежливо, как со взрослой дамой, чем очень меня конфузил; а Коле дарил китайские марки для альбома. Мы то и дело бегали к нему в репинскую дворницкую, влекомые желтым лицом, косой, шароварами, поклонами.

В Андрееве более всего поразил меня матрос и моторка, в Шаляпине – китаец и собака с бубенчиками. И матрос, и моторка, и собака – были впервые в жизни. Правда, и Леонид Андреев и Шаляпин были тоже впервые, но в них-то что особенного? Писатель, артист, значит, люди как люди, заурядные, обыкновенные, привычные. А вот матрос! А вот лакей, да еще китаец! Это – невидаль. Что же касается всесветной известности Андреева, Репина или Шаляпина, то, к счастью, «воздух искусства» оставлял нас детьми и не учил пялить глаза на знаменитостей. Понятие славы было невнятно нам. Да и знаменитости умели вести себя так, будто им решительно ничего не ведомо о собственной славе.
Разумеется, Корней Иванович был доволен, что присутствие Леонида Андреева или Шаляпина не заставляло нас чувствовать себя какими-то особенными: «а у нас Шаляпин был!». Он ведь так и хотел: «дети как дети». Для этого, чтобы мы оставались детьми, были и шарады, и лодка, и босоногость, и городки, и лыжи, и путешествия. И в то же время, как я понимаю теперь, он, преклонявшийся перед талантом, был несколько смущен и даже шокирован, убеждаясь, что изобилие знаменитостей, постоянно посещавших наш дом, делало их в наших глазах заурядными. Стирало с них чудесность. Мы утрачивали ощущение счастья в их присутствии – ощущение, какого сам он не терял никогда. Репин? Ну и что с того: Репин. Короленко? «Да, папа, я забыл, – докладывал Коля, – когда тебя не было дома, заезжал Владимир Галактионович… Представь себе, он на велосипеде, прислонил велосипед к забору и пошел к нам… Просил тебе передать… А как ты думаешь, кто быстрее: самый медленный поезд или самый быстрый велосипед?»
Ему иногда казалось: перед нашими глазами пересыпают драгоценные камни, а мы как бы не видим их блеска и предпочитаем играть с мальчишками или девчонками в камешки на берегу.
И хорошо. Это нам по возрасту: в камешки… Но все же…
Беспокоился он напрасно. Помню, через десятилетия, когда мне было уже не семь, а тридцать, я однажды сказала ему, что часто встречаюсь теперь с Анной Ахматовой (когда-то сам же он мельком меня с ней познакомил). В ответ он спросил требовательно-встревоженным голосом:
– Я надеюсь, ты понимаешь, что следует записывать каждое ее слово?
Я понимала. И этим пониманием обязана я ему, его отношению к поэзии и культуре, его чувству преемственности, «Чукоккале», тому утру, когда я увидела, с какою осторожностью прикасается он к подлинным рукописям Некрасова.
Агата Кристи. «В моей памяти осталось…»Чувство значимости мастера, художника приходит с возрастом, когда человек способен воспринять его вклад в культуру, и еще больше – внутренне откликнуться на него. Но ребенок еще не обременен ни знаниями, ни запасом культурного опыта, ни тем более представлениями о славе. В отличие от взрослого, он совсем не робеет перед «великими». Очень похожий пример можно прочесть в воспоминаниях Агаты Кристи.
В дни моей юности к нам часто приходили очень интересные люди, и жаль, что я не обращала на них внимания.
Все, что я помню о Генри Джеймсе, – это сетования мамы на то, что во время чая он всегда разламывал пополам кусок сахара, – чистое притворство, как будто не было другого, маленького.
Приходил Редьярд Киплинг, и опять в моей памяти осталось лишь, как мама с подругой обсуждают, почему же он в свое время женился на миссис Киплинг. Обсуждение кончилось тем, что мамина подруга сказала:
– Я знаю почему. Они прекрасно дополняют друг друга.
Приняв слово complement за compliment, я нашла это заключение совершенно бессмысленным. Но когда Няня в один прекрасный день объяснила мне, что самый большой комплимент, который джентльмен может сделать даме, – это предложить ей руку и сердце, все встало на место.
Хотя я всегда присутствовала на чаепитиях, одетая, как сейчас помню, в белое муслиновое платье, перепоясанное желтой атласной лентой, гости не запечатлелись в моей памяти. Люди, которых я придумывала, всегда были для меня более реальными, чем настоящие.
Зато я очень хорошо помню близкую подругу моей мамы, мисс Тауэр, главным образом потому, что она постоянно делала мне больно, и я стремилась избежать встречи с ней. У нее была привычка набрасываться на меня с поцелуями и при этом восклицать:
– Сейчас я тебя съем!
Я всегда опасалась, что она действительно может съесть меня. Всю жизнь я тщательно следила за тем, чтобы не кидаться на детей с непрошеными поцелуями. Бедные малютки, ведь они совершенно беззащитны. Дорогая мисс Тауэр, добрая, сердечная, она любила детей, но так мало задумывалась над их чувствами.
Глава 2
От увлечения к призванию

Дети – народ очень восприимчивый и эмоциональный. Нередко ранние детские впечатления перерастают в стойкий интерес, а потом и в настоящее жизненное призвание. Родителей и ученых давно занимает вопрос: ранний интерес – это проявление «заложенных» способностей или результат «внешних воздействий»? Ждать, когда наука точно ответит на вопрос о доле «генов» в способностях, не приходится. К тому же многие знания о том, как появляются и набирают силу таланты, можно найти в биографиях и автобиографиях. Воспоминания людей о собственном детстве – драгоценный подарок для ищущих родителей и озадаченных психологов.
В этой главе помещены отрывки из воспоминаний известных людей, нашедших себя в разных профессиях: артиста и режиссера (К. С. Станиславского), естествоиспытателя-путешественника (Т. Хейердала), музыканта (С. С. Прокофьева), физика (Р. Фейнмана), писателя и поэта (М. Цветаевой). Они жили в разные исторические эпохи, в разных странах, в семьях разного материального положения и разной культуры. Но есть много общего в судьбах зарождения и развития способностей этих детей.
Во-первых, бросается в глаза готовность детей удивляться и очаровываться, казалось бы, обычными предметами, событиями или явлениями природы. Во-вторых, получив эмоциональный «заряд» от такого впечатления, они начинают проявлять удивительную настойчивость в активном «добывании» того, что для них оказалось важным и нужным. И такая активность постепенно превращается в стойкий интерес, а потом, возможно, и в профессию. Для нас важно проследить, какое участие в развитии интереса ребенка принимали родители таких детей. Мы увидим, что это участие было очень разным. Одни родители предоставляли ребенку относительную свободу, не вмешиваясь в его «выдумки» и занятия, другие – сочувственно наблюдали со стороны; третьи – шли навстречу просьбам и активно помогали; а были и те, которые увлекались сами и увлекали своим энтузиазмом. Но во всех случаях, по воспоминаниям детей, они получали от родителей то, что мы можем назвать доброжелательным принятием, а еще – созданием «обогащенной среды», в которой находилась пища для пытливого ума и эмоциональной увлеченности ребенка.
К. С. Станиславский Детство[9]9
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (1925).
[Закрыть]

Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938) – известный русский театральный режиссер, актер, театральный педагог. Родился в Москве, по рождению и воспитанию принадлежал к высшему кругу русских промышленников. В семье увлекались театром, в московском доме был специально перестроенный для театральных представлений зал. В 1898 году совместно с Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр. В 1936 году К. С. Станиславскому было присвоено звание Народного артиста СССР.
Ранние воспоминанияМы открываем этот раздел отрывками из книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Это автобиографическое повествование автор начал писать в 60-летнем возрасте. За плечами стояли десятилетия напряженной жизни и работы. Здесь, на первых страницах воспоминаний мы узнаем о том, «как все начиналось».
Я родился в Москве в 1863 году. Мои отец и мать не любили светской жизни и выезжали только в крайних случаях. Они были домоседы. Мать проводила свою жизнь в детской, отдавшись целиком нам, ее детям, которых было десять человек.
Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под старость. Они были также влюблены и в своих детей, которых старались держать поближе к себе.
Из моего далекого прошлого я помню ярче всего мои собственные крестины, конечно, созданные в воображении, по рассказам няни.

Другое яркое воспоминание из далекого прошлого относится к моему первому сценическому выступлению. Это было на даче в имении Любимовка, в тридцати верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка Ярославской ж. д. Спектакль происходил в небольшом флигеле, стоявшем во дворе усадьбы. В арке полуразвалившегося домика была устроена маленькая сценка с занавесью из пледов. Как полагается, были поставлены живые картины «Четыре времени года». Я – не то трех-, не то четырехлетним ребенком – изображал зиму. Как всегда в этих случаях, посреди сцены ставили срубленную небольшую ель, которую обкладывали кусками ваты. На полу, укутанный в шубу, в меховой шапке на голове, с длинной привязанной седой бородой и усами, постоянно всползавшими кверху, сидел я и не понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно делать. Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь его на подмостках. После аплодисментов, которые мне очень понравились, на бис мне дали другую позу. Передо мной зажгли свечу, скрытую в хворосте, изображавшем костер, а в руки мне дали деревяшку, которую я, как будто, совал в огонь.
«Понимаешь? Как будто, а не в самом деле!» – объяснили мне.
При этом было строжайше запрещено подносить деревяшку к огню. Все это мне казалось бессмысленным. «Зачем как будто, если я могу по-всамделишному положить деревяшку в костер?»
Не успели открыть занавес на бис, как я с большим интересом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне казалось, что это было вполне естественное и логическое действие, в котором был смысл. Еще естественнее было то, что вата загорелась, и вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик. Меня схватили и унесли через двор в дом, в детскую, а я горько плакал.
После того вечера во мне живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой стороны – неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения перед толпой зрителей.
ЦиркВоспоминания о более поздних детских чувствованиях еще ярче врезались в душу. Они относятся к области артистических потребностей и переживаний. Стоит мне теперь воскресить в памяти обстановку прежней детской жизни, и я снова точно молодею и ощущаю знакомые чувства.
Вот канун и утро праздника; впереди день свободы. Утром можно встать поздно, а затем – день, полный радостей; они необходимы, чтобы поддержать энергию на предстоящий длинный ряд безрадостных учебных дней, скучных вечеров. Природа требует веселья в праздник, и всякий, кто этому мешает, вызывает в душе злость, недобрые чувства, а тот, кто этому способствует, – нежную благодарность.
За утренним чаем родители нам объявляют, что сегодня надо ехать с визитом к тетке (скучной, как все тетки), или, – еще того хуже, – что после завтрака к нам приедут гости – нелюбимые нами двоюродные братья и сестры. Мы столбенеем, теряемся. С таким трудом дожили мы до свободного дня, а у нас отняли его и сделали скучные будни. Как дотянуть до будущего праздника?
Раз сегодняшний день пропал, единственная надежда, какая нам остается, – вечер. Кто знает, может быть, отец, который лучше всех понимает детские потребности, уже позаботился о ложе в цирк или хотя бы в балет, или даже, на худой конец, в оперу. Ну, пусть даже в драму… Билетами в цирк или в театр ведал управляющий домом. Расспрашиваешь, где он. Уехал? Куда? Направо или налево? Отдавали ли приказ кучерам беречь битюгов (большие, сильные лошади)? Если да, – хороший признак. Значит, нужна большая четырехместная карета – та самая, в которой возят детей в театр. Если же битюги уже ходили днем, – плохой признак. Ни цирка, ни театра не будет.
Но управляющий вернулся, вошел в кабинет к отцу и передал ему что-то из бумажника. Что же, что? Подкарауливаешь: лишь только отец выйдет из кабинета, скорей к письменному столу. Но на нем, кроме скучных деловых бумаг, не находишь ничего. Сердце заныло! А если заметишь желтую или красную бумажку, т. е. билет в цирк, – тогда сердце забьется так, что слышны удары, и все кругом засияет. Тогда и тетка, и двоюродный брат не кажутся такими скучными. Наоборот, любезничаешь с гостями вовсю, для того чтобы вечером, во время обеда, отец мог сказать:
«Сегодня мальчики так хорошо принимали гостей, так милы были с тетей, что можно им доставить одно маленькое (а может быть, и большое!) удовольствие. Как вы думаете, какое?»
Красные от волнения, с кусками пищи, остановившимися в горле, мы ждали, что будет дальше.
Отец молча лезет в боковой карман, медленно, с выдержкой, ищет там чего-то, но не находит. Не в силах больше ждать, мы вскакиваем, бросаемся к отцу, окружаем его, в то время как гувернантка кричит нам строго:
«Enfants, ecoutez done се qu’on vous dit. On ne quitte pas sa place pendant le diner!»[10]10
Дети, слушайте, что вам говорят. Из-за стола не встают во время обеда! (франц.)
[Закрыть]
Тем временем отец лезет в другой карман, шарит в нем, достает портмоне, не спеша выворачивает карманы – и там ничего.
«Потерял!» – восклицает он, весьма естественно играя свою роль.
Кровь бежит вниз от щек до самых пяток. Нас уже ведут и усаживают на места. Но мы не отрываем глаз от отца. Проверяем по глазам братьев и товарищей: что это, шутка или правда? Но отец вытащил что-то из кармана жилета и говорит, коварно улыбаясь:
«Вот он! Нашел!» – и машет красным билетом в воздухе.
Тут никто не в силах нас удержать. Мы вскакиваем из-за стола, танцуем, топаем ногами, машем салфетками, обнимаем отца, виснем у него на шее, целуем и нежно любим его.
С этого момента начинаются новые заботы: не опоздать бы!
Ешь, не прожевывая, не дождешься, чтоб кончился обед, потом бежишь в детскую, срываешь домашнюю и с почтением надеваешь праздничную куртку. А потом сидишь, ждешь и мучаешься, чтоб отец не опоздал. Он любит вздремнуть за послеобеденным кофе в опустевшей комнате. Как разбудить его?.. Ходишь мимо, топаешь ногами, уронишь какую-нибудь вещь или закричишь в соседней комнате, делая вид, что не знаешь о том, что он рядом. Но у отца был крепкий сон.
«Опаздываем! Опаздываем! – волновались мы, поминутно бегая к большим часам. – К увертюре не поспеем, это ясно!»
Пропустить цирковую увертюру! Это ли не жертва!
«Сейчас уже семь часов!» – восклицали мы. Пока отец проснется, оденется, – того гляди начнет бриться, – будет уж по меньшей мере семь двадцать. И мы понимали, что дело шло уже о пропуске не одной только увертюры, но и первого номера программы: «Voltige arretee, исполнит Чинизелли младший». Как мы ему завидовали!.. Надо спасать вечер. Пойти повздыхать рядом с комнатой матери. В эту минуту она казалась добрее отца. Пошли, поохали, повосклицали. Мать поняла наш маневр и отправилась будить отца.
«Коли хочешь баловать мальчиков, так уж балуй, а не томи, – говорит она отцу. – Tu l’as voulu, Georges Dandin![11]11
«Ты этого хотел, Жорж Данден!» – фраза из комедии Мольера «Жорж Данден». (Ред.)
[Закрыть] Поезжай-ка на работу!»
Отец встал, потянулся, поцеловал мать и пошел сонной походкой. А мы, как пули, ринулись вниз – велеть подавать экипаж, упрашивать кучера Алексея, чтобы ехал скорее. Сидим в четырехместной карете, болтаем ногами, – это облегчало ожидание: все-таки как будто движение. А отца все нет и нет. Уже в душе растет к нему недоброе чувство, а благодарности нет и следа. Наконец дождались. Отец сел; карета, скрипя колесами по снегу, тихо двигается, качаясь на ухабах; от нетерпения помогаешь ей собственным подталкиванием. Совершенно неожиданно вдруг карета останавливается. Приехали!.. Не только второй номер, но и третий номер программы кончился. К счастью, наши любимцы Морено, Мариани и Инзерти еще не выступали. Она, она – тоже. Наша ложа оказалась рядом с выходом артистов. Отсюда можно наблюдать за тем, что делается за кулисами, в частной жизни этих непонятных, удивительных людей, которые живут всегда рядом со смертью и шутя рискуют собой. Неужели они не волнуются перед выходом? А вдруг это последняя минута их жизни! Но они спокойны, говорят о пустяках, о деньгах, об ужине. Герои!

Музыка заиграла знакомую польку, – это ее номер. «Danse de chale»[12]12
Танец с шалью (франц.)
[Закрыть] – исполнит партер и на лошади девица Эльвира. Вот и она сама. Товарищи знают секрет: это мой номер, моя девица, – и все привилегии мне: лучший бинокль, больше места, каждый шепчет поздравление. Действительно, она сегодня очень мила. По окончании своего номера Эльвира выходит на вызовы и пробегает мимо меня, в двух шагах. Эта близость кружит голову, хочется выкинуть что-то особенное, и вот я выбегаю из ложи, целую ей платье и снова, скорей, на свой стул. Сижу, точно приговоренный, боясь шевельнуться и готовый расплакаться. Товарищи одобряют, а сзади отец смеется:
«Поздравляю, кончено! – шутит он. – Костя – жених! Когда свадьба?»
Последний, самый скучный номер – «кадриль верхом на лошадях, исполнит вся труппа». После него наступает предстоящая неделя с длинным рядом безрадостных, унылых дней, без надежды вернуться сюда в следующее воскресенье. Мать не позволяет часто баловать детей. А цирк – это самое лучшее место во всем мире!
Чтобы продлить удовольствие и подольше пожить приятными воспоминаниями, назначаешь тайное свидание товарищу:
«Непременно, обязательно приходи!»
«Что будет?»
«Приходи, увидишь. Очень важно!»
На следующий день приходит друг, мы удаляемся в темную комнату, и я ему открываю великую тайну о том, что я решил, как только вырасту, стать директором цирка. Для того чтобы не было возврата после моего обещания, надо закрепить решение клятвой. Мы снимаем образ со стены, и я торжественно клянусь, что буду непременно цирковым директором. Потом обсуждается программа будущих представлений моего цирка. Составляется список труппы из лучших имен наездников, клоунов, жокеев.
В ожидании открытия моего цирка мы решили назначить частный домашний спектакль – для практики. Намечаем временную труппу из братьев, сестер, товарищей; распределяем номера и роли.
«Жеребец, дрессированный на свободе: директор и дрессировщик – я, а ты – жеребец! Потом я буду играть рыжего – пока вы будете стелить ковер. Потом – музыкальные клоуны».
На правах директора я забрал себе лучшие роли, и мне уступали их, потому что я – профессионал: я клялся, мне нет поворота назад. Представление назначается на ближайшее воскресенье, так как нет никакой надежды на то, что нас повезут в цирк или даже в балет.
В свободные от уроков часы и вечера нам стало много дела. Во-первых, напечатать билеты и деньги, которыми будут нам платить за них. Устроить кассу, т. е. затянуть дверь пледом, оставив небольшое окно, у которого придется дежурить целый день спектакля. Это очень важно, так как настоящая касса, пожалуй, больше всего дает иллюзию подлинного цирка. Надо подумать и о костюмах, и о кругах, затянутых тонкой бумагой, сквозь которые мы будем прыгать в «pas de chale», и о веревках, и о палках, которые должны служить барьерами для дрессированных лошадей; надо подумать и о музыке. Это самая больная часть представления. Дело в том, что брат, который один мог заменить оркестр, – чрезвычайно беспечен, недисциплинирован. Он не смотрел на наше дело серьезно и потому бог знает что мог выкинуть. Бывало, играет, играет, а потом, вдруг, при всей публике – возьмет, да и ляжет на пол посреди зала, задерет ноги кверху и начнет орать:
«Не хочу больше играть!»
В конце концов, за плитку шоколада он, конечно, заиграет. Но ведь спектакль уж испорчен этой глупой выходкой, потеряна его «всамделишность». А это для нас – самое важное. Надо верить, что все это по-серьезному, по-настоящему, а без этого – неинтересно.
Публики собирается мало. Конечно, всегда одни и те же, домашние. На свете не существует самого плохого театра или актера, которые не имели бы своих поклонников. Они убеждены, что кроме них никто не понимает скрытых талантов их протеже, все другие люди не доросли до этого. И у нас были свои поклонники, которые следили за нашими спектаклями и ради собственного (а не нашего, заметьте) удовольствия приходили на них. Одним из таких «ярых» был старый бухгалтер отца, и за это он имел у нас в цирке почетное место, что очень ему льстило.
Чтоб поддержать работу в кассе, многие из нашей доморощенной публики в течение всего дня брали билеты; потом, как будто, их теряли, потом приходили с заявлением в кассу. О каждом случае велась обстоятельная беседа, спрашивали распоряжения директора, т. е. меня, я отрывался от дела, приходил в кассу, отказывал или разрешал дать пропуск. На случай выдачи контрамарок существовала другая книжка с номерами и заголовками на билетах:
«Цирк Констанцо Алексеева».
В день спектакля мы приступали к гримированию и костюмированию за много часов до начала. Куртки и жилеты закалывались наподобие фрака. Клоунский костюм делался из длинной женской сорочки, которая завязывалась у щиколотки, образуя нечто вроде широких панталон. Выпрашивался отцовский старый цилиндр для «директора и дрессировщика», т. е. для меня; бумажные клоунские колпаки заготовлялись тут же. Завернутые до колен штаны и голые ноги изображали костюмы цирковых акробатов в трико. С помощью сала, пудры и свеклы белилось лицо, румянились щеки и красились губы, а углем подрисовывались брови и треугольники на щеках для клоунского грима. Спектакль начинался чинно, но после обычного скандала брата публика расходилась, и представление обрывалось. На душе оставалась окись, а впереди – длинный-длинный ряд унылых дней, вечеров предстоящей учебной недели. И опять создаешь светлую перспективу для предстоящего воскресенья: на этот раз можно рассчитывать на поездку в цирк или театр.
И снова наступает воскресенье, и снова томление и догадки в течение дня, и снова радость во время обеда. На этот раз – театр. Поездка туда не то, что в цирк. Это куда серьезнее. Этой экспедицией управляет сама мать. Нас предварительно моют, одевают в шелковые русские рубахи с бархатными шароварами и замшевыми сапогами. На руки натягивают белые перчатки и строго-настрого наказывают, чтобы по возвращении домой из театра перчатки оставались белыми, а не совершенно черными, как это обыкновенно случается. Понятно, что мы весь вечер ходим с растопыренными пальцами рук, держа ладони далеко от собственного туловища, дабы не запачкаться. Но вдруг забудешься и схватишь шоколад или помнешь в руках афишу с большими черными буквами невысохшей печати. Или от волнения начнешь тереть рукою грязный бархатный барьер ложи, – и вместо белой тотчас же перчатка делается темно-серой с черными пятнами.
Сама мать надевает парадное платье и становится необыкновенно красивой. Я любил сидеть подле ее туалета и наблюдать, как она причесывалась. На этот раз берут с собой приглашенных детей прислуги или бедных опекаемых. Одной кареты не хватает, и мы едем, точно пикником, в нескольких экипажах. С нами везут специально сделанную доску. Она кладется на два широко расставленных стула, на эту доску усаживают подряд человек восемь детей, которые напоминают воробьев, сидящих рядом на заборе. Сзади в ложе садятся няни, гувернантки, горничные, а в аванложе мать готовит нам угощение для антракта, разливает чай, привезенный для детей в особых бутылках. Тут же к ней приходят знакомые, чтобы полюбоваться нами. Нас представляют, но мы никого не видим среди огромного пространства нашего золотого красавца – Большого театра. Запах газа, которым тогда освещались театры и цирки, производил на меня магическое действие. Этот запах, связанный с моими представлениями о театре и получаемых в нем наслаждениях, дурманил и вызывал сильное волнение.
Огромный зал с многотысячной толпой, расположенной внизу, вверху, по бокам, непрекращающийся до начала спектакля и во время антрактов гул людских голосов, настраиванье оркестровых инструментов, постепенно темнеющий зал и первые звуки оркестра, взвивающийся занавес, огромная сцена, на которой люди кажутся маленькими, провалы, огонь, бушующее море из крашеного холста, тонущий бутафорский корабль, десятки больших и малых фонтанов живой воды, плывущие по дну моря рыбы, огромный кит – заставляли меня краснеть, бледнеть, обливаться потом или слезами, холодеть, особенно когда похищенная балетная красавица молила страшного корсара отпустить ее на волю. Балетный сюжет, сказку, романическую фабулу я любил. Хороши и превращения, разрушения, извержения: музыка гремит, что-то валится, трещит. Это, пожалуй, можно сравнить с цирком. Самое скучное и ненужное в балете, по моим тогдашним взглядам, были танцы. Балерины становятся в позу для начала своего номера, и мне делается скучно. Ни одна танцовщица не может сравниться с девицей Эльвирой из цирка.
Иногда в будни, экспромтом, мы представляли балет. Но считалось невозможным тратить на это воскресенье. Оно всецело принадлежало цирку. Наша гувернантка Е. А. Кукина была балетмейстером и в то же время музыкантом. Мы играли и танцевали под ее пение. Балет назывался «Наяда и рыбак». Но я не любил его. Там приходилось представлять любовь, надо было целоваться, и мне было стыдно. Лучше кого-нибудь убивать, спасать, приговаривать к смерти, миловать. Но главная беда в том, что в этом балете был ни к селу, ни к городу вставлен номер танцев, который мы проходили с учителем. Это уже пахло уроком и потому отвращало.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?