Текст книги "Мятежники"
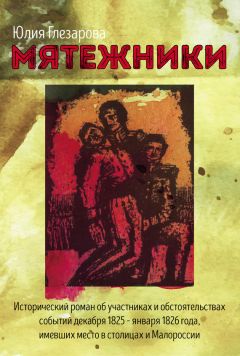
Автор книги: Юлия Глезарова
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
9
Юноша, похожий на Керубино, вырос в уездном городе Горбатове, где папенька его служил городничим. Три тысячи жителей, собор на главной площади. Заросшие лопухами улицы, одноэтажные домишки, осенью и весной – грязь непролазная, зимой – сугробы под самые окна, а кое-где – по крышу.
Красивейшим местом в городе был обрыв, откуда открывался вид на широкую, извилистую реку. Она петляла по холмистой равнине, прозрачная, быстрая, с отмелями из белого песка. Благодатная и опасная, каждый день – новая, меняющая иногда русло, но никогда – нрав. Мишель страстно обожал реку, но в ней ему купаться не дозволялось. Для купания предназначался пруд с купальней, один из пяти прудов усадьбы Кудрешки, имении Бестужевых-Рюминых.
Папенька Мишеля был человек уважаемый, но со странностями. Представитель дворянского рода Бестужевых-Рюминых, что появились на Руси благодаря потомкам англицкого подданного Якова Рюма, был крепчайше уверен в том, что город Горбатов есть наиглавнейший град государства Российского. Вроде бы самой Гисторией ему предназначено такое место. Дело в том, что еще до рождения папеньки, в Горбатове прожил несколько лет его дальний родич: могущественный вельможа времен Екатерины, впавший в опалу. Когда Знатному Родичу вновь улыбнулась фортуна, он умчался в Санкт-Петербурх, оставив в память о себе несколько ящиков с книгами. Папенька по юности сунул было в оные нос, но прочитать не сумел за незнанием языков: а потом и новые заботы подоспели – женитьба, дети, охота, соседи, балы, служба, взятки, интриги, чудачества, ром и наливка… Дети подрастали и исчезали из виду – некоторые навсегда, но папеньку сие не особо тревожило. Впрочем, книги он хранил аккуратно и был уверен, что в томах сих великая мудрость сокрыта.
В раннем детстве Мишель любил рассматривать картинки. Он очень быстро понял, как надо перелистывать страницы – осторожно и бережно, с благоговением, так же как папенька.
В одной из книг его поразило изображение Тайной Вечери. Юный Иоанн плакал, припав к груди Иисуса, обвив руками шею Учителя. Увидев гравюру, Мишелю ощутил трепет, – и подумал, что это любовь к Христу.
Каждый раз, оказываясь в храме, Мишель жалел, что тут нет той гравюры Тайной Вечери: именно она, а не иконы вызывали в нем чувство, похожее на молитвенный восторг. Часто прикладываясь к потемневшему лику в серебряном окладе, он представлял себе эту гравюру, и светлая трепещущая радость наполняла его, хотелось стать хорошим и никогда не грешить.
Кроме книг папеньки, Мишеля привлекали маменькины клавикорды, на которых она иногда разыгрывала немудреные музыкальные пиесы. Мишель легко со слуха перенял их все, маменька гордилась его успехами, тем более, что учить сына музыке было некому.
Музыку Мишель обожал страстно. Любую – хоть звон колоколов местной церквушки, хоть медное громыхание полкового оркестра. Любые гармонические звуки завораживали его настолько, что он погружался в иной мир, переставая воспринимать мир действительный. Можно было звать его, соблазнять любимыми лакомствами, но мальчик не видел их: он слушал. Когда музыка прекращалась, Мишель с самым веселым и довольным видом хватал яблоко или леденец, словно позабыв о музыке…
На самом деле, любой гармонический звук, услышанный им, никогда не забываясь, оставался в памяти. Он мог вызывать их усилием воли… В детстве это получалось само собой, в юности стало труднее, но он не утратил этот дар до самого смертного часа, так и не поняв, зачем ему это – помнить все – от дребезжания колокола сельского храма до звона курантов в Петропавловской крепости…
Когда Мишелю исполнилось шестнадцать лет, маменька выразила надежду, что он станет опорой их старости и останется в Кудрешках. Но любезный сыночек твердил одно: хочу учиться! Маменька плакала, учеба означала разлуку, а папеньке становилось кисло при мысли о предстоящих расходах. В конце концов, Мишель переупрямил, батюшка со слезами на глазах продал заливной лужок, старый возок выкатили из сарая, привели в порядок, и так как маменька не за что не пожелала расставаться с Мишелем, все семейство отправилось в неближний путь до Москвы. Ехали на «долгих», маменька по дороге беспокоилась – как и что там будет в Москве? Уповала на помощь сестрицы, второй супруги сенатора Муравьева-Апостола… У них был дом на Басманной, знакомства, протекции.
Милый Мишенька собирался поступить в университет и слушать лекции профессоров, чтобы понять, наконец, – кто он, для чего живет и что должен делать. Ибо делать после победы над Наполеоном было решительно нечего.
Его поколение находилось в дурацком положении – не хватало двух-трех-четырех лет до тех, кто успел побывать в деле: на их же долю, похоже, выдались не подвиги, но обыденность – сие было обидно и несправедливо.
В Первопрестольной семья остановилась в доме у старшего брата. В ближайшие дни маменька и Мишель нанесли визит тетушке. Она пригласила их к обеду.
В доме Муравьвых-Апостолов на Басманной жило более 30 человек. Сенатор, его супруга, дети сенатора от первого, несчастного брака, и от второго – счастливого и покойного, родственники – дальние и ближние, слуги, гувернантки, гувернеры, компаньонки, приживалки, друзья родственников, парочка просто знакомых и семья соседей-погорельцев. Сенатор был человеком гостеприимным, единственное, чего он не любил – когда его беспокоили в его рабочем кабинете.
Матвей и Сергей наутро уезжали: Сергей – в Петербург, Матвей – в Полтаву, адъютантом в штаб генерал-губернатора Репнина. Последний вечер в Москве братья решили провести в лоне родной фамилии. В преддверии разлуки Сергей был печален, а Матвей – рассеян и раздражен. Впрочем, во время таких вот полуобязательных семейных обедов он почти всегда чувствовал раздражение и скуку. Он любил своих, но раздражали мелочи – искусство заштопанная парадная скатерть, начищенные до блеска медные подсвечники с сальными свечами, бросающие тусклый свет на новенькое столовое серебро, и гастрономические шедевры. Матвей подсчитал, во сколько обошлась вся эта роскошь, доставлявшая столь быстрое и преходящее удовольствие и понял, что есть абсолютно не хочется. Налил себе вина, взглянул на брата, поднял бокал:
– Твое здоровье, Сережа…
Когда на пороге гостиной, появился молодой человек, слишком взволнованный, чтобы понять, что его тут не очень-то и ждут, дурно одетый с всклокоченными рыжими волосами, Сергей вздрогнул, как от громкого звука или вспышки света: ему показалось, что он его уже знает – очень хорошо и давно, знает настолько, что может предсказать его будущие слова и действия.
Сенатор дернул щекой и мило улыбнулся Мишелю, шутливо погрозив ему пальцем.
– Ну-с, молодой человек, с какой целию припожаловали в Москву?
– Приехал учиться, – отрапортовал Мишель, – брать лекции в Университете. С целью держать испытания….
– Похвально, похвально…
«Откуда я его знаю? – думал Сергей, – где я мог раньше видеть это лицо… Необычное, весьма необычное… Скулы татарские, глаза раскосые, подбородок как у греческой статуи, а нос – курносый, как у Прошки. Где я его видел? Манеры провинциальные – кланяется слишком низко, тетушке ручку не поцеловал, а чмокнул на всю комнату, так звонко, что стекла задребезжали…» – Сергей тихо засмеялся, повернулся к Матвею. Брат, закусив губу и побледнев, смотрел куда-то вниз, застывшим взором.
– Что с тобой? Нога?
– Нет. Руки.
– Что?
– На руки его посмотри…
Рука провинциального гостя не лежала на подлокотнике кресла спокойно: длинные пальцы, словно разделенные по прихоти природы не на три, а на четыре сустава плясали по отполированному дереву странный танец, отстукивали некий ритм, вели неведомую партию в невидимом оркестре.
– Забавный юнец, – тихо произнес Сергей.
– Мне кажется… – начал Матвей.
– Что?
– Ничего, пустяки…
Странные пальцы гостя напомнили Матвею о других таких же худых и длинных и худых, но мертвых, неподвижных. Он с трудом вытащил из них томик Стерна в потертом переплете со страницами, пересыпанными табаком…
Матвей вздрогнул, нога на самом деле заболела, заныла пронзительной и острой болью, словно иглой проткнули. Побледнел, встал из-за стола и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Сергей бросился следом. Матвей обернулся, улыбнулся самой непринужденно-вымученной из своих улыбок, махнул рукой: «Не волнуйся, пройдет!» Но Сергей, не обращая внимания на его успокоительный жест, взял его за плечи, подвел к окну. Полная луна озаряла заваленный снегом двор: из-под сугробов торчала какая-то домашняя рухлядь. Света здесь было больше, чем в освещенной свечами гостиной.
– Болит? Да? – настойчиво спросил Сергей, заглядывая брату в глаза, – я же вижу, вижу…
– Что ты видишь? – раздраженно произнес Матвей, отводя взгляд, проклиная каприз природы – он, старший, был почти на голову ниже младшего брата. Он знал, что если будет упорствовать – Сергей просто-напросто возьмет его за подбородок и заглянет в глаза, – Что ты там можешь видеть?
– Боль твою вижу, Матюша, – просто сказал Сергей, – хочешь – заберу?
Он повернулся лицом к окну, откинул тяжелую портьеру.
– Смотри мне в глаза, не бойся – не укушу.
Матвей послушно поднял голову, заглянул в глаза брата. От дурно законопаченного на зиму окна дуло, но ему вдруг стало жарко. Боль ушла в одно мгновение, словно и не было ее. Сергей тотчас заметил это, отпустил брата, рассмеялся.
– Что, легче?
– И как это у тебя выходит? – пробурчал Матвей, растирая то место, где еще мгновение назад гнездилась боль.
Сергей пожал плечами, улыбнулся.
– Сам не знаю, Матюша.
Что Сережа умеет облегчать боль взглядом, Матвей понял еще в детскую пору разбитых локтей и коленок. Иногда он думал, что маменька ведала о Сережином даре – потому что звала его всякий раз, когда у нее разыгрывалась мигрень. Сестры знали – и пользовались тоже, особенно если случалось уколоть палец иголкой… На большее брат не был способен, но и сие, согласитесь, немало.
В гошпитале после ранения Сергей буквально спас брата: лечение ран в пору наполеоновских войн причиняло больше страданий, чем само ранение. Матвей мог умереть от боли, пока лекарь штопал ему ногу, если бы не значительная доза шнапса и Сережины глаза. «Ты не смотри что он делает, не смотри, – бормотал Матвей, – ты на меня смотри…», хватался за руку брата до боли, до синяков – и помогло: выжил, ногу сохранил, ходил почти не хромая… Ну, а постоянные боли – что поделаешь: война. Многие из их ровесников страдали от последствий куда более тяжелых ранений…
Рассеянно наблюдая, как Никита раскладывает на диване постель, Матвей слушал французскую болтовню Сергея, пропуская половину его рассуждений мимо ушей, но сердцем чувствуя тайную печаль брата, его тревогу и возбуждение.
– Слава Богу, завтра уедем, брат. До Петровской заставы вместе, а там – ты на север, я – на юг! Когда еще увидимся? Что с тобой?
– Ничего, Матюша.
– Ты нервен, нервен…
– Вовсе нет: с чего ты взял?
– Пальцы дрожат.
– Ну и что с того? Холодно…
– Натоплено изрядно, впору окно открывать…
– Не знаю: меня озноб бьет. Лихорадка. Простыл должно быть в Новодевичьем: на сквозняке стоял…
Матвей поймал в свою ладонь тонкие пальцы брата, сжал крепко.
– Нервы, нервы… успокойся, брат. Сейчас не война, единственная опасность что меня в Малороссии подстерегает – это тамошние девицы. Говорят, они вельми прекрасны собой и поют отменно. Потеряю голову от любви, женюсь сдуру… Тебя рядом нет, никто не упредит, не удержит от эдакой-то глупости…
– Помилуй, отчего же глупость? Если жена добрая, то это счастье всей жизни…
– А если недобрая? Нет, Серж, брак есть величайшая глупость: всю жизнь около чужого человека жить… Не понимаю, как на такое решиться можно! Если только по великой любви или из большого расчета…
10
Мишель мечтал о дипломатической карьере, но папенька заявил, что он должен поступить в гвардию, надеть мундир и выслужить себе чины не перебирая пыльные бумажки в канцелярии, а командуя и подчиняясь. Сына своего он знал дурно – впрочем, в этом нет ничего удивительного. Горбатовского городничего больше интересовали ром, водка и иные крепкие напитки. Под их влиянием он становился смелым, аки лев, сожалел о неудавшийся военной карьере, и настоятельно требовал, чтобы младший сын продолжил геройское дело старшего брата Владимира, павшего в битве при Фринланде. В такие минуты возражать было опасно – мог и проклясть, и палкой по хребту перетянуть, и в чулан посадить… Словом, Мишель покорился воле родителя, тем более, что в глазах общества даже самые худые гвардейские эполеты весили куда больше, чем статское платье и служба в канцелярии.
Маменька себе все глаза проплакала: ей так не хотелось отпускать сына в столицу. К тому же служба в гвардии требовала немалых денег. Но тут ей удалось весьма выгодно купить подмосковное село Ново-Никольское, – маменька даже решилась на то, чтобы открыть там ткацкую фабрику – доходы с нее должны были обеспечить службу Мишеньки в Питербурге и жизнь семейства в Москве.
Деньги на покупку Ново-Никольского маменьке пришлось частично занять у нового родственника – Саввы Михайловича Мартынова: о богатстве его ходили самые невероятные слухи. Двадцать лет назад он вышел в отставку прапорщиком, владельцем жалких 60 душ, и пять лет спустя приобрел значительный капитал. Составил он его исключительно за игорным столом. Некоторые злые языки шептали о том, что играл господин Мартынов нечисто – но сие было неверным: Мартынову сопутствовала удача, он обладал завидным хладнокровием и умел хорошо считать. Руки у него на самом деле были необычайно ловки, он метал карты с достоинством и изяществом, мог играть всю ночь напролет и на рассвете уносил в кармане долговых расписок на несколько тысяч рублей. «Долги чести», не платить было неприлично, так что господин Мартынов приложил руку к немалому числу бед, злосчастий и самоубийств, зато разбогател сказочно. Был он человек яркий, остроумный, циничный. Нажив к сорока годам немалые средства, и выгодно вложив их в винные откупа, господин Мартынов решил, наконец, обзавестись семейством. В невесты он себе присмотрел девушку красивую, но небогатую, круглую сироту и бесприданницу, воспитанницу Бестужевых-Рюминых – Машу Полосину. Она была всего несколькими годами старше Мишеля, тот считал ее своей кузиною, хотя, происхождение Маши было неясное. Мишель привык к ней, иногда ему даже казалось, что он влюблен в нее.
Когда Савва Михайлович посватался к Маше, маменька не стала долго раздумывать: репутация у него, конечно, была не из лучших, но… милому Мишеньке предстояло служить в гвардии, а на сие были потребны немалые средства… Маша поплакала, но смирилась со своей участью. Она не любила своего будущего супруга, он казался ей стариком, но у него были деньги и связи в Петербурге. Полезные знакомства были приобретены там же, где и капитал – за игорным столом, но ее опекуны предпочли закрыть глаза на сие обстоятельство, тем более, что господин Мартынов помог с деньгами для приобретения Ново-Никольского и твердо пообещал составить Мишелю протекцию в Петербурге.
Накануне свадьбы Мишель тайком сунул Маше листок со стихами, где признавался в любви и клялся умереть в ту минуту, когда она станет женой другого. Стихи были так нелепы, что Маша сперва рассмеялась, и только потом – испугалась… Впрочем, испуг ее был напрасным: Мишель ничего с собой не сотворил, только за свадебном столом сидел мрачный, хмурил брови и воображал себя одновременно Байроном и Вертером. Пока гости и родственники пили за здоровье новобрачных, Мишель мрачно решал, что лучше – хромать, как Байрон или застрелиться, как Вертер? К концу обеда, он подумал, что хромать и писать стихи – все-таки лучше, чем кончать с собой из-за внезапно вспыхнувшей любви к знакомой с детства барышне… Он оказался прав: спустя три дня после того, как господин Мартынов с женой укатили в Петербург, он и думать забыл о Маше.
Хлопот с фабрикой было немало: нужно было закупить станки, нанять рабочих, найти толкового управляющего. Мужики в Ново-Никольском были на нижегородских не похожи: пили меньше, носили не бороды, а усы, на работу были ленивы, зато – прекрасные охотники. Предыдущий хозяин, сын сибирского купца, вывез сих странных людей из Сибири, куда они попали не своей волею. После того, как императрица Екатерина присоединила к России треть Польши, поляки, не захотевшие смирится с этим, подняли восстание. Пролив немало крови, призвав на помощь великого полководца Суворова, империя успешно справилась с поляками. Тем, кто не погиб в бою пришлось отправиться за Урал. И вот теперь бывшие инсургенты заселили подмосковное село. В Сибири они состарились, обрусели, обзавелись местными женами, некоторые женились даже на дикарках с черными глазами и смуглой кожей – словом, население села представляло собой весьма пеструю и необычную для глаз картину.
По просьбе маменьки Мишель провел в Ново-Никольском месяц перед отъездом в полк. Она, как могла, баловала милого Мишеньку, старалась во всем угодить ему, днем была весела и хлопотлива, а по ночам – тихо плакала и считала дни – ей все казалось, что их осталось так мало! Вот уже привезли от портного мундир, от сапожника – сапоги, дворовому человеку Ваньке сшили новую ливрею, купили рубашки и галстухи, чулки и панталоны. Наконец, настал день отъезда. Маменька сдерживала свое горе до последнего, но когда лошади были поданы, обняла сына и расплакалась, умоляла его писать как можно чаще, беречь себя, помнить, что от его жизни и здоровья ее жизнь зависит… Папенька был спокоен и похмельно хмур.
– К уличным девкам не ходи, в карты не играй, особливо с Саввой Михайловичем, – сказал он, положив руку на плечо Мишеля, – денег зря не трать, служи усердно и пиши почаще. Ну, с Богом! – горбатовский городничий перекрестил сына. Заплаканная маменька опять бросилась обнимать милого Мишеньку, вслед на ней зарыдала вся дворня…
Когда коляска скрылась за поворотом, маменька упала без чувств.
Савва Михайлович принял «кузена» весьма любезно. Вскоре Мишель начал бывать у господина Мартынова при каждом удобном случае: он быстро уставал от казарменной жизни и тягот службы. Ему было непросто привыкнуть к тому, что он уже – не ребенок, а юнкер Кавалергардского полка, что просыпаться надо не когда захочется, а когда зорю играют, что делать надо не то, что в голову взбрело, а что прикажут… Он покорно подчинялся и даже находил иногда удовольствие в службе, но почему-то страшно уставал и его все время тянуло из казармы в дом, в теплую гостиную с круглым столом и удобными креслами, в библиотеку, где за стеклом мерцают непрочитанные книги, в столовую, где кормят долго, вкусно и сытно… Он скучал по Маше – Марии Степановне, превратившийся из провинциальной барышни в столичную барыню. Спустя несколько месяцев после свадьбы она казалась искренне влюбленной в своего немолодого мужа – и Мишеля это не удивляло. Савва Михайлович был человек удивительный.
Самой поразительной чертой господина Мартынова было то, что он нигде не служил, карьеры не сделал, ушел в отставку прапорщиком и не жалел о сем: деньги, по его мнению, были могущественнее чинов. Он был одним из немногих богатых людей скудного времени, он знал, о чем говорил.
Ему самому пришлось подниматься от мелкопоместной полу-нищеты, ловить удачу, верить в свою судьбу и твердый расчет. Он был вольтерьянцем, ему нравился Наполеон. Господин Мартынов искренне рассмеялся над Мишелем, когда тот посетовал, что не смог принять участия в войне:
– Когда-нибудь вы поймете, Мишель, что в 12-м году Россия воевала не против великого человека, а против себя самой и себя сама в бойне сей сокрушила… Да, наша армия в Париже стояла… Но что получили победители?
– Славу! И вечную память отечества!
– Пожалуй, что славу… Но и только. У большинства офицеров, что компанию прошли, только и есть, что чины, ордена да офицерское жалование. Ну, имение еще родовое – заложенное-перезаложенное, в 30 душ… вот и все! Чем жить прикажете «победителям» сим? Да они скоро к дочкам купеческим свататься начнут! Потому что чины, ордена, ранения, слава и прочее не могут жизнь человеческую обеспечить! На сие потребен капитал – и не маленький, потому что жизнь семейная больших расходов требует. Верно, Мари? – господин Мартынов повернулся к юной супруге, ласково взял ее за руку. – Да, кстати, друг мой – отчего же ты тот браслет не купила, что тебе давеча в Гостином дворе понравился? Передумала? – Савва Михайлович заботливо поправил Машенькину шаль.
– Нет, завтра куплю, – только не тот, а другой – с гранатами. Тот изящнее…
– Купи непременно. Браслеты в моде сейчас и тебе хороши…
Господин Мартынов с упоением наряжал Машу: ездил с ней по модным лавкам, выбирал материи, заказывал туалеты. Савва Михайлович любил жить на широкую ногу: дом он снял неподалеку от Невского проспекта, гости у него бывали каждый день, иногда и играли – но Мишель за стол не садился: только приглядывался к игрокам. Впрочем, у Мартынова играли не только в карты…
Господин Мартынов был коллекционером. Страстью его были всевозможные игры. Он досконально знал не только карты и бильярд, но и шахматы, шашки, кости. Игры Востока и игры Запада были ему известны – он скупал все, что попадалось ему – морские офицеры привозили из дальних походов причудливо разграфленные доски, пестрые камешки, странные фигурки – в коллекции господина Мартынова даже было несколько игр с неизвестными ему правилами. Мишель искренне восхитился таким разнообразием: Савва Михайлович начал демонстрировать ему перлы своей коллекции – и вскоре сумел увлечь своего гостя восточной игрой, где надо было бросать кости и двигать фишки. Игра представляла собой странную смесь случая и расчета – именно этим она привлекла Мишеля. Он достаточно быстро запомнил ее простые правила и на третий раз обыграл господина Мартынова – тот сдался, не дожидаясь конца игры. Проиграв, Савва Михайлович нисколько не огорчился и приказал подавать обед.
На следующий день господин Мартынов попытался увлечь Мишеля картами, легко тасуя новенькую колоду перед его равнодушными глазами, выстреливая карты из рук почти незаметным движением легких пальцев. Карты летали в его руках, кружились, шуршали и фыркали, как живые… Но Мишель не соблазнился на одно из главных искушений своего времени: дело тут было не только в отцовских предостережениях – он искренне не понимал, как можно убивать время за картами, когда есть книги, музыка и театр, где юнкерам – увы! было запрещено появляться. Впрочем, запрет можно было легко обойти, если переодеться в статское платье и притаиться где-нибудь наверху, подалее от чинных лож и шумного партера. Именно оттуда, с самого верху, Мишель впервые увидел самых знаменитых актеров и актрис петербургской сцены, услышал голоса, столь непохожие на обычные, иную музыку, другие слова – совсем не такие, как в обыденной жизни.
В жизни царили приличия – на сцене кипели страсти. Мишель завидовал актерам: он был обречен судьбою играть в жизни одну-единственную роль – им же было разрешено каждый вечер надевать на себя другое обличие, превращаться, хоть и временно – в иного человека, испытывать разные судьбы – а в награду получать аплодисменты публики. Когда зала начинала рукоплескать, Мишель был в ладоши так, что кожа лопалась на ладонях. После окончания спектакля он незаметно выскальзывал из театра и терпеливо ждал у выхода Мартынова и Машу – они появлялись не ранее, чем через полчаса, раскланиваясь со знакомыми, иногда задерживаясь для короткой дружеской беседы. Если карета Мартынова уже стояла у подъезда, Мишель залезал в нее и ждал там, осторожно выглядывая из окошка на театральный разъезд. Среди публики было много офицеров Кавалергардского полка, и Мишель отнюдь не желал, чтобы его увидели. То, что юнкера, переодевшись, пролезали тайком в театр, не для кого тайной не было – важно было только не попасть на глаза начальству. Сие было одним из неписанных, но неколебимых правил в жизни. Господин Мартынов также разделял сие мнение:
– Главное – не то, что вы делаете, а то, как вы выглядите в глазах других людей… Особливо тех, от кого зависит карьера ваша, – наставлял он Мишеля, пока карета поворачивала от театра на Невский, – Помните, что люди редко способны проникать глубоко в человеческое сердце: даже если вы раскроете им все ваши тайны, они того не заметят: поэтому и делать сего не надобно. Вы слишком неопытны и у вас есть один страшный недостаток от коего вам следует как можно скорее избавиться…
– Какой же?
– Вы говорите то, что думаете.
– А вы разве нет?
– Из того, что я думаю, – Мартынов улыбнулся, – я говорю только то, что считаю нужным. Вы же даже сего не умеете… Впрочем, вы не виноваты: у столичной жизни свои законы… Тут надобно на самом деле сто, а то и тысячу лиц иметь, чтобы успеха добиться…
– Как на театре?
– Какое! Театральная игра – ничто рядом со сценой жизни, друг мой. В ней иные законы: там никто не кричит и не воздевает рук к небу. Но зато сия игра увлекательна весьма… Похоже на шахматы. Играете в шахматы?
Мишель покраснел и буркнул: «Нет». Господин Мартынов иногда раздражал его своим покровительственным тоном.
– Я вас научу, – Мартынов ласково потрепал Мишеля по плечу, – сие весьма увлекательно.
– Благодарствую, Савва Михайлович, но мне шахматы без надобности… И наставления ваши – тоже… Я с вами играть не буду: мне папенька не велел…
Мартынов удивленно поднял брови: его лицо сразу стало похоже на маску. «Одно из ста лиц», – подумал Мишель. Глубоко вздохнул, задумался на секунду – стоит ли говорить господину Мартынову то, что лежало на сердце – и вдруг решился.
– Вы говорите, что человек перед разными людьми должен под разными личинами представляться, я же считаю, что сие – весьма обременительно. Ролю легко забыть можно: спутаться – конфуз выйдет, – Мартынов улыбнулся, – так не проще ли самим собой быть?
– Вы, мой друг, жизни не знаете, оттого и думаете так. Впрочем, вы вступаете в свет при обстоятельствах куда более благоприятных, чем мои… двадцать лет тому… – голос Мартынова стал печален, – Из сего я могу сделать токмо один вывод: вы ничего не добьетесь…
– Отчего же?! – обиженно воскликнул Мишель.
– Тех, кому жизнь улыбается на заре, ждет печальный закат… Увы, но сие закон жизни… Судьба справедлива: горе и радость в ней в равных долях смешаны: тот, кто с юности узнал лишения, в старости обретает покой и довольство…
– Не нужен мне ваш покой! – Мишель вскочил, дважды стукнул в стенку кареты, кучер послушно остановил лошадей, – все, прощайте!
– Вы собираетесь в штатском в полк явится? – кротко спросил Мартынов. – Ваш мундир у нас дома остался – забыли? Переоденетесь – тогда я велю вас на Шпалерную отвезти: а в таком виде я вас отпустить не могу: не горячитесь, я матушке вашей слово дал, что присмотрю за вами…
Мишель вздохнул тяжело. Замолчал. Украдкой посмотрел на Машу. Она, казалось, не слушала их разговор, смотрела в окно, думала о чем-то своем.
– Мари! – окликнул ее Мартынов, – а как ты думаешь: кто прав – я или твой кузен?
– Конечно ты, Саввушка, ты всегда прав выходишь, – Машенька ласково и рассеянно улыбнулась мужу, – а о чем вы спорили?
Мартынов рассмеялся тихим приличным смехом порядочного воспитанного человека, поцеловал руку молодой жены.
– Спасибо тебе, друг мой, ты наш спор разрешила… Вот видите, Мишель, женщины – самые лучшие судьи: они заранее знают, кто прав… Вы не обиделись на меня? Я сообщил вам несколько неприятных истин; но я сделал сие заботясь о вашем будущем. Вы еще слишком молоды, чтобы пренебрегать советами опытных людей, расположенных к вам…
– Чем же я заслужил расположение ваше? – Мишель на самом деле был обижен на Мартынова: ему казалось, что тот мог бы вести себя деликатнее.
– Вы кузен моей жены, сударь, вы вместе с ней выросли – мне дороги все, к кому расположена она, – Мартынов обернулся к Маше, – правильно, друг мой? Ты ведь обеспокоена судьбой кузена? Помнишь, мы давеча с тобой о нем говорили…
– Да, Саввушка, – тут же откликнулась Маша, – мы говорили, что ты, Миша, не слишком службой увлечен, что тебе она в тягость…
– Ничего подобного! – заспорил Мишель, – а впрочем… Ну да, не увлечен. Так ведь сие общий тон сейчас. Все говорят, что служба нынче стала скучной: одни парады и смотры. Вот если бы снова война …
– Войны, благодарение Богу, закончились, – сухо проговорил господин Мартынов, – наш государь утихомирил Европу. Долгий мир способствует процветанию: я уповаю на то, что в ближайшие десять лет такого бедствия не будет: хватит с нас Кавказа – его еще лет двести усмирять придется. Если хотите славу военную завоевать, да и в чинах побыстрее продвинуться – проситесь на Кавказ, Мишель.
– Саввушка! – укоряющее воскликнула Маша, – о чем ты? Опомнись? Зачем ему на Кавказ? Да он и сам не хочет!
Мартынов пристально взглянул на Мишеля:
– Не хотите?
– Не хочу.
– Почему?
Мишель не ответил.
– Так почему же?
Мишель пожал плечами.
– Не хочу – и все. Велика радость – в крепости сидеть, в окружении диких горцев. Там – их земля, не наша. Ежели двести лет усмирять надо – не проще ли отдать? Ваш Бонапарт любимый тоже чужой земли захотел – за то и получил по носу.
Мартынов в восторге хлопнул в ладоши.
– Браво! И давно вы в таких мыслях?
– Минуты две: с той поры, как вы про Кавказ сказали: я до этого о сем не думал даже.
– При себе такие мысли держите. Вас многие не поймут. О таких вещах говорить неприлично. А если вы хотите достигнуть чего-либо великого или хотя бы приятного в этой жизни, друг мой, помните, что приличное от неприличного отличается единственно тем, что о неприличном не говорят в обществе. Впрочем, в обществе о многом не говорят из страха или по незнанию… О неприличном же все знают – но все молчат. Советую и вам усвоить сие правило. Молчите – и вы не скажете ничего, что могло бы скомпрометировать вас, к тому же молчание вам к лицу, Мишель, – оно делает вас умнее, чем вы есть на самом деле. Не правда ли, Мари?
Машенька тихо засмеялась – она с детства считала своего «кузена» глуповатым, излишне восторженным и болтливым.
Господин Мартынов был афеем, но не высказывал свои взгляды открыто, только близким людям и при доверительной беседе.
– Истину, друг мой, не стоит выкладывать на прилавок, как залежалый товар. Она должна хранится в тайне, под замком, как всякое сокровище… То, что известно всем – не может быть истинно… Взгляните на меня: я богат, возможно, я богаче многих, но где я храню свои деньги? Неужели вы думаете, что я стану держать их дома и выкладывать на окно, дабы моим богатством мог полюбоваться любой прохожий? Ваши убеждения – те же сокровища: таите их от алчности толпы…









































