Текст книги "Мы и наши особенности"
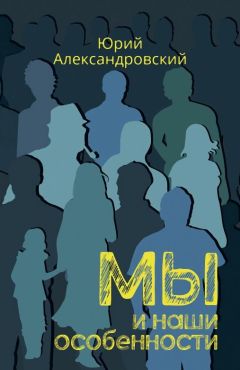
Автор книги: Юрий Александровский
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
В России – небывалый, ужасающий голод, он убивает десятки тысяч людей, убьет миллионы. Эта драма возбуждает сострадание даже у людей, относящихся враждебно к России, стране, где, по словам одной американки, «всегда холера или революция». Как относится к этой драме русский, сравнительно пока еще сытый, крестьянин?
– «Не плачут в Рязани о Псковском неурожае», – отвечает он на этот вопрос старинной пословицей.
– «Люди мрут – нам дороги трут», – сказал мне старик новгородец, а его сын, красавец, курсант военной школы, развил мысль отца так:
– Несчастье – большое, и народу вымрет – много. Но – кто вымрет? Слабые, трепанные жизнью; тем, кто жив останется, в пять раз легче будет.
Вот голос подлинного русского крестьянина, которому принадлежит будущее. Человек этого типа рассуждает спокойно и весьма цинично, он чувствует свою силу, свое значение.
– С мужиком – не совладаешь, – говорит он. – Мужик теперь понял: в чьей руке хлеб, в той и власть, и сила.
Это говорит крестьянин, который встретил политику национализации сокращением посевов как раз настолько, чтобы оставить городское население без хлеба и не дать власти ни зерна на вывоз за границу.
– Мужик как лес: его и жгут, и рубят, а он самосевом растет да растет, – говорил мне крестьянин, приехавший в сентябре из Воронежа в Москву за книгами по вопросам сельского хозяйства. – У нас не заметно, чтоб война убавила народу. А теперь вот, говорят, миллионы вымрут, – конечно, заметно станет. Ты считай хоть по две десятины на покойника – сколько освободится земли? То-то. Тогда мы такую работу покажем – весь свет ахнет. Мужик работать умеет, только дай ему – на чем. Он забастовок не устраивает, – этого земля не позволяет ему!
В общем, сытное и полусытное крестьянство относится к трагедии голода спокойно, как издревле привыкло относиться к стихийным бедствиям. А в будущее крестьянин смотрит все более уверенно, и в тоне, которым он начинает говорить, чувствуется человек, сознающий себя единственным и действительным хозяином русской земли.
Очень любопытную систему областного хозяйства развивал передо мной один рязанец:
– Нам, друг, больших фабрик не надо, от них только бунты и всякий разврат. Мы бы так устроились: сукновальню человек на сто рабочих, кожевню – тоже небольшую, и так все бы маленькие фабрики, да подальше одна от другой, чтобы рабочие-то не скоплялись в одном месте, и так бы, потихоньку, всю губернию обстроить небольшими заводиками, а другая губерния – тоже так. У каждой – все свое, никто ни в чем не нуждается. И рабочему сытно жить, и всем – спокойно. Рабочий – он жадный, ему все подай, что он видит, а мужик – малым доволен…
– Многие ли думают так? – спросил я.
– Думают некоторые, кто поумнее.
– Рабочих-то не любите?
– Зачем? Я только говорю, что беспокойный это народ, когда в большом скоплении он. Разбивать их надо на малые артели, там сотня, тут сотня…
А отношение крестьян к коммунистам – выражено, по моему мнению, всего искреннее и точнее в совете, данном односельчанами моему знакомому крестьянину, талантливому поэту:
– Ты, Иван, смотри, в коммуну не поступай, а то мы у тебя и отца и брата зарежем, да – кроме того – и соседей обоих тоже.
– Соседей-то за что?
– Дух ваш искоренять надо.
Какие же выводы делаю я?
Прежде всего: не следует принимать ненависть к подлости и глупости за недостаток дружеского внимания к человеку, хотя подлость и глупость не существуют вне человека. Я очертил – так, как я ее понимаю, – среду, в которой разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это – среда полудиких людей.
1.8. Жестокость революцииЖестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа.
Когда в «зверствах» обвиняют вождей революции – группу наиболее активной интеллигенции, – я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий, или – у людей честных – как добросовестное заблуждение.
Напомню, что всегда и всюду особенно злые, бесстыдные формы принимает ложь обиженных и побежденных. Из этого отнюдь не следует, что я считаю священной и неоспоримой правду победителей. Нет, я просто хочу сказать то, что хорошо знаю и что – в мягкой форме – можно выразить словами печальной, но истинной правды: какими бы идеями ни руководились люди, – в своей практической деятельности они все еще остаются зверями. И часто – бешеными, причем иногда бешенство объяснимо страхом. Обвинения в эгоистическом своекорыстии, честолюбии и бесчестности я считаю вообще не применимыми ни к одной из групп русской интеллигенции – неосновательность этих обвинений прекрасно знают все те, кто ими оперирует.
Не отрицаю, что политики наиболее грешные люди из всех окаянных грешников земли, но это потому, что характер деятельности неуклонно обязывает их руководствоваться иезуитским принципом «цель оправдывает средство».
Но люди искренно любящие и фанатики идеи нередко сознательно искажают душу свою ради блага других. Это особенно приложимо к большинству русской активной интеллигенции – она всегда подчиняла вопрос качества жизни интересам и потребностям количества первобытных людей.
Тех, кто взял на себя каторжную, геркулесову работу очистки авгиевых конюшен русской жизни, я не могу считать «мучителями народа», – с моей точки зрения, они – скорее жертвы.
Я говорю это, исходя из крепко сложившегося убеждения, что вся русская интеллигенция, мужественно пытавшаяся поднять на ноги тяжелый русский народ, лениво, нерадиво и бесталанно лежавший на своей земле, – вся интеллигенция является жертвой истории прозябания народа, который ухитрился жить изумительно нищенски на земле, сказочно богатой. Русский крестьянин, здравый смысл которого ныне пробужден революцией, мог бы сказать о своей интеллигенции: глупа, как солнце, работает так же бескорыстно.
Он, конечно, не скажет этого, ибо ему еще не ясно решающее значение интеллектуального труда.
Почти весь запас интеллектуальной энергии, накопленной Россией в XIX веке, израсходован революцией, растворился в крестьянской массе. Интеллигент, производитель духовного хлеба, рабочий, творец механизма городской культуры, постепенно и с быстротой, все возрастающей, поглощается крестьянством, и оно жадно впитывает все полезное ему, что создано за эти четыре года бешеной работы.
Теперь можно с уверенностью сказать, что, ценою гибели интеллигенции и рабочего класса, русское крестьянство ожило.
Да, это стоило мужику дорого, и он еще не все заплатил, трагедия не кончена. Но революция, совершенная ничтожной – количественно – группой интеллигенции, во главе нескольких тысяч воспитанных ею рабочих, эта революция стальным плугом взбороздила всю массу народа так глубоко, что крестьянство уже едва ли может возвратиться к старым, в прах и навсегда разбитым формам жизни; как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень – все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их заменит новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей.
На мой взгляд, это будет не очень «милый и симпатичный русский народ», но это будет – наконец – деловой народ, недоверчивый и равнодушный ко всему, что не имеет прямого отношения к его потребностям.
Он не скоро задумается над теорией Эйнштейна и научится понимать значение Шекспира или Леонардо да Винчи, но, вероятно, он даст денег на опыты Штейнаха и, несомненно, очень скоро усвоит значение электрификации, ценность ученого агронома, полезность трактора, необходимость иметь в каждом селе хорошего доктора и пользу шоссе.
У него разовьется хорошая историческая память и, памятуя свое недавнее мучительное прошлое, он – на первой поре строительства новой жизни – станет относиться довольно недоверчиво, если не прямо враждебно, к интеллигенту и рабочему, возбудителям различных беспорядков и мятежей.
И город, неугасимый костер требовательной, все исследующей мысли, источник раздражающих, не всегда понятных явлений и событий, не скоро заслужит справедливую оценку со стороны этого человека, не скоро будет понят им, как мастерская, где непрерывно вырабатываются новые идеи, машины, вещи, назначение которых – облегчить и украсить жизнь народа.
Вот схема моих размышлений и мыслей о русском народе.

Юлиан Семенович Семенов (Ляндерс, 1931–1993) – известный писатель и журналист, основатель журнала «Детектив и политика» и газеты «Совершенно секретно». Автор многих журналистских расследований, книг, пьес, сценариев. Широко использовал архивные материалы. «Смерть Петра» – образец документального литературно-художественного произведения.
Глава 2. Ю. С. Семенов. О русском характере на страницах повести Юлиана Семенова «Смерть Петра»
2.1. Из беседы Первого лорда Великобритании сэра Александра с шефом Адмиралтейства сэром Дэнизом…Первый лорд империи, как и всякий человек, вынесенный к вершине могущества, давно оторвался от всех этих вечерних лондонских застолий, споров, амуров, стычек, интриг; он жил одним лишь – наукой политики. Порой она виделась ему точной, как расчеты старого друга Ньютона, – главное заключается в сохранении устойчивого баланса разностей; в случае невозможности достичь этого – тщательный поиск «неизвестного», то есть повода к войне, необходимой для того, чтобы силою и мором восстановить нарушенный баланс интересов.
Ощущая постоянное, порою излишне шумное давление на кабинет его императорского величества со стороны финансистов, заморской администрации, Адмиралтейства, со стороны набиравших силы, а потому особенно деятельных мануфактурщиков, церкви с ее бесчисленной армией миссионеров, разбросанных по всему миру, – сэр Александр только в самом начале своей карьеры чувствовал из-за этого тревогу и неудобство; постепенно, с годами привыкнув к подъему по мраморным ступеням иерархической лестницы, он научился радоваться тому действу, которое каждодневно разыгрывалось в парламенте, палате лордов, во время аудиенций в Букингемском дворце; он ощущал острое чувство счастья и за себя и за империю, которая – после всех тревог кромвелевских времен, после тягот войны за испанское наследство – заставила Францию с Испанией подписать мир в Утрехте, присутствовала при заключении Раштадтского договора, горделиво включив в свои владения акадские земли по Гудзонову заливу в Северной Америке, отторгнув их от Франции; Мадрид же передал Лондону Гибралтар и Гвиану, Гамбию и остров Христофора, порт Магон и Минорку, да еще право ввоза рабов в испанские колонии. Ныне Англия набрала сил и готовилась к борьбе за доминирующее европейское лидерство.
Две могущественные державы – Швеция с ее огромным, трехмиллионным населением, с высокоразвитой металлургией, мобильной армией и высокой грамотностью, да восьмимиллионная Россия – заботили ныне Лондон особенно.
Россия виделась как бы сквозь сигарный дым: зыбка, непонятна, и хотя на картах, которые печатались в Лондоне, Ливерпуле и Глазго, территория, объятая империей Петра, была самой большой в Европе и подчас казалась первому лорду зверем, затаившимся перед броском, серьезный анализ ситуации в мире делал скифскую угрозу не столь страшной… Россия, по мнению первого лорда, стояла перед выбором – либо идти на устойчивое дружество с Западом, либо, наоборот, предпочесть политику союзничества с таинственным, диким и властным Востоком; третьего не дано.
– Дано третье, – чуть улыбнулся сэр Дэниз, – … ибо Россия, радением Петра перестав быть окраинным государством, сделалась фактором европейской истории, и могучим, увы, фактором. Это держава, сэр, непредсказуемых тактических решений при единой стратегической концепции.
– То есть?.. – Первый лорд подвинулся еще ближе к бело-синему огню в камине.
– Стратегическая, глубинная концепция очевидна – это поступательное движение к могуществу при дальнейшем сближении с нами. В данном случае я имею в виду не столько Остров, сколько запад Европы в целом.
– Но ведь Петр – и в этой своей концепции – наталкивается на сопротивление своего самого близкого окружения…
– Концепция дружества с Европой принадлежит не ему, а его отцу. Именно царь Алексей впервые в истории своей державы привез в Москву наш, европейский театр; начал выпускать, – правда, всего восемь экземпляров, да и то под секретом ото всех – первую русскую газету, назвав ее опять-таки не газетой, а «курантом»; он же начал обсуждать вопрос об учреждении школ по нашему, западному образцу…
– И при этом ссылал в каторгу своих просвещенных вельмож, – заметил первый лорд усмешливо, – за то лишь, что те читали книги, напечатанные не по-церковнославянски, а на польском языке. Что касается театра, то кому-кому, а вам, мой друг, наверняка известно, что, привезши из Европы труппу в Московию, отец Петра не рискнул самостоятельно разрешить представления, а обратился за разрешением к своему духовному надзирателю: «Можно ли глядеть лицедейство?» И лишь получивши ответ: «Да, можно, это не претит русскому духу и православной вере, ибо в Византии при дворе императора тоже случались увеселения, разыгрываемые лицедеями», посмотрел на подмостках сказку. Какая великолепная верность традициям, не правда ли? Вообще чем сильнее тяга к традициям древности в иных государствах, тем большая нам открывается перспектива утвердиться в лидерстве, поскольку обеспеченное будущее наших подданных важнее наивных мифов о былом величии англов, саксов и кельтов во время борьбы с легионами Цезаря!
– С этим можно спорить…
– Можно, но не нужно.
Сэр Дэниз понял, что первый лорд империи чрезвычайно серьезно подготовился к беседе, если знает все и о театре, и о сосланных боярах-просветителях, – этот вечерний вызов на Даунинг-стрит был, видимо, далеко не случаен и давно продуман.
Поэтому свою мысль – а сэр Дэниз был известен как сторонник англо-русского сближения – он продолжил осторожно, но тем не менее твердо:
– России слишком хорошо знаком ужас чужеземного ига, сэр, чтобы серьезно тяготеть к Востоку. Поверьте, ее тайная мечта, несмотря на оппозицию московских традиционалистов, – обручение с нами.
– Упаси нас бог от этого, особенно после брачного союза его дочери с герцогом Голштинским…
После долгой паузы сэр Дэниз задумчиво спросил:
– Вы полагаете более разумным повернуть Россию в объятия безбрежной Азии?
– А что вы называете Азией? – спросил первый лорд рассеянно.
– Скорее всего Поднебесную.
– А отчего не Турция?
Сэр Дэниз ответил сразу же – твердо:
– Оттого, что вера Магомета бескомпромиссна. Следовательно, сколько-нибудь прочный и долгий союз христианского православия с кораном невозможен.
– А кого вы прочите в гипотетические союзники России – если будущее измерять не годом и не десятилетием, но веком?
– Вы бы хотели получить ответ, который можно трактовать таким образом, что союзником России я хочу видеть не могучую Турцию, но Поднебесную империю?
– Но там же слепая вера в Будду, – улыбнулся первый лорд.
– Во-первых, Будда – не Мухаммед, он терпим и любопытен. Во-вторых, при дворе богдыхана множество католических миссионеров; их резиденции не только возвышаются в Бейпине, но и в Шанхае и Кантоне. И доминиканцы, и иезуиты – персона грата в Поднебесной империи; миссионеры даже Конфуция причислили к лику святых, наравне с Франциском Ассизским. Они – сила в Поднебесной империи…
– Тем более, – задумчиво произнес первый лорд. – Тем более, альянс России с Востоком, который рано или поздно вольется в лоно ватиканской церкви, пусть, увы, еще не протестантской, но Христовой, и станет, таким образом, цивилизованным регионом, – выгоден нам, ибо мужем сделается Азия, Санкт-Петербургу суждено быть супругой, а в этом – залог страдательности. Не станете же вы спорить против того, что у католичества еще есть шанс заключить мир с православием? И наконец, последнее. Кто вам сказал, что мы намерены допустить прочный союз «Россия – Восток», если не только вы – а я вижу ваше несогласие со мной, – но и другие эксперты почитают такого рода альянс опасным для Острова? Мы же смогли сделать так, что Турция ныне стала главной угрозой Петру на юге? Мы же смогли вызвать смуты в Иране, сделав его нестабильным, а поэтому особенно опасным для Петербурга? Мы можем многое и на севере, разве нет? Швеция и Дания – карты в нашей игре. А на западе? Чего стоит вопрос о польской короне? И Швеция, и Австрия, и Пруссия претендуют на это золото… Словом, мы имеем достаточно сил, чтобы заставить медведя жить в своей берлоге безвылазно.
– Ну а если медведь все-таки выйдет из берлоги, сэр? – спросил шеф Адмиралтейства. – Угроза скифского вторжения в Европу в таком случае станет вопросом не веков, но десятилетий.
– Петербургские консерваторы клянут знания, – задумчиво произнес первый лорд. – Наука для них – бранное слово; маленькое тело нашего фрегата мужественно противостоит стихии океана, оттого что оно – дитя дерзкого разума; сотни слуг короны его императорского величества будут властвовать над миллионами чужеземцев, ибо мы являем собою знания, они – слепую массу. Мир вступил в эру философии и ремесла, мы идем по этому пути, мы не намерены сворачивать; я ведь прав, когда говорю, что в Петербурге наличествует весьма могущественная оппозиция знанию и технике, не так ли?
– Русский государь столь широко развернул свои реформы, что я не удивлюсь, если в России наука, несмотря на определенное противодействие Петру, сделает неожиданный для нас рывок в качестве и количестве.
– Я жду более определенного ответа. Мне приятна ваша симпатия к России, но, как я мог понять из донесений представителей при дворе Петра, в северной столице очень многие не поддерживают новации государя. Я бы считал разумным помочь тому, чтобы консервативная сила, стоящая в оппозиции императору, сделалась доминирующей в России. Для того чтобы мои консерваторы могли надежно править Островом, надо сделать так, чтобы русские консерваторы провели законы о запрещении строительства новых городов, мануфактур, бирж; надобно бы подсказать им мысль об эмбарго, как это было раньше, на все и всяческие общения российских подданных с коварным, отвратительным, низким, гниющим Западом, – так, кажется, старорусская партия называет нас в кулуарах?
– Да, – согласился сэр Дэниз, – такого рода определение можно услышать в Москве, вы правы, и не только в кулуарах, а вполне открыто.
– Я весьма тщательно изучил возможность ставки и на российских прогрессистов, на тех, с кем Петр сделался одной из крупнейших фигур нынешнего века. Люди эти сами по себе интересны и талантливы, слов нет, но ведь они случайны: многие из них – немцы, голландцы, англичане. Петр, будучи баловнем судьбы, выиграл их на шальной номерок в театральном гардеробе. За ними нет истории. А Россия – страна традиций; достоинства человека там, сколько я слышал, исчисляются – так же, впрочем, как и у нас в палате лордов, – древностью рода, слепой послушностью власти, желанием сохранить в недвижности мгновенье, полагая, что в этом именно и сокрыт путь к бессмертию. Если бы у нас не было капитанов дальнего флота, губернаторов заморских территорий, фабрикантов и биржевиков, наша палата лордов легко превратила бы Остров в факторию Сингапура; именно так: не Сингапур – наша фактория, а мы бы сделались факторией Сингапура… Поверьте, тот, кто вознесся вместе с Петром, уйдет вместе с ним в героическую сагу. Но ведь саги лишены материальной силы; в плане политического баланса они – суть память, а память делается взрывоопасной лишь по прошествии века, после того как политический поворот стал фактом истории…
…Первый лорд резко поднялся, подошел к столу, достал из шкатулки листочки бумаги, исписанные мелким, убористым почерком, вернулся к камину и начал лениво перечислять:
– До Петра в России не было могучего металлургического дела, – железо он привозил из Швеции. Сейчас не только в Туле, но и на Урале его люди поставили мощные железоделательные заводы… До Петра в России не было виноградарства; он начал культивировать под Астраханью, а затем стал производить вина на Дону – как мне донесли, не хуже, чем на севере Португалии. До Петра леса в России – то есть чистое золото – вырубались произвольно, а он приказал описать каждое дерево империи на сорок миль от берегов больших рек: за самовольную порубку ввел смертную казнь – акт высшего понимания цены общегосударственного богатства. До Петра в России практически не было общеобразовательных школ, он их учредил, несмотря на яростное сопротивление, – первый лорд впервые заглянул в свои листочки. – Оппозиция сформулировала свое негативное отношение к образованию весьма любопытно: «Не нами положено, не нам менять, лежи оно так до века!» До Петра в России не было колледжей. При нем – с помощью и наших навигаторов – открылись. Впрочем, вводя образование в ранг государственной политики, русский император отказался от римско-католического просвещения и обратился к нам, к голландцам и немцам за помощью в становлении прикладных лишь наук; ватиканских гуманитариев к себе не пускает; и тем не менее этого человека консервативная оппозиция называет антихристом, запродавшимся немецкой партии. А ведь за один лишь указ Петра – собирать в епархиях русские жалованные грамоты и летописи с передачей всего этого государственного богатства на вечное хранение в синод – нация обязана при жизни ставить ему памятники, ибо никто еще из политиков за всю историю мировой цивилизации – до Петра, я имею в виду, – не придавал государственного значения истории как науке будущего… До Петра в России не было суконных мануфактур, не было культурного овцеводства, не было, наконец, губерний, то есть категории жесткой общенациональной государственности, не было налога с каждой живой души в имперскую казну. Если Петр продолжит свои реформы, величию Острова будет нанесен урон; Россия может стать первой державой Европы. Я серьезно опасаюсь напора этого гениального, сумасбродного, расчетливого русского варвара…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































