Текст книги "Двое в декабре"
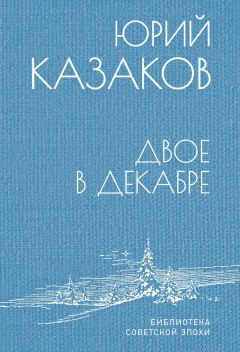
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
2
В Озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал.
Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу завести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, только крякнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени.
В доме было не убрано, грязно, пахло топленым молоком и кислой капустой. На столе стояла швейная машинка, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приемнику висели носки. Хозяина дома не было. Жена его Марья, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая.
– Здорово! – хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. – Где Данилыч-то?
– На что тебе? – так же хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья.
– Дело, значит, есть.
– В поле он, чуть свет поехал.
– Домой-то скоро будет?
– Говорил, к завтраку, а там не знаю…
– Погожу тогда! – решительно сказал Василий и тяжело сел на лавку лицом к печи.
Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курят в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум.
Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что лучше заранее раздобыться хорошими досками. Барана придется резать, а то и двух на поминки, родни припрет, пожрать любят…
Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава богу, соберется, можно будет в городе какой домишко присмотреть.
Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия.
– Зачем пришел-то? – спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу.
Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые слегка навыкате нагловатые глаза.
– Жена у меня дуже болеет, – наконец сказал он. – Насчет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и потом, значит, по своим делам.
– Сколько ей годов-то, Акулине? – без интереса спросила Марья.
– Годов-то? – Василий минуту подумал. – А вот считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка помене.
– А! – только сказала хозяйка.
Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю, и мерный ровный стрекот наполнил избу.
Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть… Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в Моховатку, – мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.
Скоро Василий забылся под стрекот машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошел хозяин.
Был он крупного роста, с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно.
Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка уводил вдоль забора высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом. Тот разъезжался ногами и задирал голову.
– Ну как? – громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за ухват.
Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смолчав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек, сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги.
Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марью, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, гладкая!»
– Ну, как там у вас? – спросил председатель. – Сено возите?
– Возим, – торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. – Возим, но навряд скоро управимся… Дожди не ко времю пошли, дуже сыро. Да и народу мало, по домам сидят.
– Чем у вас там бригадир думает? – поморщился председатель. – Сколько раз говорено было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!
Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке.
– Скоро, что ль, там? – спросил председатель у жены.
– Сейчас поспеет, – невнятно сказала Марья.
Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас – опохмелиться бы и лечь поспать.
– Букатинские поля смотрели, – сказал председатель и оживился, – с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про девок-то наших.
Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил.
– Ну! – притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. – Они напишут! Такое ихнее дело – писать…
– Задымили, – хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла во двор.
– Ты зачем ко мне? Дело какое? – спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.
Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.
– Жена у меня дуже болеет, – начал он. – Хочу я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч…
– Лошадь? – Председатель покряхтел, поскреб голову. – А что, в медпункт не ходила она?
– Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.
– Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтобы дали. С утра и поедешь.
– А я ть тоже здоровьем плох стал чегой-то… – опять начал Василий, делая грустное лицо. – Да ты зашел бы когда ко мне, а? – перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела насухую не делаются. – Брага у меня есть, дочка посылку из города прислала – сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена намедни заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, восемь пудов потянул поросенок… Зашел бы!
– Зайти можно, – сказал председатель, улыбаясь.
– А я, Данилыч, – подхватил обрадованный Василий, – решил совсем, значит, с колхозом распроститься.
– То есть это как же – распроститься? – Председатель перестал улыбаться.
– А вот так, – сказал Василий, набираясь решимости и поводя глазами. – Вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишут, зовут… Чего мне здесь! Потом же, давно я собирался… Старый председатель отпускал меня, спроси хоть кого хошь! Пущай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что?
– Как что! – Председатель оглядел Василия, будто впервые видел. – Ты что, или забыл, об чем на правлении говорили?
– А чего мне правление…
– Погоди, не чегокай! Работы нету! Вот осенью новый телятник будем ставить – это тебе что? Потом клуб перестроить, это тебе не работа? А парники закладывать – не работа?
– Эго верно, только пущай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я покуда свои права знаю.
– Знаешь? А что в колхозе людей не хватает – знаешь?
– Это меня не касаемо. Это вы глядите, чтоб у вас никто не бег из колхозу. От хорошего не побегишь! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить – и то негде.
– Живешь бедно, да? – Председатель хищно согнулся, начал желтеть лицом. – На колхозных работах убился?
– Ты на меня не сипи! – сказал Василий и сдвинул брови. – Не плотничай! Ты фост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь.
– Так… Люди работай, люди борись, а ты в город?
– У меня вон жена помирает. – У Василия зазвенело в голове, перехватило дух. – В город ее надо везть? Это как?
– Лошадь мы тебе дадим, – председатель встал.
– Не пустишь, значит? – спросил Василий, тоже вставая.
– Деньгами разбогател, видно?
– Денег у меня черт на печку не вскинет, – серьезно подтвердил Василий.
– Известно! – Председатель громко задышал. – Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим.
– Телятник? А этого не хоть? – Василий сделал непристойный жест.
Председатель отвернулся к окну.
– Кончен у нас с тобой разговор. Катись! Постановления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. Вызовем на правление, там поговорим!
– Ладно. – Василий нахлобучил шапку. – Ладно, мать твою… Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!
Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле плетня кур.
– Поговорили, растуды твою… – бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. – Ясно, без пол-литра какой разговор!
И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без пол-литра.
3
На другой день, с утра выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана – в городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял.
Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.
– Чуешь, значит? – бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь.
– Ну, молись Богу! – сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну.
Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.
По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством принюхивавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся в стенку.
Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кисет и стал скручивать папироску кровяными пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана.
Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки.
Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия на ногах.
Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сжевал, пачкая губы и подбородок кровью.
На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия, с тоской и любовью глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда, свой дом и деревню.
Немного погодя со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок.
Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка.
Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху и теперь выглядел помолодевшим и веселым.
– Вася! – сказала Акулина. – Глянь-ка, красота какая… Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит…
Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханными клипами, речку, потемневшие от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.
Потом он отвязал и взнуздал лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы; поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях.
Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями.
Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильней и острей, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.
Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась – охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги.
Василий же все понукал лошадь. Красное лицо его было напряженно-ожидающим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан.
Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос.
И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство.
1960
Запах хлеба
1
Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси – семидесятилетней старухи в далекой деревне.
«Вот не вовремя!» – с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.
– Выпей! – сказал он. – Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо… Все там будем. Ты как – поедешь?
Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.
– Не знаю, – сказала она минуту спустя.
Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.
– Ну ладно… Что делать? Что ж будешь делать! – Больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. – Царство небесное, все там будем!
Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.
Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери были чужое, напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.
Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:
– Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина… Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!
2
Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.
Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.
– Поезжай! – сказал муж. – Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.
И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.
Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.
В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.
Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.
Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.
Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину – поросенка, трех ярочек, козу и кур – взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.
Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.
Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.
В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темно-коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, нестоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.
Оставшись одна, Дуся открыла сундук – запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.
3
Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.
Главное, был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей – двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.
Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.
Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что казалось, стояла позади солнца.
Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.
Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками – братские могилы…
Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево – среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.
– Вон бабушкина… – сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.
Дуся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался.
– У-у-у, – низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. – Матушка моя бесценная… Матушка моя родная, ненаглядная… У-у-у… Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?
– Тетя Дуся… тетя Дуся, – хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.
Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятевшая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.
Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами – жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать – еле дошла – и мгновенно уснула.
На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства.
Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише десять рублей. А через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи и стали в нем жить новые люди.
1961
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































