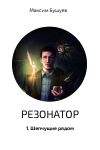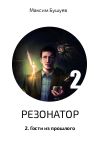Текст книги "Над островом чёрный закат"

Автор книги: Юрий Колонтаевский
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
5
Владетель, престарелый господин исступленных и прочих обитателей Земли, смирился с тем, что уже миновал предел отмеренной ему жизни, что с некоторых пор он мешкает в ускользающе тонком пространстве между осязаемым бытием и безвестным миром, который все решительнее предъявляет на него свои права и куда вскоре предстоит короткий, как падение, путь – не отвертишься, не избегнешь.
Приближение скорбного часа подтверждали боли, накатывающие приливами. В такие минуты его охватывало отвращение ко всему на свете и, прежде всего, к суетливым безгласным теням, что без смысла мечутся рядом и беззастенчиво именуют себя врачами.
Конец неотвратим, возвращался он к назойливым мыслям. Стыдно молить богов о лишнем сладком глотке воздуха – сверх отпущенной нормы.
Конечно, естественный уход предпочтительней, продолжал он размышлять основательно, как привык. Когда-то на Земле так уходили все. Никто никуда не спешил. Но на такой конец земного существования он едва ли смеет рассчитывать, ведь тогда придется нарушить провозглашенный им самим принцип разумной конечности пребывания каждого смертного в дарованной жизни. В подтверждение этой мысли он упрямо повторял самому себе точную формулировку Закона: «Каждый исступленный должен быть готов в любое мгновенье добровольно покинуть светлый мир. Исключения недопустимы». Даже для него.
Предстоял нелегкий выбор. Согласиться на операцию – добровольно принять мучения, выжить. Туман рассеется, но надолго ли? Альтернатива проще и уж во всяком случае достойнее – уйти без долгих мучений, решительно закрыв за собою дверь.
Новые поколения лишены свободы выбора. Уходят, едва возникнет потребность общества. Исключение – старики. Родились раньше, не попали в Систему, теперь дотлевают в редеющей очереди к естественному концу. Увиливают от судьбы, отчаянно превозмогая немощи, напрягают врачей… До чего же унизительно цепляться за жизнь, так не похожую на жизнь, – унылое, зябкое существование. Он ни за что не позволит себе пристроиться в эту убогую очередь.
И все же он не спешил уходить. Опасался, что придется бросить на произвол судьбы множество незавершенных дел, неосуществленных затей, неразрешенных споров. Но главное, что последнее время невыносимо давило, придется отдать самого себя на суд тех, кто придет на смену и кто по обычаю предков не устоит и состряпает разбирательство, жестокое и бессовестное, осознав вдруг, что ответить на обвинения он уже не сможет.
В далекой юности ему повезло, он нашел в себе силы удержаться от бунта, когда приближенный робот, с которым он коротал время дежурства за игрой в шахматы, предупредил о большой чистке, назначенной на ближайший день отдыха. Робот посоветовал также, рационально подведя итог: если он думает уцелеть, нужно немедленно уносить ноги.
Он удержался от соблазна, не последовал совету железного друга, а осторожно постановил для себя: не бежать нужно – некуда, всюду достанут. Проще облегчить страдания дряхлого старца своими силами – помочь, пока у него свободный доступ к еле живому телу… Эта мысль, к счастью, не ставши делом, занозой застряла в памяти и теперь продолжает смущать, лишая покоя…
К счастью, все случилось само собой: несколько дней спустя старик мирно затих – не проснулся после дневного сна, а он, самый близкий к господину слуга, превысив полномочия, смело распорядился готовиться к торжественному погребению…
В назначенное утро народ в великом множестве набился в главный храм столицы. Собрались, чтобы по обычаю проститься с прахом Владетеля, отошедшего в вечность. Сплотились тесно, едва дыша.
На полированной столешнице каменного ритуального стола покоились искусно размалеванные останки господина, увернутые в государственный флаг. Рослые гвардейцы в оранжевых парадных мундирах, безоружные по случаю траура, упирались из последних сил, удерживая вокруг стола свободное пространство для господ, собравшихся выступать с последними поминальными словами.
Когда отзвучали речи и прощание приближалось к концу, а люди начали расходиться, взрывной громогласный вопль обрушил торжественную тишину огромного храма. Следом пролился яростью сумбурный поток слов, из которых можно было понять, что ненавистный прах не достоин лежать в родной земле, место ему на городской свалке…
Кричал юноша. Его неистовство было неподдельным и страшным.
Чудовищная хула взорвала толпу. Десяток молодых людей, в мгновенье утративших человеческий облик, смяли гвардейцев и устремились к столу – одновременно, со всех сторон. Стальными крючьями, скрытно внесенными в храм под одеждой, шалея от смелости и мешая друг другу, они стащили смердящую плоть на камни пола и под дикие вопли беснующейся толпы проволокли через весь город до свалки жалкий труп почившего господина, которому только что отдавали царские почести. И бросили там – на потребу шакалам.
В те смутные весны этих мерзких тварей расплодилось великое множество…
Тогда ему повезло – удалось избежать пути низости и предательства.
Едва отошли скандальные похороны, как осиротевшие господа, вершащие дела на Острове, впали в прежде неведомое уныние. Всем стало ясно, что наступило время, когда каждый их шаг определять некому. Дальше предстояло жить своим умом.
Первой срочной затеей, не терпящей отлагательства, стали выборы преемника.
Однако этот процесс оказался слишком мудреным. Угнетенные жесткими порядками завершившегося правления, лишенные собственной воли сенаторы, сбросив оковы, вконец растерялись. Они то ссорились, то мирились, но найти преемника не получалось.
Сложность выбора состояла в том, что любой кандидат обязательно относился к одному из двух противоборствующих кланов. Его избрание немедленно приводило к нарушению равновесия, чего все, кто определял выбор, по горькому опыту панически опасались.
Между тем время поджимало – по доносам надзирающих за порядком улица изготовилась поднять хвост.
Тогда кто-то отчаянный предложил послать за ним, ставя ему в заслугу как серьезное достоинство непричастность к межклановым разборкам. Только такой человек, твердил он на всех углах, беспристрастный и независимый, способен уравновесить противоречия. Удивительно, но с доводами смельчака согласились некоторые сенаторы, через них спорная идея проникла в Сенат.
Вскоре к нему зачастили ходоки от кланов. Вежливо выслушав господ, он не стал спешить с согласием, заявив, что распинаться перед посредниками не намерен. Свое упрямое нежелание идти навстречу он объяснил тем, что эти люди действуют слишком бесцеремонно, излагая обязательные условия для его избрания. Они опрометчиво отвели ему роль существа зависимого, начисто лишенного амбиций, единственным назначением которого отныне и навсегда должно было стать бездумное соблюдение только их интересов.
В конце концов, не дав ни тем, ни другим никаких обещаний, он переговоры прервал, втолковав ходокам, что впредь говорить будет только с господами, облеченными правом принимать решения.
Ходоки быстро сообразили, с кем имеют дело, и доложили кому следует. В результате Сенат согласился его избрать без каких-либо предварительных условий.
Вскоре состоялись выборы – буднично и поспешно.
Вступив в должность, он, не теряя времени, решительно отодвинул всех тех, кто опрометчиво полагал, что его все же удалось закрючить. И только довершив этот первый шаг к новому порядку, с молодым усердием взялся за государственные проблемы.
В мальчишеском азарте от удивительных превратностей судьбы он все же не устоял и позволил себе дурной поступок – потревожил покой почившего господина, поведав в узком кругу о заветной затее его последних дней – готовящихся репрессиях. Не удержался от глумления, которого от него никто не ждал и не требовал. Этот свой грех, не покаявшись тогда же, он упрятал в дальние закоулки памяти и извлекал на свет лишь в редкие минуты слабости и обнажавшихся укоров совести. Те же, кто присутствовал при этом досадном событии, вскоре по его тайному повелению отправились в мир иной, не успев разнести весть о неловком предательстве молодого господина.
Обосновавшись на вершине и осознав, каково там быть одному, он обнаружил, что всякая власть, едва осуществившись, невольно и естественно устремляется к бесконечности. То есть к такому владению людьми, их настоящим и будущим, их свободой и несвободой, их душами и рассудком, которое позволяет повелевать не ради дела или идеи, а единственно ради того, чтобы повелевать. Жажда власти, как оказалось, владела им испокон и, когда он обрел ее, обратилась в страсть, которую он больше не считал нужным скрывать.
Он скоро понял, что сладкая мечта о свободе для всех и во всем не более чем юношеский максимализм, от которого следует избавиться, – лучше одним усилием. Потому, едва приступив к исполнению своих обещаний о справедливости и демократии, он сначала осторожно, шаг за шагом, затем с нарастающей скоростью скатился к самому устойчивому состоянию – единовластию.
Одновременно, завершая первый этап погружения во власть, он решительно убедил соратников, что демократия слишком концентрированный продукт для непосредственного употребления. Что она нуждается в предварительном размягчении для последующего придания ей строгой и совершенной формы.
По существу, он пренебрег надеждами окружающих на демократические преобразования, сначала искусно приправив их тоталитарными скрепами, отчасти превратив в прямую противоположность, а затем просто забыл об их существовании.
В результате последовал неожиданный эффект: жизнь стала проще, устойчивее, стало меньше туманных рассуждений и болтовни и больше прямого, бездушного, но полезного действия.
Следом он провозгласил, на первый взгляд, странную, но, как оказалось позже, рациональную идею сосредоточенного развития, исключающую малейшие отвлечения на пустяки. Стоило в сознании любого исполнителя связать исходную точку пути и вожделенную цель не извилистой кривой, которая содержала как обязательные составляющие случайность и произвол, удлинявшие путь и время, а красивой безукоризненной прямой, малейшие искривления которой на досадных препятствиях исключались принципиально, как немедленно проявлялся порядок, а жизнь приобретала простой и ясный смысл. И, как ни противодействовали недоброжелатели, в результате внедрения этой идеи в сознание каждого гражданина стало легко и просто управлять огромным механизмом государства.
Время спустя, окончательно осмелев, он объяснил самому себе причину собственного превращения: каждый властитель совершенно естественно стремится к тому, чтобы общество было единым и однородным. Его не должен смущать немедленно возникающий вопрос: а возможно ли такое общество, если оно состоит не из роботов с одинаковым программным обеспечением, а из живых людей? Ведь известно, что в природе не может быть ни однонаправленного усилия множества разнородных сил, ни единого восприятия окружающего мира, как не может быть единых для всех мышления, любви, страдания, счастья…
Постепенно он обрел уверенность в том, что люди в подавляющем большинстве незатейливы, терпеливы, трусоваты – уж такова их природа. Но проходит время, и немыслимое давление, обрекающее поколение за поколением на беспросветное скудное существование, становится невыносимым, а лукавые разговоры о том, что нужно еще потерпеть, что скоро, очень скоро жизнь наладится и все будут счастливы, перестают восприниматься измученным человеческим стадом в качестве руководства к действию, превращаясь в издевательство над здравым смыслом.
И здесь после длительных рассуждений нашелся выход: достаточно проявить настойчивость и время от времени внушать суетливому человечеству, что о нем думают и заботятся, на самом же деле даже не помышляя о такой глупости, как оно добровольно соглашается с отступлениями от первоначального замысла о вожделенной счастливой жизни. Не успеешь оглянуться, и стадо начинает привыкать к тому, что всеобщее счастье не более чем красивый миф, недостижимый принципиально, и что смягчить это грустное открытие можно лишь искренним согласием на самоограничение. С этого момента, он заметил сразу же, начинается преобразование разрозненной толпы в сплоченное государство, способное предоставить своим гражданам более или менее достойное существование.
Теперь, когда его жизнь подошла к концу, он отчетливо сознавал всю жестокую сущность своего правления, пробовал оправдаться тем, что старался – изо всех сил. Не всегда получалось – обстоятельства оказывались сильнее.
В конце концов он превратился в человека, подтолкнуть которого в бездну не откажется большинство из живущих рядом.
Он уйдет, это решено. Навсегда избавит народ от страха. Простит современников, испросит у них прощения. От души пожелает им вечного беззаботного счастья.
Он знает, что будет дальше. Долгожданная воля, о которой втайне мечтают подданные, как доносят услужливые соглядатаи, ненадолго вернется и осенит Землю… А следом, продолжал он думать печально, проявится новое время, и всех нескладных людишек придавит еще больший гнет.
Так бывало всегда и так, к сожалению, будет вечно…
6
Адам очнулся, открыл глаза. И тотчас ожил будильник – ежеутренний сигнал постоянно включенной трансляции. Вкрадчиво зашелестел, набирая громкость, все более концентрируя ее в отчетливых секундных ударах. Наконец прорвало – будильник окончательно пришел в себя и суматошно запричитал. Адам потянулся рукой и отключил прибор.
За окном светало, там моросил дождь – капли монотонно били по звонкому подоконнику. Вставать не хотелось.
Как часто, особенно нестерпимо в последние годы, мечталось однажды нарушить порядок, пренебречь неумолимым сигналом, по которому каждое утро поднимался огромный университет, остаться в постели, день напролет предаваясь лени. Но всякий раз, стоило крамольной мысли коснуться сознания, он решительно подавлял ее, и она послушно тонула в памяти, чтобы всплывать вновь и вновь, как только явятся грустные мысли и придет пора бороться с ними.
Сегодня необычный день, думал Адам. Он уже не студент, он взрослый самостоятельный человек. Бесконечно долго он шел к этому дню, много и напряженно думал о нем, представлял себя в этом дне. И вот этот день настал и не принес ничего особенного – обычный дождливый денек, рядовой день жизни.
Комната, предоставленная ему в одном из домов низшего ученого сословия, была вещественным подтверждением его нового положения. Она оказалась просторной и не шла ни в какое сравнение с тесной клетушкой в студенческом общежитии, бывшей его пристанищем на протяжении нескончаемых десяти весен. Как он в ней помещался, было загадкой, учитывая, что за время учебы его габариты по всем измерениям увеличились по меньшей мере вдвое, а вес и того больше – почти вшестеро.
Там кроме него хватало места только для узкой твердой лежанки, навешенной на стену, столешницы, консольно закрепленной напротив, на которой располагался терминал объединенной вычислительной сети, клавиатура ввода и плоский монитор, из экономии пространства утопленный в неглубокой нише стены. Расстояние между лежанкой и столешницей было настолько малым, что, только подняв лежанку и зафиксировав на стене в разболтанных шарнирах, можно было протиснуться на складной стул без спинки, прятавшийся до того под лежанкой.
Передняя стена его новой комнаты полностью стеклянная. Рабочий столик терминала у окна, широкая плоская кровать в глубине, не такая жесткая, как в общежитии, встроенный вертикальный шкаф с зеркальной дверцей от пола до потолка. В шкафу стандартный комплект одежды, сшитой по его меркам. Рядом едва различимая дверца в душ и туалет – вот и все, что досталось ему для выполнения первой самостоятельной работы.
Он все еще не решил, чем будет заниматься ближайшие три весны. Именно такой промежуток времени выделялся выпускникам на выполнение обязательного этапа взрослой жизни – обретение низшей степени доктора. Только теперь он начинал понимать с сожалением, что слишком разбрасывался во время учебы. Брался за одно, загоревшись, остывал, переключался на другое, далекое, не связанное с первым увлечением, не замечал, как возникало и захватывало третье… И скоро понимал, что все уже настолько основательно выполнено предшественниками, что какое-либо продолжение или развитие выглядит тупым пережевыванием однажды съеденной пищи. Тогда он бросал освоенный массив знаний и приступал к поискам новой цели. Он был слишком широк. Недаром куратор во время их регулярных бесед с глазу на глаз упрекал его в избыточном многообразии интересов при недостаточной глубине и основательности постижения. Его всегда выручала природная сообразительность, но она же вела его самыми простыми путями.
Он знал, что в ближайшие дни заставит себя сделать выбор. Будет работать, не отвлекаясь, и завершит задание в срок. Представит диссертацию ученому совету университета, получит одобрение, и следом произойдет самое ожидаемое событие в жизни – его переселят в один из освободившихся коттеджей поселка докторов. У него будет не только собственное пространство, в котором он заживет один, но за домом, что особенно привлекало, будет крохотный клочок настоящей земли – его личный дворик, отгороженный от соседних подобных дворов невысоким аккуратным забором из листов непрозрачного стекла зеленого цвета. А на открытой веранде под широким навесом, продолжающим дом в направлении дворика, будет ждать удобное кресло-качалка с пружинящими спинкой и сиденьем, в котором он будет покачиваться по вечерам, размышляя о жизни, пока не стемнеет и не придет время отходить ко сну.
Именно такой дом и дворик и даже старенькое кресло-качалку ему доводилось видеть в доме куратора, куда он время от времени приглашался в гости по выходным.
Он принимал приглашения как награду за отличную учебу и исполнение обязанностей монитора учебной группы и поначалу отчаянно гордился тем, что его выделяют среди сверстников. Однако скоро понял, что он всего-навсего здоров в отличие от остальных студентов, страдающих тяжкой болезнью, о которой никогда не говорили прямо, но которая постоянно подразумевалась.
Он наблюдал, как к концу недели некоторые студенты изменялись, будто из них выпускали воздух. Обострялись, светлели лица, гасли глаза, движения становились вялыми и неловкими. В полудреме бродили они по аудиториям или сидели парами на скамейках – тесно, по-птичьи – и о чем-то шептались – общались, в бессилии приникнув головами друг к другу.
После первых же грозных симптомов группу усаживали в транспорт. Ослабевших, болезнь которых зашла слишком далеко, санитары вели под руки или несли на носилках. Их увозили в Дальнюю лабораторию, где кровь, отказавшуюся переносить кислород, частично заменяли живой донорской кровью. Недостаток же восполняли искусственной жидкостью, все еще несовершенной, несмотря на бесчисленные весны, затраченные на основательные исследования.
Они возвращались утром, спустя два дня. Загоревшие, как после отдыха на море, с виду совершенно здоровые. Приступали к учебе с охотой изголодавшихся, быстро наверстывали отставание… Обычно после мучительной и опасной процедуры они нормально жили неделю, реже две, и все повторялось в раз и навсегда установившейся последовательности.
Он жалел несчастных ребят, не решался звать их в свою здоровую жизнь, а они не жаловали его в своей – больной, ненадежной. Потому-то в его отношениях со сверстниками не было ни тепла, ни даже простого понимания. Поначалу изоляция тяготила Адама, но постепенно он научился терпеть одиночество.
И все же возникла первая ниточка, связавшая его с окружающим миром, – в его одинокую жизнь вошел Герд, студент медицинского факультета.
Поначалу Адам встретил его неприветливо, не умея совладать с собственным отчуждением и активным встречным движением Герда, но понемногу смягчился – его словно прорвало, он понял, что давно мечтает встретить такого друга.
Он сразу же почувствовал, что Герду можно довериться, не опасаясь за последствия. При всей своей общительности Герд не мог быть стукачом, к тому же Адам только подозревал о существовании провокаторов в студенческой среде, но никогда не встречался с ними. Правда, и крамольных мыслей он не высказывал да и не знал толком, какие мысли следует считать крамольными. Он также смутно представлял себе наказания, которые полагаются за крамольные мысли.
Первое время знакомства Герд сам заговаривал с Адамом, когда они оказывались в обеденный перерыв за одним столом. А однажды присел рядом на стадионе во время контактной игры в мяч. Играли команды инженерного и медицинского факультетов – извечные соперники на поле. Герд с такой яростью болел за своих и так радовался победе противников, что Адам счел нужным спросить его об этой странности, ведь принято было болеть за свою команду, радоваться ее победам и печалиться из-за проигрыша. Герд спокойно ответил, что не страдает патриотизмом такого рода и что совсем не обязательно брать сторону сильного и успешного. Разумеется, в спорте, подчеркнул он тогда и, помолчав, объяснил серьезно: он мыслит себя свободным человеком, а свободному человеку свойственна, прежде всего, независимость суждений.
Герд тоже был нездоров, его кровь была больна и нуждалась в периодической замене. Но в отличие от остальных ребят, даже испытывая недомогание, он был неизменно открыт и весел.
Когда увозили сверстников и вместе с ними Герда, наступали пустые времена. В эти дни Адам особенно страдал от своего здоровья и избытка сил, которые некуда было растрачивать. Он бросался в учебу как в избавление, одолевая программы отдельных предметов и даже старших курсов.
Как-то в один из печальных дней одиночества он из любопытства забрел в заброшенное лабораторное здание на задворках университетского городка. Преодолев пустой коридор, он отворил единственную дверь в полутемном его конце и вошел в едва освещенный зал – старую химическую лабораторию, заполненную обшарпанными столами и стеллажами.
В дальнем углу, у окна, за старинным столом, заставленным приборами и разнокалиберной стеклянной посудой, порожней или заполненной разноцветными жидкостями, сидел, склонившись над микроскопом, старик. Заслышав шаги, он поднял навстречу сухое изможденное лицо, внимательно оглядел вошедшего и, ничего не сказав, вернулся к своему занятию.
Спустя минуту он оторвался от микроскопа и тихо произнес, кивком указав на стул, стоявший напротив:
– Садись, дружок. Признаюсь, я ждал тебя, да ты все не шел и не шел. – Он уставился на Адама живыми внимательными глазами. – Не удивляйся, ведь я знаю тебя с пеленок. И твоего деда Гора знаю. Когда-то мы были дружны, я частенько бывал в его доме. – Он замолчал, отдышался. – Ты был мал тогда – шустрый, подвижный мальчик. Все норовил забраться ко мне на колени, требовал покачать. Не помнишь… Меня зовут Антон. Должен предупредить, что общаться со мной опасно для тех, кто решается на контакт.
– Теперь у деда, кроме меня, никто не бывает, – сказал Адам. – Я спрашивал почему, он молчит.
– Мне тоже ограничили круг общения и запретили выходить за пределы университета, – сказал Антон. – Пошла двенадцатая весна, как это случилось. Ты, конечно, хочешь знать, чем объясняют запреты. – Он помолчал. – Дело в том, дружок, что власти считают меня опасным для окружающих. Страшное обвинение в наши дни. Особенно когда нет возможности оправдаться. Но не будем о грустном. Лучше расскажи, как поживает старина Гор. Кстати, он ведь тоже признан опасным. Правда, его наказали иначе – запретили бывать в городе. А еще нам велели помалкивать во избежание более строгого наказания.
– Интересно, кому могла прийти в голову такая чепуха?
– Очень важному человеку. – Антон понизил голос до шепота и, привстав, приблизил лицо к Адаму. – Ты этого человека хорошо знаешь. Впрочем, мы все его знаем. Немудрено – портреты на каждом шагу. Результаты его забот в каждом сердце. Слышал эту истину? Еще говорят, что он вездесущ и… вечен. Теперь узнаешь? – Старик откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. – Но… лучше не думать об этом… Пожалуйста, расскажи мне, во-первых, как ты живешь, – заговорил он, очнувшись. – Во-вторых, здорова ли твоя кровь, в-третьих, почему ты решился прийти сюда, ко мне. Ты не боишься?
– Нет, не боюсь.
– Тогда, что ж, приступай, я тебя слушаю.
– Живу я скучно, у меня нет друзей среди сверстников. Один Герд, но он старше и к тому же учится на медицинском факультете. Кровь у меня здоровая, в Дальнюю лабораторию меня не возят. Болтаюсь без дела, когда все уезжают. Поехал бы к деду на это время – не отпускают. Сюда пришел из любопытства, никогда здесь не бывал. К тому же дверь была не заперта. Это, пожалуй, все.
– Ты знаешь, чем я занимаюсь?
– Нет, не знаю.
– А хочешь узнать?
– Хочу.
– Тогда слушай. Оказалось, что болезнь крови, о которой так много и суматошно говорят и спорят в ученой среде, не главная проблема исступленных, она лишь внешнее следствие, оболочка иной, сложной и неочевидной, проблемы – генетической. Основательно поврежденный геном исступленных – вот настоящее следствие Катастрофы. Оно проявлялось всегда, но долго не привлекало общественного внимания. Следовательно, не было определяющим до тех времен, пока не произошли кардинальные перемены в обществе людей. Эти перемены выразились в разделении уцелевших этносов на цивилизованные и отсталые, якобы задержавшиеся в развитии. Возникла ступенька между общинами, преодолевать которую запрещалось принципиально. Как следствие, оборвались перекрестные связи, прежде позволявшие продолжать человеческий род естественным способом. Одновременно возникла и победила теория размножения через кювету. Это привело к тому, что не самое страшное следствие генетического дефекта, прежде проявлявшееся довольно редко, о чем свидетельствует статистика, превратилось буквально в рок, довлеющий над жизнями множества людей. Долгие весны с этим несчастьем кое-как справлялись. Конечно, потери были, но не они определяли жизнь. Со временем процесс приобрел катастрофические свойства. Теперь здоровые дети рождаются крайне редко – как исключение. Сорок весен мне пришлось потратить, чтобы приблизиться к возможности полного излечения страшной болезни.
– И вам это удалось? – не удержался Адам.
– Удалось, – сказал Антон. – Я исходил из того, что больному организму нужен ремонт, причем начинать его желательно с самого рождения. Не замена крови, это не имеет смысла – спустя небольшое время болезнь возвращается. Механизм ремонта теоретически несложен, сложно осуществление. Представь себе, что перед тобой ветхое здание, построенное из кирпичей. В давние времена здания строили именно так: определенным образом складывали отдельные пассивные элементы из обожженной глины, скрепляя клеящим раствором. В результате получалась прочная однородная конструкция. Но шло время, и здание разрушалось – отдельные кирпичи рассыпались в пыль или вываливались. Что было делать?
– Разрушить здание, а на его месте возвести новое.
– Согласен. Иногда экономически выгодно поступить именно так. А если здание дорого как память?
– Тогда отреставрировать, – неуверенно предложил Адам.
– Верно. Удалить слабые или утраченные кирпичи и на их место поместить новые. Это возможно, если в запасе имеются эти самые кирпичи. А если их нет?
– Заменить современными материалами, наверное.
– Этот вариант не годится – будет утрачена подлинность. Поступают иначе. Разбирают те части здания, которые не несут нагрузки и не влияют на внешний вид. Добывают кирпичи там и решают задачу. Именно так поступил я. Создал условия, при которых дефектные элементы генома исключаются и заменяются точно такими же резервными, которых в геноме по неустановленной причине великое множество. Операция, конечно, намного сложнее и рискованней, чем я рассказываю, но не следует ли попытаться довести ее до совершенства?
– Еще бы, конечно, следует, – оживился Адам.
– Однако не спеши с выводами. Как только удастся одолеть болезнь, возникнет неожиданный вопрос: а нужны ли нашему государству все те люди, которых я вылечу? То есть выяснилось, что я, творя из больных и чахлых людей здоровых и сильных, нарушаю некий тайный замысел. Исследуя эти проблемы, я сделал вывод: лечить следует не кровь, даже не генетику, лечить нужно общество, которое толком не знает или, что более вероятно, не желает знать своих ближайших перспектив. Пятьдесят весен назад кровь обновляли не чаще, чем раз в полгода, а человек, сумевший дожить до тридцати весен, обычно выздоравливал сам. Сегодня кровь обновляют, как правило, раз в две недели. Случаи полного выздоровления настолько редки, что по ним не ведут статистический учет. Уверен, это положение кого-то очень устраивает. Сначала мне вежливо намекнули, что мои исследования нужно свернуть – они бесполезны. А недавно прямо запретили заниматься этой проблемой. Разрушили отлаженную лабораторию, сотрудников, которым нет цены, рассовали по другим подразделениям, заставили заниматься чем попало и помалкивать. Меня, как видишь, бросили одного – доживать. Сегодня я готов заявить, что проблема практически решена. В доказательство я вылечил трех безнадежно больных, от которых отвернулись врачи. Эти люди больше не нуждаются в помощи Дальней лаборатории. Но когда я представил их ученому собранию, мне заявили, что мои методы напрасны – общество не созрело для их широкого применения.
– Это как же понимать?
– Очень просто, юноша. Человек, здоровье которого опустилось ниже определенного уровня, никому не нужен. Он становится обузой, лишним едоком, потребителем благ. От такого человека проще избавиться, чем лечить.
– Но вы говорите, что вылечили этих троих.
– Вылечил. А зачем? Ведь меня никто не просил.
– Теперь я понимаю, почему некоторые ребята исчезают, не закончив университет. Они что же, закрывают за собой дверь? Так это называется? Это похоже на прореживание…
– Ты думаешь верно.
– Получается, что вы можете вылечить, а вам не позволяют?
– Ну да.
Старик замолчал, а когда заговорил вновь, в его голосе была такая обида, такая горечь пропитывала каждое его слово, что Адам сжался от волнения и страха.
– Сегодня я могу вылечить почти всех живущих и наверняка тех, кто еще только родится. Но… должны быть приняты мои условия.
– Условия?
– Да, условия. Первое. Должна быть проявлена добрая воля властей на широкий эксперимент. Второе. Нужно немедленно вернуться к смешанным бракам. Давно известно, что они дают здоровое потомство. Ты наверняка не знаешь, что твой дед Гор родился от брака исступленного и плебейки. Наконец, третье. Следует отменить экстракорпоральное оплодотворение и вызревание плода в кювете. Разрешать только в исключительных случаях – по медицинским показаниям. Если женщина действительно не в состоянии выносить плод…