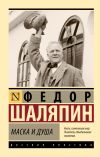Читать книгу "Неизвестный Бунин"
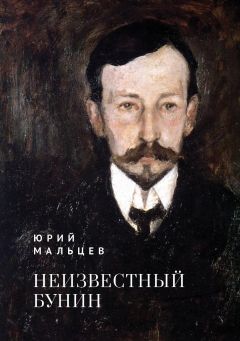
Автор книги: Юрий Мальцев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Образную речь отмечает Бунин и у отца своего и прибавляет, что он «мог стать писателем: так сильно и тонко чувствовал он художественную прозу, так художественно всегда всё рассказывал и таким богатым и образным языком говорил»37.
Вернемся к цитируемой Буниным фразе из «Гербовника дворянских родов» и отметим в ней еще один интересный момент: род Буниных происходит от Симеона Бунковского, выехавшего из Польши. Советский исследователь Ю. Гончаров утверждает38, что все предки Бунина были русскими и что среди русского дворянства было принято выдумывать себе иноземных предков для придания роду большей именитости. Независимо от того верно или не верно это утверждение Гончарова, фактом остается то (и это интереснее всего), что Бунину, как и его предкам, льстила иноземность происхождения. Его жена В. Н. Муромцева звала его на польский манер «Яном», и ему это очень нравилось39. Не редкость было услышать от него фразу вроде этой: «Слава Богу, что во мне не чистая русская кровь»40. Бунин принадлежал к довольно распространенному среди русских людей «чаадаевскому» типу, одержимому страстной любовью-ненавистью к России. Любовь у этого типа людей чаще всего целомудренно скрывается, а ненависть афишируется. Бунин ненавидел «азиатчину» в русской жизни41. При этом надо помнить, что он делал различие между Азией и Востоком. «Восток» – это чарующие страны древней культуры и мифа, прародина человечества, доисторический Рай, «Азия» – безликая плоская равнина, сонное существование в тупой неподвижности и бесформенности, вне памяти («гроб беспамятства»), вне прошлого, жестокость, грубость, тяжеловесность. Русская бескрайняя и монотонная равнина с редкими деревянными избами, которые подчас несколько раз на жизни одного поколения сжирал пожар, не оставляя ни следа, ни памяти о прошлом, вызывала в Бунине тоску.
После Чаадаева никто в нашей литературе не давал такой сокрушительной критики России, русского национального характера, «русской души», русской истории, как Бунин. Но рядом с этим мы находим у него незабываемые картины России, проникнутые несравненной поэзией, щемящей грустью и любовью. Известная русская борьба западничества и славянофильства проходила в самой раздвоенной (или лучше скажем противоречивой) душе Бунина. Сам он, лишь отчасти сознавал собственную противоречивость, объяснял ее, как и сложность натуры Толстого, разнородной наследственностью своих совершенно не похожих друг на друга родителей. В. Н. Муромцева-Бунина, воспринявшая от мужа его «теорию»42 прапамяти и наследственности, тоже пишет в своей книге о Бунине: «С очень раннего возраста обнаружились в мальчике две противоположные стороны натуры: подвижность, веселость, художественное восприятие жизни <…> и грусть задумчивость, сильная впечатлительность <…>. И эта двойственность, с годами изменяясь, до самой смерти оставалась в нем <…>. Эта двойственность зависела от резко противоположных характеров родителей»43.
От отца Бунин унаследовал художественную и физическую (телесную) одаренность: он обладал, «звериной» остротой чувств – зрением, обонянием, слухом: «видел все семь звезд в плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги» (М. VI. 92) и «отличал запах росистого лопуха от запаха сырой травы» (М. VI. 120). Он был и чисто пластически высоко одарен: был отличным наездником, на дружеских вечеринках танцевал «соло», повергая друзей в изумление, на итальянском пароходе он однажды так ловко сымитировал тарантеллу, что привел итальянцев в восторг. У него была богатая мимика и вообще незаурядный актерский талант. Станиславский звал его в Художественный Театр и предлагал ему роль Гамлета. Б. Зайцев отмечает «обаяние в его облике, фигуре, движениях, манере говорить, неповторимой одаренности», и говорит, что Бунин – это «особое существо, даровитейшее в каждом слове, движении <…>, какой-то человек-стихия»44.
От отца же Бунин унаследовал «живой и образный ум», ненависть к логике, порывистость, непрактичность, вспыльчивость, рыцарскую гордость, прямоту и правдивость45, любовь к крепким словечкам46. Эти качества выродились у бунинского отца в пороки и стали причиной его несчастий – им овладела страсть к вину, к картам, к клубу, и то незначительное наследство, которое ему досталось от родителей, он вконец потратил, ввергнув семейство в черную нищету. У Ивана же Бунина из этих же качеств проистекала категоричность суждений (часто нелепая), презрение к общепринятому, смелость и упорство в высказывании своих мнений часто наперекор всем, редкая принципиальность и страстность суждений, иногда противоречиво-нелогичных, но всегда последовательных по сути.
От матери же Иван Бунин, согласно его теории, унаследовал склонность к грусти, к печали, впечатлительность, задумчивость, религиозно-поэтическую экстатичность. Мать происходила из старинного рода князей Чубаровых, лишенных княжеского титула Петром Великим за участие в мятеже царевны Софьи. В отличие от отца, который сбежал из первого класса Орловской гимназии (как сбежит потом и Иван Бунин), мать Ивана получила более тонкое образование. Она обожала стихи Пушкина, Жуковского и др., читала их наизусть, поэзия была частью ее повседневной жизни, а сами поэты – людьми из ее среды, так что Бунин в детстве даже смешивал ее (звали ее Людмилой Александровной) с пушкинской Людмилой47.
Растущая бедность, запои мужа, смерть детей (из девяти ее детей пятеро умерло в раннем возрасте, что приоткрывает нам атмосферу жизни мелкопоместного дворянства того времени, мало чем отличавшейся от жизни крестьянской, где дети гибли так же часто и нелепо) – беды эти еще более усилили меланхоличность матери. Муромцева отмечает, что Людмила Александровна никогда не улыбалась48, в 1884 году она (после ареста сына Юлия) дала обет Богу никогда не вкушать мяса, наложила на себя и другие посты и держала их до самой смерти (1910). Бунин никогда и ни с кем, даже со своей женой, не говорил о матери, настолько интимным и глубоким было его чувство к ней. Об отце же вспоминал часто и охотно, с неизменной любовью. Уже в эмиграции, в 1924 году, в дневниковой записи от 1 (14) июля, он замечает, что очень часто из года в год видит во сне родителей и всегда живыми. О том же читаем в его путевой поэме «Воды многие»: «А в рубке были, кроме рулевого, отец и мать, давно, как я хорошо понимал, умершие, но живые все-таки, я никогда не вижу их во сне мертвыми и никогда не дивлюсь во сне, видя их живыми» (выделено Буниным. – Ю. М.)49.
Этот налет мистики (или, скажем лучше, тайны, ибо слово «мистика» обрело в наши дни негативный смысл) показывает, что любовь к родителям у Бунина есть чувство гораздо более сложное, чем обычная сыновья нежность. Оно коренится в глубинах его мироощущения. «…Чувство связи, – а не может быть связи без почитания, – чувство единства с родившими тебя, с жизнью отцов твоих, расширяет твою собственную, личную, краткую жизнь, возвышая их, воздавая сыновнюю дань своим отцам, утруждненным жизненным бременем, таинством Бытия и любовью к тебе, ты возвышаешь самого себя, то есть существо во всем подобное им: ты их порождение, их плод; чти же древо, давшее плод, если притязаешь быть и сам достойным почитания, ибо не может быть плода доброго с недоброго древа; единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши, – стремись же ощущать это единство и благоговей: в нем твое бессмертие (долгота дней) и самоутверждение»50.
II. Состав души
«Я родился 10 октября 1870 г. <…> У деда была земля в Орловской губернии (в Елецком уезде), в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу <…>. Наследство осталось от него не Бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А крымская кампания, в которой он участвовал «охотником», как тогда выражались, и переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни <…>. Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставили отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился в своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло всё мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной», – пишет Бунин в своей автобиографии (Пг. VI. 321).
Этот вынужденный возврат в деревню, удачно совместившись с заложенной в мальчике природной склонностью, способствовал развитию у Бунина того качества, которое можно было бы определить как упоение красотой природы и которое в такой интенсивной степени мы обнаруживаем в русской
литературе лишь у Фета и Пастернака. И только у Тютчева находим такое же торжественно иератическое изображение природы, переходящее в мистерию. «Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром. Я мучился, не умея этого выразить словами. Я выходил утром страстно взволнованный и шел в лес, как идут на любовное свидание», – передает слова Бунина Ирина Одоевцева51. Еще совсем маленьким мальчиком он будил свою сестренку Машу, и они с ней вылезали тайком через окно в сад, чтобы встретить на гумне восход солнца. Впоследствии Бунин любил щегольнуть своим знанием природы. «Которое нынче число? Если бы я даже не знал какое, я бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля – так хорошо знаю я все мельчайшие особенности воздуха, солнца всякой поры года <…>. Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе ржаным копнам!»52 Он часто высмеивал других писателей, даже прославленных (Надсона, М. Горького и пр.), за ошибки и некомпетентность в описаниях природы. Можно сказать, что с Буниным в нашу литературу в этой области (как и в некоторых других) пришел профессионализм. Позднее дружба с художниками научит его привлекать в помощь природной остроте глаза профессиональные приемы новой живописи. «Во времена Гёте и Байрона в лунном свете видели только серебристый оттенок, теперь этих оттенков бесконечное множество», – скажет он впоследствии53. И Корней Чуковский в своей статье, написанной для журнала «Нива» в 1914 году точно отметит: «Его степной, деревенский глаз так хваток, остер и зорок, что мы все перед ним – как слепцы. Знали ли мы до него, что белые лошади под луною зеленые, а глаза у них фиолетовые, а дым – сиреневый, а чернозем – синий, а жнивья – лимонные? Там, где мы видим только синюю или красную краску, он видит десятки полутонов и оттенков…»54
Но было бы большой ошибкой считать Бунина просто великим пейзажистом в нашей литературе. Красота природы для него есть лишь одно из самых ярких проявлений тайны мира. «Нет никакой отдельной от нас природы, – не устанет он повторять, – каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни»55. Жизнь человека протекает в едином великом потоке жизни мировой, загадка ее и смысл (если таковой имеется) неуловимы и неразрешимы в отрыве от общей загадки. К решению ее (или скорее к смутному угадыванию ее сути) можно приблизиться именно при созерцании природы, при вчувствовании в нее и при синхронном настрое на ее ритмы. Именно при созерцании природы Бунину начинало казаться, что он проникает в тайну бытия, и именно в эти минуты он испытывал религиозный экстаз и мог бы повторить вслед за Толстым: «Боже! напутствуй мне <…> для достижения вечной и великой, неведомой, но сознаваемой мной цели бытия»56. Это сознавание (а не понимание) происходит также и от чувства вечной неподвижности и неизменности в своих основах мира, созерцаемого, следовательно, не в бесконечно сменяющих друг друга всё новых и новых проявлениях, а в некой меняющейся неподвижности. По точному замечанию О. Сливицкой: «Бунинский взгляд на сущее – это взгляд ”с позиций вечности", и ему открывается картина бурлящей поверхности внутренне неподвижного мира, подчиненного своим неизменным законам»57.
Природа у Бунина никогда не пейзаж, а скорее главное действующее лицо.
Такое ощущение природы свойственно Бунину с детства. Уже в его детстве можно видеть многие из тех черт, которые впоследствии, развившись, станут основными элементами, из коих складывается состав души Бунина или, если прибегнуть к нравившемуся писателю гоголевскому выражению, его «жизненный состав». Так в детстве при любовании природой к чувству радости и упоенности примешивалось неизменно томящее чувство тоски. «Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему…»58. Эта томящая красота мира говорила о какой-то его скрытой трансцендентной глубине («о той сокровенной душе, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее»59). Само чувство тоски свидетельствовало о трансцендентной природе человеческой души, которая никогда не может удовлетвориться данностью в этом мире, которая томима «зовом пространства и бегом времени»60 и которая всегда сознает неосуществимость идеала, внутренне знаемого душой. «Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, „что Бог дал“ – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше»61.
Тайна бытия и связанная с нею трагичная антиномичность жизни вызывают у мальчика одновременно «сладкие и горестные чувства», заставляют испытывать печаль в радости, а в самые экстатические минусы тот «горестный восторг»62, который будет вдохновлять его лучшие творения. Радость жизни для Бунина – не блаженное и безмятежное эпикурейское состояние, а чувство экстатическое, напряженное, трагичное, окрашенное тоской и тревогой.
И уже в детстве входят в его жизнь две великих, или даже величайших для него тайны этого мира: смерть и любовь. Сначала лишь как смутно различимые элементы мировой стихии. Страх смерти (первая близко коснувшаяся его смерть – смерть маленькой сестренки Саши) как изнанка упоенности жизнью. Чем сильнее чувство жизни, тем сильнее и страх смерти. «Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)»63. Под этим знаком прожил жизнь Бунин.
Точно так же уже в детстве его глубоко поражала женская красота и возникали проблески «самого непонятного из всех человеческих чувств»64. Но с особой силой и уже осознанно эти два чувства войдут в него в юности, неожиданно и бурно, со смертью близкого человека и с первой любовью и даже сольются с начальными творческими попытками, так что позднее он скажет в одном из своих стихотворений:
И первый стих, и первая любовь
Пришли ко мне с могилой и весною.
(М. VIII. 18)
Смерть, любовь и преображающая сила искусства, подводящего обыденность к вечности и придающего существованию смысл, займут навсегда центральное место в душевном и духовном мире Бунина и в его творчестве.
Но наиболее странным, пожалуй, представляется то, что еще в детские годы он познал столь сложное чувство как одиночество – одиночество не в смысле отсутствия кого-то рядом, а одиночество, так сказать, онтологическое, экзистенциальное, одиночество как неизбежное, непреодолимое и неустранимое ни при каких условиях состояние человеческой души. Это мучившее его ощущение полного одиночества в мире Бунин передает в удивительном сюрреалистическом описании сна (которое он убрал, к сожалению, из поздней редакции своего автобиографического романа): «Вот когда-то на пороге детства преследовало меня одно сновидение: с несказанной безнадежностью, с ужасной болезненной подлинностью видел я безграничное, сверху и снизу, и во все стороны пустое пространство, и в нем, где-то вдали, вправо от меня, круг еще краснеющего, предзакатного солнца, которое, как я знал, никогда не могло зайти, и я видел вместе с этим самого себя; один, совершенно один во всей этой довременной пустоте, в незакатном, мертвом блеске этого солнца я должен был крепко держать во рту каменную рыбу»65. Это
чувство одиночества будет сопровождать его всю жизнь, иногда усиливаясь, иногда ослабевая, но никогда не исчезая совсем.
Не менее значительно и то, что уже в детстве он задумывается о Боге. «Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченых ризах в спальне матери)»66. То была смерть маленькой сестренки Саши, первая смерть, которую он увидел вблизи и воочию. Потом до самых последних своих дней он будет страшиться и избегать зрелища смерти, он не поедет ни на похороны отца, ни на похороны матери и не увидит ее мертвой (согласно предсмертной просьбе самой матери, знавшей, как это действует на него.) Он даже никогда не был на ее могиле. Впоследствии всегда будут стараться скрыть от него известия о смерти родных (например, о смерти брата Юлия). После смерти сестренки, говорит он «моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно – в тайную мольбу к Нему, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире». Он стал жадно читать жития святых, выстаивая целые часы на коленях в молитве в «скорбной радости», связал себе из веревок власяницу, пил только воду, ел только черный хлеб, мечтал стать иноком, мучеником, святым. Целая зима прошла в этих «восторженно-горьких мечтах»67.
Здесь начинаются сложные и противоречивые отношения Бунина с христианством, видоизменявшиеся много раз в течение его жизни, хотя в своей глубокой сути остававшиеся неизменными. Только этой сложностью и можно объяснить тот факт, что два христианских критика, посвятившие свои работы Бунину, пришли к прямо противоположным выводам: для К. Зайцева68 Бунин почти что страстно верующий, а для И. Ильина69 – мрачный безбожник.
На самом деле он никогда не был ни тем, ни другим. Христианство всегда привлекало Бунина своей обрядовой вещественной стороной, красотой и древностью – материализованной поэзией и воплощенной традицией. Он всю жизнь возил с собой, никогда с ней не расставался, семейную древнюю иконку в почерневшем серебряном окладе – «святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство…»70 Вообще древние семейные иконы вызывали в нем «что-то обнадеживающее, покорное непреложному и бесконечному течению земных дней»71. Ощущение прочности и неизменности в изменчивой и ненадежной жизни. Церковные службы всегда очаровывали его. И уже мальчиком в церкви он думает, что если даже правда Бога нет, «все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего витязя, благоверного князя Александра Невского…»72. Впоследствии он не раз будет повторять, что сама по себе вера есть одно из прекраснейших чувств и одна из ценнейших реальностей. В прекрасном стихотворении «В дачном кресле, ночью, на балконе…» (1918 г.) он скажет:
Есть ли Тот, кто должной мерой мерит
Наши знанья, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит – да.
То, что есть в тебе, ведь существует.
(М. VIII. 7)
В тяжелые моменты жизни (особенно в последний период) ему случалось заходить в церковь и страстно молиться. Евангельские и библейские образы неизменно присутствуют в его творчестве, хотя часто носят характер аллегорий.
Но при всем этом Бунин никогда не мог до конца принять Символ Веры, догматов воскресения и личного бессмертия, идею живого и личного Бога. Томимый постоянно ужасом смерти он, как и Толстой, бросался за спасением к Евангелию и, как Толстой, наталкивался на неприемлемое. Но если Толстой упорно стремился рационализировать веру, отбросив всю мистику и тайну откровения, старался вывести чуть ли не в виде логической формулы смысл жизни и упрямо думал, что феномен смерти может быть понят и рационально оправдан и преодолен, стоит отделить страх как глупую эмоцию и логически устранить бессмыслицу, – Бунин чувствовал тщетность попыток понять непостижимое и останавливался в растерянности и отчаянии перед тайной. (И тут, как и во всем, ему был чужд рационализму в символистах, при всем их декларативном антирационализме, его более всего отталкивала претензия на знание того, чего человек вообще знать не может; рассуждения о Софии, о мифотворчестве вызывали у него лишь усмешку.)
В молодости буйство молодых сил и жажда жизни часто смягчали это его отчаяние (или даже устраняли его). Его философия в такие периоды сводилась к довольно поверхностному прагматизму: зачем нужен смысл жизни, когда есть инстинкт жизни и радость, или к рассуждениям вроде того, что «грусть – это лишь потребность радости» (М. IV. 541). Или – к легкомысленной юношеской вере в то, что какой-то смысл должен быть во всем и что он потом, со временем, уяснится и ему. Убаюканный дремотой солнечного полдня жизни, он утешал себя, что смысл всего «ведом одному Богу, Которого я не понимаю, но в Которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым»73.
В зрелые годы, «восторгом жизни потрясен» (М. I. 464), он питает смутное убеждение, что «Бог это всё прекрасное в мире и душе», он почти молитвенно восхищается «божественной» красотой природы, пантеистически наделяя ее душой и мудростью. Но пантеизм, как заметил в свое время Вольтер, это лишь вежливый способ устранения Бога.
В старости он выработал себе нечто вроде собственной религии, в которой Богом было человеческое «Я», вернее, то, что в нем проявляется, то есть некая высшая мыслящая субстанция, странным образом обнаруживающаяся в каждом из нас. «…Чувство какой-то "бесконечности", с которой жил всю жизнь… чувство того, что я весь век называл Богом и своим "я", в котором несомненно Он – кто же иной, что же иное – то, живущее, само себя сознающее…»74. (Эта убежденность в трансцендентности и даже безличности нашего «я» одна из причин отказа Бунина от «реалистического» психологизма.) И одновременно с этим крепло в нем сознание, что жизнь бесконечно страшна, и это делало приближение к смерти кошмарным.
Путанице в оценке религиозности и православности Бунина способствовала и та противоречивость, которая царила в представлениях самого Бунина о христианстве. Христианство рисовалось ему то исполненным пантеистической «радости бытия», «братской близости ко всему живому», «участия в красоте и гармонии светозарного космоса» (он даже доходит до утверждения, что «египетский пантеизм столь близок пантеизму христианства», Пг. IV. 152), то полным презрения к жизни, «отвращения от нее, от ее жестокости, грубости, животности»75. Особенно мрачным представляется писателю именно русский, православный вариант христианства. «Говорят о нашей светлой радостной религии… ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия, – вспоминает его слова Г. Кузнецова, – вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги… А стояние по восемь часов, а ночные службы… Нет, не говорите мне о „светлой“ милосердной нашей религии…»76.
Он то питает отвращение к прошлому православия и его истокам, к «христианам варварски-пышной, содомски-развратной и люто-жестокой в убийствах и вероломстве Византии» (Пг. IV. 121), к прошлому христианства вообще, к кровавым крестовым походам, радуется тому, что «над великими поповскими распрями восторжествовала грозная простота и дикая мощь Ислама» (Пг. IV. 154), увлекается буддизмом и исламом и утверждает, что «Востоку принадлежит будущее» (Пг. IV. 127), уходя от христианства в глубь времен к «зодиакальному свету первобытной веры» (Пг. IV. 163), то, напротив, с умилением любуется всей церковной православностью (и старательно изгоняет из поздних изданий все вышеприводившиеся фразы)77.
Как бы то ни было, ему всегда было чуждо характерное для христианской мысли положение о пропасти, разделяющей человека и природу. Поэтому и не принимал он вытекающие из этого философско-эстетические построения Вл. Соловьева об изначальном безобразии неодухотворенной природы, о безобразии малосодержательных форм слепого животного и растительного мира, и о воплощении идеального начала красоты лишь в высших органичных формах, то есть в человеке78. Для Бунина верно скорее противоположное: красота естественной и первозданной природы и уродство отпавшего от нее и деградировавшего (выродившегося) человека. Как чужда, впрочем, ему и установка гегельянцев (долго господствовавшая в русской культуре), по мнению которых красота – лишь призрак и иллюзия полноты; для развитого сознания нет прекрасного, а есть лишь истинное. А отсюда – всего один шаг до утилитаризма шестидесятников.
Переход от детства к отрочеству и юности Бунин воспринимает как переход от райского (первобытного) состояния к тяготам, беспокойству и разочарованиям взрослой жизни. Завершилось детство приобщением к миру книг. Когда Бунину было семь лет, в имении их появился странный человек – гувернер Н. О. Ромашков, сын богатого помещика, человек начитанный и знавший несколько языков, недурно игравший на скрипке и рисовавший акварелью. Он никак не мог найти своего места в жизни и жил неприкаянным одиноким скитальцем. Это был первый встреченный Буниным в жизни образчик той загадочной русской души, исследованию которой Бунин впоследствии посвятит столько усилий, это был человек «не просто несчастный, а создавший свое несчастье своей собственной волей и переносивший его даже как бы с наслаждением»79.
Н. О. Ромашков (увы, исчезшая из современного жизненного уклада фигура домашнего учителя) сыграл в жизни мальчика Бунина огромную роль, помог выявлению и развитию способностей подростка как впрочем и вся усадебная жизнь и уклад. С последним русским дворянским писателем Буниным ушло и последнее «детство» из нашей литературы. Бунин последним воспел его; и картины детства такой яркости, красоты и поэтичности мы находим до него лишь у Аксакова и Толстого…
Ромашков выучил мальчика читать (по «Одиссее» и «Дон Кихоту»), научил его рисовать и дал почувствовать «истинно-божественный смысл и значение земных и небесных красок»80. Ромашков был также прекрасным рассказчиком. «Вероятно, его увлекательные рассказы в зимние вечера, когда метели буквально до верхушек заносили вишенник нашего сада на горе, и то, что первыми моими книгами для чтения были „Английские поэты“ (изд. Гербеля) и „Одиссея“ Гомера, пробудили во мне страсть к стихотворству, плодом чего явилось несколько младенческих виршей…» – вспоминал Бунин81.
Рассказывал Ромашков воспитаннику, не считаясь с его возрастом, и всё пережитое и выстраданное им в жизни, невольно предвосхитив тот метод воспитания, который пробивает себе дорогу только сегодня и который столь великолепно описан Томасом Манном в «Докторе Фаустусе»: «Самый активный, самый горделивый и наиболее действенный способ познания – предвосхищение знания, рвущееся вперед через зияющие пустоты незнания <…>, юношество бесспорно предпочитает такой способ усвоения, пустоты же с течением времени сами собой заполняются»82.
Предпочитал его и Бунин, который, как мы уже видели, вообще верил лишь в интуитивное (а не логическое) постижение с опорой на прапамять. Он всю жизнь не переставал удивляться тому, что у юноши Лермонтова мы находим такое поразительное знание жизни и людей, какое он никак не мог бы приобрести за свою краткую жизнь рациональным путем и опытом83.
Чтобы расширить кругозор мальчика, Ромашков читал с ним журнал «Всемирный путешественник» и том «Земля и люди». Разглядывая картинки тропических стран с кокосовыми лесами, с узкими пирогами, нагими людьми с дротиками и луками, Бунин «вспомнил» (прапамять) эти страны и даже пережил «настоящую тоску по родине», по утерянному раю, так же как читая рыцарские романы, «вспомнил» этот рыцарский мир. «Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы, – скажет он впоследствии, – и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком <…>, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их?»84
Что же касается первых сильных художественных впечатлений, то это было чтение Пушкина и Гоголя. Стихи Пушкина «на весь век вошли во всё мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле»85. В Гоголе же. («Страшная месть») его «самый ритм взволновал необыкновенно» (Пг. VI. 326). Это надо особенно помнить, ибо гоголевская традиция у Бунина обычно критиками совершенно не замечается, т. к. понимается эта традиция главным образом как традиция «натуральной школы» или как традиция гротеска, и утверждение самого Бунина: «Я – от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел»86, – всерьез не принимается. А между тем именно гоголевскую музыкальность, волшебство ритма, поэтическую насыщенность и эмоциональную интенсивность лирического текста мы находим у Бунина.
Не менее важным было и то, что Бунин рос среди простого народа, играл с крестьянскими детьми, знал близко жизнь деревни и впоследствии смог первым в русской литературе по-настоящему показать деревню и крестьянство. В отличие от других больших наших писателей у него никогда не было комплекса отчужденности при общении с народом, он говорил с крестьянами как равный – их собственным языком. Поэтому-то, не чувствуя ни комплекса вины, ни комплекса отчужденности, он никогда и не идеализировал народа в отличие от своих предшественников. Язык крестьян и их образ мысли он знал досконально и все-таки не уставал никогда изучать: им собрано и записано около одиннадцати тысяч (!) народных прибауток, частушек, поговорок, речений и т. п.
Не удивительно, что казенное гимназическое обучение в Ельце (отец отдал мальчика в гимназию в Ельце осенью 1881 г.) показалось Бунину пустым, скучным и ненужным, и он бросил его, не проучившись и пяти лет (зимой 1886 г., приехав на зимние каникулы домой в деревню, он отказался вернуться в гимназию; отец, который сам сбежал из первого класса Орловской гимназии, и не принуждал его возвращаться).