Читать книгу "Дерево Иуды"
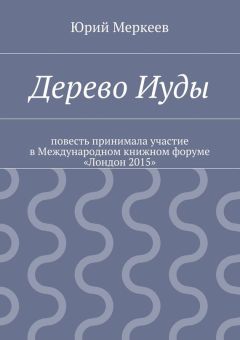
Автор книги: Юрий Меркеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Да, Андрей, ты мало что об отце знаешь. Как и обо всей нашей родне тоже. У нас по мужской линии у всех Волковых тяга к искусству. Особенно к живописи. Так что не только безбожниками все мы были, но и в душе что-то теплилось… Ну да ладно, что, чай, об этом вспоминать? Что было, того уж не вернёшь. Захотелось отцу твоему морской романтики, и подался он сначала на Дальний Восток, потом в Калининград. Там женился, всю жизнь прожил, а что теперь? На родину его тянет с этой «неметчины». Сам мне писал недавно, что уж невмоготу ему там. Только мать после инсульта оправится ли? Не знаю… Ну всё, хватит. Пойдём на кухню. Я поесть купила. Ты, чай, проголодался с дороги.
Андрей оттёр полотенцем выступивший на лбу холодный пот. На него снова накатила болезненная волна ломки. Обыкновенно абстиненция обострялась к ночи. И в первые трое суток после последнего укола особенно не давала покоя. Это была постоянная ноющая боль, похожая на зубную, только во всём теле. Она мучила, изводила, заставляла думать только о ней, точнее, о том, как от неё избавиться… мысли приходили чудовищные… Ломка затуманивала мозги и толкала на преступления. Исследователь душ человеческих, известный писатель, задавался вопросом, что идёт впереди – болезнь или преступление? У наркомана болезнь всегда шла впереди, она была чёрным знаменем любого бунта против совести, именно она ломала все границы внутреннего закона и размывала понятия так, что грех уже не казался грехом, а только избавлением от боли.
Он заставил себя встать и последовал за тётей на кухню. Ему было легче перебарывать себя именно здесь, в присутствии человека, который не был посвящён в то, как ему плохо. В присутствии близких людей он перекумариваться не мог. Срывался. Вдвойне страдал от того, что видел, как от его мучений страдали близкие. Тётина суховатость в обхождении с гостем была весьма кстати.
– Твой отец писал, что ты развёлся с Ольгой, так, кажется, её звали?
– Почему звали? Её так зовут.
– Ах, да. Прости. У нас Максим ведь тоже развёлся и тоже с Ольгой. Ну там такая ведьма была – ай-яй! На меня с кулаками бросалась. Сделала ему троих детей и на алименты подала. А где же их брать, если он не работает? Вот у нас ещё какие расходы. Верка половину своей пенсии отдаёт этой стерве!
– Да что ж вы её стервой-то называете?
– Ой, – завыла тётя, и Андрей почувствовал, что задел самый больной нерв семьи. – Ты её просто не знаешь. Окрутила нашего Максимку. Сама из деревни приехала. Ни квартиры, ни работы приличной. Забеременела неизвестно от кого, и Максимке-то этого ребёночка приписала. Максим наш пельмень, его любая дурёха вокруг пальца обведёт.
– Так что же ребёночек, на отца не похож?
– Не знаю, – сердито проворчала Надежда Николаевна и повернулась к плите. – Чёрт их всех разберёт… девок нынешних. Ты-то почему развёлся?
– Я не разводился. Ольга сама ушла.
– А ребёнок?
– Дочку с собой забрала. Сейчас живут у моей бывшей тёщи. Ничего плохого о своей бывшей супруге не скажу. Просто у неё очень много всяких заморочек психологических. Детство у неё было трудное. Отчим у неё на глазах котёнку голову оторвал.
– Ну и что? – возмутилась тётя. – А мы голубей в детстве с голодухи жрали. И что?
– Ничего, – пожал плечами Андрей. – Ей нужен муж-психиатр, который всё время вымывал бы, вымывал бы эту тягомотину. Тогда она была бы спокойна. А мне сейчас самому психиатр нужен.
Тётушка резко обернулась и настороженно взглянула на племянника.
– Да шучу я, шучу, – поспешил успокоить Андрей. – Это я, образно выражаясь.
– Как ни выражайся, – строго проговорила тетя. – А с ними, с нынешними жёнами, нужно не нянькаться, а хворостиной да по мягкому месту!
Андрей рассмеялся. Он чуть было не спросил Надежду Николаевну о том, почему ей-то, бездетной и незамужней, известны такие тонкости семейной жизни. Но вовремя удержался и промолчал.
– В общем, оба вы хороши, – заключила тётя, накладывая в тарелку жаренную рыбу. – Что Максим наш, что ты. Завтра повезу тебя на дачу, будете там вместе болеть.
Андрей вздохнул – что ж, вместе так вместе… послушание так послушание…
– А знаете, Надежда Николаевна, почему я наркоманом стал?
Тётушка удивлённо воззрилась на племянника.
– Когда-то очень давно мне захотелось праздника непослушания. Не смотрели вы такой мультфильм, «Праздник непослушания»? Там дети взбунтовались против лицемерия взрослых и захотели пожить самостоятельной жизнью. Бунт! Благородное возмущение! С ума эти дети сходили от фальши и лицемерия взрослых. Согласитесь, тётя, взрослые очень часто врут своим детям. Не так ли? Врут и прикрываются высокими фразами. Вам же это хорошо знакомо. Вспомните времена развитого социализма.
– Раньше врали, да кормили. Жрать было на что! – неожиданно сорвалась на крик Надежда Николаевна. – Да, пусть в газетах писали всё одно и то же, кого-то срамили, кого-то награждали. Но пенсионерам всегда было чего поесть. На такую свободу, как сейчас, я… я, – она сделала паузу, словно набирая в легкие побольше воздуха, и неожиданно закончила: – Насрать хотела. Прости меня за выражение! У меня вон кран с горячей водой уже год как барахлит. Не могу сантехников дождаться. А ты говоришь, развитой социализм! Я вон в дырявых колготках хожу. Да когда ж было такое! При Брежневе мы хоть и небрежничали, но в дырявых колготках не ходили. При Горбачеве горбатиться начали и догорбатились до дыр. Про Ельцина умолчу… и говорить не хочется. Стыдоба на весь мир!
7
За три с половиной года ежедневного употребления наркотиков Волков не перекумаривался толком ещё ни разу. Своими силами это мало кому удаётся. За большие деньги можно лечь в платную клинику и вылечить ломку сном, специальным аппаратом, который с помощью тока определённой частоты снимает физическую боль, кое-кто из самых рискованных решается на лоботомию, то есть на хирургическое вмешательство в мозги, – однако всё это не приносит ни малейшего результата без твёрдого желания и воли самого человека. Даже Бог, говорят люди религиозные, не может спасти человека без участия самого человека, это закон.
Перекумаривался Андрей крайне тяжело. Хотелось волком выть, лезть на стенку, бросало то в холод, то в жар, тошнило; то безумно хотелось сладкого, то воротило от всякой пищи. И всё время хотелось спать, но при этом не засыпалось. Примерно так, наверное, должен чувствовать себя человек, над которым издеваются «пыткой сном», то есть тормошат его, как только он начинает задрёмывать. В данном случае «тормошителем» выступал отравленный и обманутый мозг, который требовал, требовал, требовал… и ничего не получал!
Окунёшься на мгновение в кусочек кошмара, – и сломя голову назад, поскорее в спасительную и гадкую реальность, гадкую и одновременно спасительную. И здесь бежишь, бежишь, бежишь! Бежишь, едва переводя дух, от каких-то чертей, удавленников, монстров. Однажды ему привиделся целый ряд висельников, которые с удивительной геометрической точностью уходили в необозримо далёкую перспективу. Но то ещё не был ад, то было преддверие ада, потому как в следующие дни в кошмарах уже являлись реальные жёлтые уродцы с небритыми бандитскими рожами и предъявляли, словно бы наяву, какие-то несусветные неоплаченные счета – за надуманные кражи соседей, грабежи родственников и даже за убийство какой-то маленькой девочки, которое он не мог бы совершить даже в самых страшных фантазиях, всё это клубком носилось в его голове, душило, давило на сердце. О боги, боги, лучше бы ему не родиться на свет! Так продолжалось три дня и три ночи… А потом произошло чудо – Андрею стало немного легче, и однажды он проснулся под утро от сильного колокольного звона, метнул взгляд на часы и был поражён. В пять утра – откуда мог взяться в глуши, в лесу, в дачном посёлке церковный колокол, причём, судя по звукам, весьма увесистый, как главный колокол какого-нибудь собора? Андрей закрыл руками уши, но колокольный звон не утихал, а напротив, всё мощнее и размашистей вызванивал звуки, проглатывал тишину и темноту предутренних часов, и, вместе с тем, точно бы обволакивал чем-то приятным душу. И тогда Волков решил, что это слуховая галлюцинация. Он разбудил Максима и попросил у двоюродного брата радиоприёмник. Затем порыскал по коротким волнам, нашёл какой-то рок или джаз и включил звук на полную. Колокол продолжал гудеть в голове. «Ду-ууум… ду-ууууммммм…..ду-уууууммммммммм!». В эту секунду у Андрея мелькнула мысль о своем сумасшествии. Он сказал об этом Максиму и расхохотался. Максим вяло на него посмотрел, видимо, ему было знакомо нечто похожее.
– Не переживай, – сказал он, зевая. – Это не «белочка». Во время «белочки» колокола не звонят, они приходят на своих ножках прямо на дачу. Как кенгуру – прыг-скок! – Максим потянулся и снова заснул.
Только на пятые сутки Андрей начал приходить в себя. Появился аппетит, стал потихоньку налаживаться сон. Но, как это часто происходит с наркоманами, которые долго сидели на игле, на смену физической ломке пришла ломка моральная, тяжёлая депрессия, вакуум, который необходимо было чем-то заполнить. Андрей почувствовал, что ему нужно было во что бы то ни стало найти хоть какую-нибудь работу, тупую, однообразную, физически тяжёлую, которая бы не оставляла даже минутки на раздумья, потому как мысли несло лишь в одном направлении – они бежали впереди разума, впереди всех запретов, бежали, бежали, бежали!
Как-то раз, сидя у телевизора, он обратил внимание на бегущую строку с приглашением на работу гравёром в цех по изготовлению памятников в одном из заречных районов Нижнего Новгорода. Андрей был знаком с этой работой по Калининграду. Там он почти каждое лето подрабатывал в АО «Поток». Работа была тяжёлая, но денежная. И к тому же, как раз из тех, что нужна вылупившемуся из скорлупы физической ломки наркоману для того, чтобы не сорваться.
Предварительно позвонив, он направился в контору цеха. Встретили его там довольно приветливо, сразу же сунули в руки инструмент и попросили для пробы выбить несколько букв на мраморной доске. Хозяин цеха, следивший за работой новенького, одобрил её, и в тот же день Волков был зачислен в штат. И никакого паспорта с нижегородской пропиской, никакого официального заявления не потребовалось. Андрей начал работать.
Первое время уставал так сильно, что, приходя домой к тётке, тут же валился с ног и спал до утра. Постепенно он привык к такому режиму, и на сон уходило не больше семи часов. Работа была очень однообразна, как конвейер, и это утомляло больше всего. Одни и те же цифры, буквы, фразы… «Дорогим родителям от любящих детей». Или наоборот: «Дорогим детям от любящих родителей». Последних фраз было значительно больше. «Любим. Помним. Скорбим.» Вот уж поистине был поток в вечность, конвейер по нивелировке уходящих форм. Конец жизни делал всех одинаковыми – одежды были сняты.
Практически все гравёры за работой пили. Начинали похмеляться с самого утра, как правило, водкой, и дальше «огненная водица» текла нескончаемым потоком. Начальству до этого, казалось, и дела не было. Лишь бы работа текла таким же бесконечным потоком как «огненная водица». Тут не было регламентов и правил, тут был круговорот смертей в природе человеческой, и относились к этому с понятным цинизмом.
Однажды с Андреем произошёл занимательный случай. Как-то во время работы к Волкову подошёл совершенно пьяный гравёр, старый седой дядечка, едва державшийся на ногах и на мир глядящий сквозь запойную поволоку, властным жестом забрал у Андрея молоток и скарпель и решил продемонстрировать новичку, как правильно высекается буква «О» (действительно сложная для исполнения буква). Когда старик, пошатываясь, приставил скарпель к букве, Андрей судорожно прикусил губу, предчувствуя, что вся его работа над памятником пойдёт насмарку, и загубленный постамент придётся списывать в брак в огромный минус к своей зарплате. Однако у пьяного мастера буква получилась такой ровной, что новичок в восхищении развёл руками. Циркуль по этой букве можно было проверять. С того дня Волков перестал отказываться от выпивки вместе с новыми коллегами по цеху.
Квартиру ему удалось снять довольно быстро. Однокомнатная хрущёвка, хозяин которой недавно умер и которую внаём сдавали его родственники, находилась в десяти минутах ходьбы от работы, рядом со станцией метро.
По воскресениям Андрей иногда выезжал в город, – так тут называли верхнюю часть Нижнего Новгорода, – бесцельно бродил по Большой Покровской, бессмысленно тратил деньги и возвращался на квартиру неизменно пьяным. Так продолжалось до тех пор, пока в нём не начала просыпаться не отравленная до конца депрессия; тупая физическая работа оказывалась лишь паллиативным лекарством от тоски, а не панацеей. Да и алкоголь не помогал, а, напротив – раздражал ещё не затянувшуюся рану. Жить одному в чужом городе на положении загнанного зверя было тяжело. Уже сама свобода, обретённая бегством от людей, не радовала. Волков понимал, что настоящая свобода для человека – это не та волчья свобода вольного ветра, которой он упивался когда-то, и которая когда-то давала ему много жизненных сил. Настоящая свобода находилась внутри него самого и была явлением не внешним, а принадлежащим его душе, духу, то есть тому, чего никто даже при сильном желании у него бы не смог отнять.
В один из выходных дней, маясь от одиночества и трезвости, он написал письмо Наталье, единственному, как ему казалось, человеку, который искренне по нему скучал. Любому человеку, даже если он когда-то был волком, необходимо хотя бы одно существо, которое скучало бы по нему, думало о нём, жалело, любило, ждало…
«Милая Наташа, – писал Волков, вкладывая в слово «милая» всё своё человеческое естество. – В тридцать лет очень трудно ломать свою жизнь так, как это вышло у меня. Уехать из города, в котором родился и вырос, и начинать всё заново в другом месте – это тоже своеобразная ломка, то есть болезнь. С одной я кое-как справился, теперь пытаюсь справиться и с другой. Ностальгии у меня нет, тут другое. Ностальгия – это возвращение боли, а у меня боль одна. Ты знаешь, о чём я. Она меня преследует повсюду. Впервые я её почувствовал, когда ты хотела поцеловать меня в губы, помнишь?
Работаю я гравёром в цехе по изготовлению памятников. Работа спасает тем, что не даёт времени задумываться о жизни. Рубишь эти буковки, рубишь до одури, до тошноты – для того чтобы поменьше оставаться наедине с собой. Но иногда даже среди рутины всплывает та самая боль. И тогда хоть волком вой, не поможет. Недавно высекал розочку на памятнике и случайно разбил себе в кровь палец. Гравёр, который работал поблизости, бросился мне помогать – обрабатывать и перевязывать. Хороший парнишка, мы с ним очень подружились. Представляешь, человек из добрых побуждений бросился мне на подмогу?! Что мне было делать? Скажи! Оттолкнуть его или прямо заявить, что он мне друг, но истина дороже?! Истина в том, что я – спидоносец, и мог заразить его? Останется ли тогда что-нибудь от его доброты? Или же он меня тем же памятником по башке и шандарахнет? Смешно, да? Убить памятником. Ооооосподи, как смешно! Разумеется, я ничего не сказал. Тем более что и я, и он были пьяные. Теперь молю бога, чтобы он не заразился. И это только один пример, когда сон разума порождает чудовищ… Соседка молоденькая на днях забежала, пиво попросила, дал ей пива, сам глотнул, а она целоваться полезла… чёртова кукла! Или это уж я сам чёртов пень! Теперь и за неё молю бога, чтобы не заразилась. Я же ведь нормальный, физически крепкий мужчина, но что я могу без этих самоприказов? Нельзя, Волков, нельзя! Теперь вся моя жизнь в других штрафных кругах – нельзя, Волков, нельзя! Надеюсь, что с девочкой всё нормально будет, успел защитный шлем надеть… Новую главу в своей автобиографии я так бы и назвал: «Сон разума».
Кстати, здесь мне стали сниться другие сны, совсем не такие, какие снились в Калининграде. Здесь они более яркие, красочные, невероятно убедительные. Впервые в жизни у меня была слуховая галлюцинация: в пять утра в лесу зазвонил вдруг колокол… видимо, по мне! Часто снятся люди, которые прячут за спинами камни. И такое ощущение, что в любую секунду готовы в меня их метнуть, только ждут какого-то сигнала, гонга что ли? Или церковного колокола? Не знаю. Знаю лишь, что после таких снов во мне просыпается волчья природа. Я снова начинаю ненавидеть людей и готов покусать их, а потом убежать в лес на волю. Спиной почувствую, когда первый из них решит бросить в меня камень. И ещё – я не доверяю тем, кто встречает меня с улыбкой. В улыбки я верить перестал. Иуда поцелуем предал Христа. Когда меня кто-то из родственников целует, я почему-то вспоминаю поцелуй Иуды, не знаю почему. Они тоже из тех, кто готов бросить в меня камень. Я чувствую это, чувствую кожей!
Вообще же духом я очень бодр. Несмотря ни на что! Думаю, что чем сильнее на ВИЧ-инфицированных будет вестись охота, тем двужильнее будет наш брат. Я хочу призвать мир покрепче за нас взяться! Пусть возьмут вилы и топоры, пусть улюлюкают. Выживет сильнейший. А я себя слабым не считаю… В одной книжке я прочитал любопытную вещь. Смерть – это лишь неумение организма справиться с умиранием. Как просто и здорово, не правда ли? Мне кажется, что Бог, к которому так часто обращаются люди за помощью, и наша Воля – это одно и то же. Ведь человек – это лишь бросок в сторону… Человека! На этом заканчиваю. Жду от тебя письма. Андрей, не Человек и не Волк».
8
Молодой оперативник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Дмитрий Пташин был разбужен в пять утра телефонным звонком. К такому беспорядочному ритму милицейской жизни старший лейтенант Пташин уже привык, хотя в отделе по борьбе с наркотиками работал только год. До этого он работал в уголовном розыске, а там будни были не слаще. Жена его, Оксана, поневоле смирилась с тем, что мужа могли выдернуть из семьи на службу в любое время дня и ночи, а их маленький сынишка Коленька был только рад, когда папа куда-нибудь собирался, потому что отец тогда открывал ключом домашний тайник и доставал оттуда увесистый тёмный пистолет, который засовывал себе в кобуру под мышку – почти как в кино!
Стараясь не разбудить супругу, Дмитрий соскочил с кровати и, зажав трубку ладонями, процедил сквозь зубы: «Пташин у телефона. Кто говорит?».
– Придется тебе, Дмитрич, сегодня пораньше за работу взяться, – услышал он голос своего шефа майора Бурова, которого в управлении звали просто Филипыч. – Вчера опять из суда звонили, не появлялся там твой подопечный. Ты ходатайствовал о том, чтобы его выпустили до суда на подписку? Вот теперь отдувайся. Я о твоём университетском дружке Волкове говорю. В третий раз ему судья повестку шлёт, а он и носом не шевелит. Может, и сбежал уже?! Вчера прокурор звонил главному. Тут, понимаешь, не просто хранение… Тут дело социальной значимости. Если бы он был просто наркоманом… а тут всё непросто! У нас резолюция новая. Понимаешь? Он социально опасен. Вбил в башку? Или ещё не проснулся?
– Проснулся… вбил… ясно всё.
– Ну, а раз ясно, без Волкова не являйся. Машину я вызвал. Возьмёшь его с утра тёпленьким. Думаю, что в это время он спит.
– Антон Филипыч, а какую машину вызвали? – спросил Дмитрий. В официальной обстановке он обращался к своему шефу на «вы», в неофициальной, как все, называл его просто Филипыч.
– Какую-какую, – недовольно проворчала трубка. – Известно какую. «Дежурку». Оперативную дать не мог. Сам знаешь, сколько нам канцерялия бензина отпускает.
Никто из оперативников не любил, когда за ним домой приезжал желто-синий милицейский уазик. Лишний раз афишировать свою принадлежность к милиции никому не хотелось.
– И кто сегодня за рулём? – тяжело вздохнул Дмитрий.
– Как кто? Костян… Костяныч. Ты собирайся давай!
– Костя, – повторил Дима обречённо.
Филипыч расхохотался.
– Да не волнуйся ты, – сквозь смех пробасил он, – я этого сукиного сына предупредил, что если во время его дежурства машина снова будет вонять помоями, накажу. Не один ты жалуешься. Надо будет его как-нибудь накрыть для смеха, когда он в очередной раз поедет к тёще на служебной машине свиней кормить. Прямо с помоями его и повяжем. Слышишь, Птаха, ты же старый опер?
– Знаю я всё. Знаю даже, в какой детский сад он за пищевыми отходами приезжает. У него там тесть ночным сторожем работает.
– Ну вот, видишь, – одобрительно отозвался шеф. – Не ошибался я в тебе. Не зря, значит, из розыска тебя перетащил. К концу года сверли дырки на погонах.
Дима улыбнулся. Он прекрасно знал все уловки своего шефа. Пообещать с три короба и не выполнить – это было его кредо. Впрочем, обычно он не обещал напрямую, а лишь намекал, хитренько так, вокруг да около, всегда осторожно, как старый лис. Пытался стимулировать таким образом работу своей службы.
– Филипыч, – не выдержал Дмитрий, переходя на «ты», – если б ты хотел, Костик бы сам тебе давно сдал свои свиные точки. Но ведь ты этого сам не хочешь, не так ли? В прошлом году на День милиции откуда у тебя столько кровяной колбаски домашней на закуску было? А? На всё управление хватило. Признавайся, кто тебя этой колбаской снабжает?
Пташин улыбался во весь рот.
– Ладно, не зубоскаль, – в голосе у шефа появились начальствующие нотки. – Костя хоть и сержант, а раскрытий по наркоте у него знаешь сколько?
– Сколько?
– Достаточно для того, чтобы в конце года вместе с операми премию получить. Кроме того, он главному каким-то дальним родственником приходится.
– Не сыном случайно внебрачным?
– Да пошёл ты!
– Вот и я говорю: «утро доброе»!
Пташин услыхал шум подъезжающего к дому милицейского уазика.
– Но за вонь в машине я его накажу!
– Шеф, мне пора.
– Тогда ни пуха!
– К чёрту, чтобы ему ни пуха и ни пера.
Дмитрий положил трубку и стал собираться. В ванной оценил под зеркалом свое небритое лицо, в две минуты управился со щетиной опасной бритвой, взбодрился холодным душем, растёрся до красноты жёстким махровым полотенцем, ошпарил лицо дорогущим французским одеколоном, надел свежее бельё и вышел на кухню выпить крепкого кофе. Внешность у Пташина была простая, не запоминающаяся, но от всего его существа исходила какая-то уверенная и даже чуть нагловатая сила, вальяжность, не свойственная тридцатилетнему и… порода… Была в его облике особая мужская стать, которая передаётся по наследственности – прямая спина, сильная шея, крупные благородные черты лица, широкие плечи, развитая грудная клетка спортсмена, прямой жёсткий взгляд серовато-голубых глаз. Женщины, с которыми ему приходилось общаться по работе… и с той, и с другой стороны баррикад, влюблялись в него быстро, но ненадолго. Слишком не соответствовал породистому облику образ его жизни.
Когда он по обыкновению достал из тайника оперативную кобуру с пистолетом, Николаша, притворявшийся спящим, быстро отбросил одеяло и принял сидячее положение.
– Пап, дай подержать, – попросил он.
– Мне некогда, – ответил Дмитрий, целуя сына в лоб и по пути в прихожую набрасывая на себя куртку. – Спи давай, времени ещё на пять снов хватит.
Оксана накинула на себя халат и подошла обнять мужа. У них это стало доброй семейной традицией: когда муж уходил на работу, жена целовала его, крестила воздух и желала поскорее вернуться.
– Куда на сей раз? – тихо спросила она у двери.
– Взять одного придурка, который бегает от суда, – ответил Пташин. – Мы с ним когда-то в университете вместе учились на юрфаке. Выгнали его с третьего курса, в армию забрали, да там он недолго прослужил. В психушку сунули и волчий билет с несмываемой статьёй «наркомания опийного круга». Кстати, и фамилия у него волчья. Волков, то есть. И бегает он теперь по своим опийным кругам, сволочь такая, мне выспаться не даёт. Жалко его, конечно, но что сделаешь? Закон суров, но он закон. Дура лекс, сед лекс. Так, кажется, это звучит по латыни. Давно учился, а помню… Дура лекс… Это я, дурак, что пожалел его, когда отпустил из камеры под подписку о невыезде. Знаешь, это всегда так: в долг даёшь руками, а за долгом бегаешь ногами. Своими, причём.
– Ты уж сильно не нервничай, – сказала Оксана, ласково поправляя мужу воротник куртки. – Если из-за каждого придурка нервничать…
– Это уже не простой придурок, – прервал её Дима. – А социально опасный. Ты же знаешь, какая в городе зараза завелась. ВИЧ, СПИД, всякая гадость… Так у этого Волкова в крови зараза. Если он начнёт куролесить по стране, представь себе, сколько нормальных людей, таких как мы с тобой, к примеру, он может заразить?!
– А я где-то слышала, что бытовым путём он не передаётся.
– Знаешь, раньше и про чуму такое врали, чтобы народ не пугать. А народ уже вон как напуган. Телевидение наше местное посмотри. Конец света! Так что, прости, милая, но мне этого гада нужно из-под земли достать, даже если он там среди своих в аду прячется. И из ада достану!
Дмитрий вышел на улицу и вдохнул полной грудью. От прилива в кровь кислорода у него приятно закружилась голова и забегали онемевшие колючки в кончиках пальцев. Он огляделся. Снега уже нигде не было. На деревьях резались первые листья. Всё вокруг было сильным, жизнеутверждающим, спокойным, твёрдым, законным, естественным. Ощущалась в природе воля, сильный всегда накрывал слабого – это закон. Закон суров, но он закон.
Славное было утро! В этом году весна в Прибалтику пришла рано, как на заказ. Только недавно была Пасха, а солнце уже успело подсушить город… Пташин забрался в машину и поздоровался с заспанным и небритым помощником дежурного. В машине, как обычно, попахивало пищевыми отходами.
– Ну, как прошли сутки? – закуривая, спросил Пташин. – Трупов много?
– Много, – недовольно проворчал сержант. – Куда в такую рань-то?
– Костян, наш ждут великие дела! – с пафосом произнёс Дмитрий. – Дура лекс… Ты автомат взял?
Константин с удивлением покосился на оперативника.
– Дура? – переспросил он. – Автомат? Мы, вообще-то, куда едем? Притон брать? Или, может быть, дом сумасшедших?
– Эх, святая простота. Прощаются тебе все загубленные свинки на свете… Едем брать особо опасного… А ты, Коштян, пойдёшь врукопашную.
Сержант долго всматривался в Пташина, пока, наконец, не понял, что тот шутит.
– Ты что, Димыч, одеколоном похмелялся? – решил и он пойти в наступление. Костя широко раскрыл глаза, с шумом втянул в себя воздух и поморщился демонстративно. – Фу, гадость какая! Мне б сказал, я бы тебе первача плеснул ради такого… да-да, того самого первача, что на всех наших милицейских праздниках лопаем за милую душу!
Дмитрий и в самом деле плеснул на себя одеколона лишку, узнав о том, что сегодня смена Костина.
– Эх, Коштян ты, Коштян, – с укоризной протянул Дмитрий. – Когда же ты всех тёщиных свинок скушаешь, а?
– До второго пришествия точно!
Дмитрий звонко расхохотался, открывая ряд крепких белых ухоженных зубов.
– Поехали, – шутливо приказал он. – В Балтийский район. Сегодня у нас охота на волка.
– Так бы и сказал, – ухмыльнулся сержант. – На волка и «Макарова» хватит.
Подъезжая к месту, где жил его подопечный, Дмитрий попросил водителя остановить машину примерно в двухстах метрах от дома, потому что гул милицейской машины мог разбудить и спугнуть Волкова. Перед наказанием у этих «беглецов» всегда обостряются нервы. У Пташина уже случались такие проколы, когда те, за кем приезжали на машине, вдруг срывались с места, удирали через чердак или через балкон, только заслышав издали гул милицейского уазика. Тем и была хороша оперативная «волга», что на ней можно было подъехать к дому задерживаемого без особого риска спугнуть. Гул, характерный для милицейского уазика, как и уазика вообще, был очень хорошо знаком тем, кого хоть раз задерживали и доставляли в участок. Никакого музыкального слуха – одно обострённое до предела чутьё, почти звериное…
Погони, пальба, скрип тормозов, – всё то, что приукрашивало милицейские будни в кино, – на самом деле считалось браком в оперативной работе. Филипыч любил повторять: «Лучшие опера раскрывают самые запутанные преступления, сидя за бутылкой водки и мирно беседуя со своими агентами». Хороший агент – это девяносто девять процентов успеха. Сто процентов мог бы дать лишь… нет, не бог… хорошая агентесса, а у Пташина в послужном списке таких девиц было немало.
Войдя в подъезд и осторожно поднимаясь на третий этаж, Дмитрий обратил внимание на чёрные отметины в виде запятых, которые оставлялись малолетними курильщиками анаши на стенах как некий символ – знак того, чтобы вновь вернуться в этот подъезд и выкурить очередной «косячок», – так суеверные люди бросают монетки в какие-нибудь естественные водоёмы по такому же примерно поводу – задобрить духов этого места, чтобы они способствовали возвращению. Наркоманы были одними из самых суеверных людей, а плотность наркомании в городе была высока невероятно, особенно в Балтийском районе, где в доперестроечные времена работали крупнейшие судоверфи России, а затем – безработица, безденежье, пьянство, наркомания…
Подойдя к двери, Дима приставил к ней ухо и прислушался. За дверью было тихо, только шелестел гул сквозняков. В такое время раннее, очевидно, все спали. Он взглянул на часы – они показывали половину шестого. Представляться почтальоном по доставке телеграмм, как это обычно делали оперативники, или кричать: «Вы нас заливаете!», – в столь ранний час было нелепо. И Пташин решил действовать напрямую, как ему подсказывала интуиция. С третьего этажа Волков не спрыгнет, а родители всё равно ответят на звонок. Дмитрий несколько раз безжалостно надавил на кнопку звонка. Вскоре из-за двери раздался недовольный старческий голос:
– Кого там нелегкая несёт?
– Откройте дверь, это милиция, – громко сказал Пташин.
Он развернул удостоверение и приставил его к глазку, чтобы была видна его фотография.
– Открывайте, – прибавил он. – Это по поводу вашего сына. Я нему… с хорошей новостью, – соврал оперативник. – С очень хорошей. Ему понравится.
Отец Андрея, Виктор Николаевич Волков открыл дверь и впустил оперативника.
– Меня зовут Пташин Дмитрий Дмитриевич, – представился тот. – Старший лейтенант милиции, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это я помогал вашему сыну оформлять подписку о невыезде. Где он?
Виктор Николаевич приложил палец к губам.
– Тише, – попросил он. – У меня супруга очень больна. Она после инсульта. Пойдёмте на кухню, там и поговорим.
Виктор Николаевич был сухонький подвижный старичок с мрачным недоверчивым взглядом небольших серых глаз, глядящих исподлобья. Был он одет в старый тельник без рукавов, локти его были все изрисованы морскими татуировками.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































