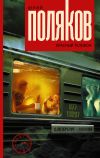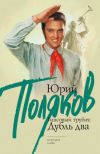Текст книги "О странностях любви... (сборник)"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Мы пропали! – прошептал молодой человек.
– Амишка! Амишка! – закричала дама. – Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка! Амишка! ici! О изверги! варвары! Боже, мне дурно!
– Что такое? что такое? – закричал старичок, вскочив с кресел. – Что с тобой, душа моя? Амишка здесь! Амишка, Амишка, Амишка! – кричал старичок, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая Амишку из-под кровати. – Амишка! ici! ici! Не может быть, чтобы Васька там съел его. Нужно высечь Ваську, мой друг; его, плута, уже целый месяц не секли. Как ты думаешь? Я посоветуюсь завтра с Прасковьей Захарьевной. Но, Боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела, ох! ох! люди! люди!
И старичок забегал по комнате.
– Злодеи! изверги! – кричала дама, покатившись на кушетку.
– Кто? кто? кто такой? – кричал старик.
– Там есть люди, чужие!.. там, под кроватью! О, боже мой! Амишка! Амишка! что они с тобой сделали?
– Ах, боже мой, господи! какие люди! Амишка… Нет, люди, люди, сюда! Кто там? кто там? – закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать, – кто такой? Люди, люди!..
Иван Андреевич лежал, ни жив ни мертв, подле бездыханного трупа Амишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны, к стене, и нагнулся. В один миг молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, покамест муж искал своих гостей по ту сторону брачного ложа.
– Боже! – прошептала дама, вглядевшись в молодого человека. – Кто же вы такой? А я думала…
– Тот изверг остался, – прошептал молодой человек. – Он виновник Амишкиной смерти!
– Ай! – вскрикнула дама.
Но молодой человек уже исчез из комнаты.
– Ай! здесь кто-то есть. Здесь чей-то сапог! – закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича.
– Убийца! убийца! – кричала дама. – О Ами! Ами!
– Вылезайте, вылезайте! – кричал старик, топая по ковру обеими ногами, – вылезайте; кто вы таковы? говорите, кто вы таковы. Боже! какой странный человек!
– Да это разбойники!..
– Ради Бога, ради Бога! – кричал Иван Андреевич! вылезая, – ради Бога, ваше превосходительство, не зовите людей! Ваше превосходительство, не зовите людей! это совершенно лишнее. Вы меня не можете вытолкать… Я не такой человек! Я сам по себе… Ваше превосходительство, это случилось по ошибке! Я вам сейчас объясню, ваше превосходительство, – продолжал Иван Андреевич, рыдая и всхлипывая. – Это всё жена, то есть не моя жена, а чужая жена, – я не женат, я так… Это мой друг и товарищ детства…
– Какой товарищ детства! – кричал старик, топая ногами. – Вы вор, пришли обокрасть… а не товарищ детства…
– Нет, не вор, ваше превосходительство; я действительно товарищ детства… я только нечаянно ошибся, попал с другого подъезда.
– Да, я вижу, сударь, вижу, из какого подъезда вы вылезли.
– Ваше превосходительство! Я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором. Ваше превосходительство! ваше превосходительство! – кричал Иван Андреевич, складывая руки и обращаясь к молодой даме. – Вы дама, поймите меня… Это я умертвил Амишку… Но я не виноват, я, ей-Богу, не виноват… Это всё жена виновата. Я несчастный человек, я пью чашу!
– Да, помилуйте, какое же мне дело, что вы выпили чашу; может быть, вы и не одну чашу выпили, – судя по вашему положению, оно и видно; но как же вы зашли сюда, милостивый государь? – кричал старик, весь дрожа от волнения, но действительно удостоверившись, по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. – Я вас спрашиваю: как вы зашли сюда? Вы, как разбойник…
– Не разбойник, ваше превосходительство. Я только с другого подъезда; право, не разбойник! Это всё оттого, что я ревнив. Я вам всё расскажу, ваше превосходительство, откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца.
– Как в таких летах?
– Ваше превосходительство! Я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама… и ваши лета… приятно видеть, ваше превосходительство, действительно, приятно видеть такое супружество… в цвете лет… Но не зовите людей… ради Бога, не зовите людей… люди только будут смеяться… я их знаю… То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями, – у меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство, и всё смеются… ослы! ваше сиятельство… Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю с князем…
– Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе… Пожалуйста, меня не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? как вы попали?
– Ваше сиятельство, то есть ваше превосходительство… извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся… я обдумался – это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого, господина Пузырева… Видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя у моего знакомого: вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете. Я не вор. Ваше превосходительство, не зовите людей; ну, позовете людей, что ж из этого выйдет?
– Но как вы сюда попали? – закричала дама. – Кто вы таковы?
– Да, кто вы таковы? – подхватил муж. – А я-то, душенька, думаю, что это Васька у нас под кроватью сидит и чихает. А это он. Ах ты, потаскун, потаскун!.. Кто вы такой? Говорите же!
И старичок снова затопал по ковру ногами.
– Я не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, покамест вы кончите… Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам всё расскажу. Это может всё и без того объясниться, то есть я хочу сказать: не зовите людей, ваше превосходительство! поступите со мной благородным образом… Это ничего, что я посидел под кроватью… я не потерял этим своей важности. Это история самая комическая, ваше превосходительство! – вскричал Иван Андреевич, с умоляющим видом обращаясь к супруге. – Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться! Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь, я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Амишку, но… Боже мой, я не знаю, что говорю!
– Но как же, как вы зашли сюда?
– Пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуясь этою темнотою… Виноват! простите меня, ваше превосходительство! Униженно прошу извинения! Я только оскорбленный муж, больше ничего! Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник: я не любовник! Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна!
– Что? что? что вы осмеливаетесь говорить? – закричал старик, снова затопав ногами. – С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про жену мою?
– Этот злодей, убийца, который умертвил Амишку! – кричала супруга, заливаясь слезами. – И он еще смеет!
– Ваше превосходительство, ваше превосходительство! я только заврался, – кричал оторопевший Иван Андреевич, – я заврался, и больше ничего! Считайте, что я не в своем уме… Ради Бога, считайте, что я не в своем уме… Честью клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее… Я был не один, я дядя… то есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника… Боже! я опять завираюсь… Не обижайтесь, ваше превосходительство, – кричал Иван Андреевич супруге. – Вы дама, вы понимаете, что такое любовь, – это тонкое чувство… Но что я? опять завираюсь! то есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек, а не старик, – что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Ловелас… я заврался; но вы видите, ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство! Рад, рад, что провокировал смех ваш, ваше превосходительство. О, как я рад, что провокировал смех ваш!
– Боже мой! какой смешной человек! – кричала дама, надрываясь от хохота.
– Да, смешной, и какой запачканный, – заговорил старик, в радости, что засмеялась жена. – Душечка, он не может быть вором. Но как он зашел сюда?
– Действительно странно! действительно странно, ваше превосходительство, на роман похоже! Как? в глухую полночь, в столичном городе, человек под кроватью? Смешно, странно! Ринальдо Ринальдини, некоторым образом. Но это ничего, это все ничего, ваше превосходительство. Я вам всё расскажу… А вам, ваше превосходительство, я новую болонку достану… удивительная болонка! Этакая шерсть длинная, ножки коротенькие, двух шагов пройти не умеет: побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам принесу, ваше превосходительство, я вам непременно ее принесу.
– Ха-ха-ха-ха-ха! – Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. – Боже мой, со мной сделается истерика! Ох, какой смешной!
– Да, да! ха-ха-ха! кхи-кхи-кхи! смешной, запачканный такой, кхи-кхи-кхи!
– Ваше превосходительство, ваше превосходительство, я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваше превосходительство, я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна! Я напрасно подозревал ее.
– Жена, его жена! – кричала дама, со слезами на глазах от хохота.
– Он женат! неужели? Вот бы я никак не подумал! – подхватил старик.
– Ваше превосходительство, жена – и она всему виновата, то есть это я виноват: я подозревал ее; я знал, что здесь устроено свидание, – здесь, наверху; я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью…
– Хе-хе-хе-хе!
– Ха-ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха-ха! – захохотал наконец Иван Андреевич. – О, как я счастлив! о, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы! И жена моя совершенно невинна! я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство?
– Ха-ха-ха, кхи-кхи! Знаешь, душечка, это кто? – заговорил наконец старик, освобождаясь от смеха.
– Кто? Ха-ха-ха! Кто?
– Это та хорошенькая, что глазки делает, с франтиком которая. Это она! Я бьюсь об заклад, что это жена его!
– Нет, ваше превосходительство, я уверен, что это не та; я совершенно уверен.
– Но, Боже мой! Вы теряете время, – закричала дама, перестав хохотать. – Бегите, ступайте наверх. Может быть, вы их застанете…
– В самом деле, ваше превосходительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше превосходительство; это не она, я уверен заране. Она теперь дома! А это я! Я только ревнив, и более ничего… Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше превосходительство?
– Ха-ха-ха!
– Хи-хи-хи! Кхи-кхи!
– Ступайте, ступайте! А когда пойдете назад, так придите рассказать, – кричала дама, – или нет: лучше завтра утром, да приведите и ее: я хочу познакомиться.
– Прощайте, ваше превосходительство, прощайте! Непременно приведу; очень рад познакомиться. Я счастлив и рад, что всё так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему.
– И болонку! Не забудьте же: болонку прежде всего принесите!
– Принесу, ваше превосходительство, непременно принесу, – подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было раскланялся и вышел. – Непременно принесу. Такая хорошенькая! точно ее кондитер из конфетов сделал. И такая пойдет – в собственной шерсти запутается и упадет. Такая, право! Я еще жене говорю: «Что это, душечка, она всё падает?» – «Да, миленькая такая!» – говорит. Из сахару, ваше превосходительство, ей-Богу, из сахару сделана! Прощайте, ваше превосходительство, очень, очень рад познакомиться, очень рад познакомиться! Иван Андреевич откланялся и вышел.
– Эй, вы! Милостивый государь! Постойте, воротитесь опять! – закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу.
Иван Андреевич в третий раз вернулся.
– Я вот Васьки-кота все не отыщу. Не встречались ли вы с ним, когда под кроватью сидели?
– Нет, не встречался, ваше превосходительство; впрочем, очень рад познакомиться. И почту за большую честь…
– У него теперь насморк, и всё чихает, всё чихает! Его надо высечь!
– Да, ваше превосходительство, конечно; исправительные наказания необходимы с домашними животными.
– Что?
– Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для водворения покорности в домашних животных.
– А!.. ну, с Богом, с Богом, я только об этом.
Вышед на улицу, Иван Андреевич стоял долгое время в таком положении, как будто ожидал, что с ним тотчас же будет удар. Он снял шляпу, отер холодный пот со лба, зажмурился, подумал о чем-то и пустился домой.
Каково же было его изумление, когда дома он узнал, что Глафира Петровна уже давно приехала из театра, уже давно как у ней разболелись зубы, как посылала за доктором, как посылала за пиявками и как она теперь лежит в постели и дожидается Ивана Андреевича.
Иван Андреевич ударил себя сначала по лбу, потом приказал подать себе умыться и почиститься и наконец решился идти в спальню жены.
– Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет! Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь: жена умирает, а вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили, хотели расстроить свидание, которое я не знаю кому назначила? Стыдно, сударь, какой вы муж! Скоро пальцами указывать будут!
– Душечка! – отвечал Иван Андреевич. Но тут он почувствовал такое смущение, что принужден был полезть в карман за платком и прервать начатую речь, затем что недоставало ни слов, ни мысли, ни духа… Каково же было его изумление, страх, ужас, когда, вместе с платком, выпал из кармана покойник Амишка? Иван Андреевич и не заметил, как, в порыве отчаяния, принужденный вылезть из-под кровати, сунул Амишку, в припадке безотчетного страха, в карман, с отдаленной надеждой схоронить концы, скрыть улику своего преступления и избегнуть таким образом заслуженного наказания.
– Что это? – закричала супруга. – Мертвая собачонка! Боже! Откуда… Что это вы?.. Где вы были? Говорите сейчас, где вы были?..
– Душечка! – отвечал Иван Андреевич, помертвев более Амишки, – душечка…
Но здесь мы оставим нашего героя, – до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность – страсть непростительная, мало того: даже – несчастие!..
Николай Лесков. Тупейный художник
Рассказ на могиле
(Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)
Души их во благих водворятся.
Погребальная песнь
1
У нас многие думают, что «художники» – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников[21]21
Сазиков П. И. (ум. 1868), Овчинников П. А. (1855–1888) – московские чеканщики по золоту и серебру.
[Закрыть] для многих не больше как «серебряники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи»[22]22
«Художником» Гейне называл сапожника (Гейне Г. ПСС. Т. 9. М.-Л., «Academia», 1936. С. 84); об «идеях» портного – там же. Т. 4. С. 240.
[Закрыть], а дамские платья работы Ворт[23]23
Ворт Чарльз Фредерик (1825–1895) – известный парижский портной.
[Закрыть] и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе[24]24
Шнип – выступ на поясе женского платья или лифа.
[Закрыть]».
В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет-Гарт[25]25
Брет-Гарт Френсис (1839–1902) – американский писатель. Речь идет о его рассказе «Разговор в спальном вагоне» (1877).
[Закрыть] рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные «утешительные выражения», свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.
Было несколько степеней этого искусства, – я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с Богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город.
Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни…
Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.
2
Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.
Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.
Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.
Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица.
Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и… иногда запивала.
Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.
Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».
3
Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями, – словом, художник.
Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».
При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михаила Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.
Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:
– Погляди-ка, милый, туда… Видишь, какое страшное?
– Страшное, няня.
– Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.
Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.
4
Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда на «мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.
– Призовут его, бывало, – говорила Любовь Онисимовна, – и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался, – так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.
Словом, тупейный художник был красавец и «всем нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того всегда держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.
Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог и один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил[26]26
Алферьева Акилина Васильевна (1790 – ок.1860) – бабушка писателя по матери.
Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?» – Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. (Прим. авт.)
[Закрыть].
Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразиго умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.
А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и «военного воображения».
И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, – он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.
Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы…
– Нас, актрис, – говорила Любовь Онисимовна, – берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилиц; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.
Завет целомудрия мог нарушать только «сам», – тот, кто его уставил.
Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли наглядкою».
В каких именно было годах – точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.
Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».
Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.
Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.
– Тут, – говорила Любовь Онисимовна, – я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал – заглядение.
Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:
– За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.
«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизированную innocence [невинность (франц.)] доставляли на графскую половину.
– Это, – говорила няня, – по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.
6
А в эти самые роковые часы другое – тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.
Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже, и давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.
А требовалось много.
– Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, – говорила няня. – Тогда во всем форменность наблюдалась и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе, – как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, – от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали – от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось – чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.
Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.
7
Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.
Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:
– Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь – бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, – то сейчас убью.
А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.
В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили – рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, – думают, – и с твоим золотом».
– Мы, – говорят, – этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие.
Это один графский Аркадий может.
Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:
– Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.
Граф отвечает брату:
– Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь – разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?
Тот говорит:
– А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.
А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.
– После того, – говорит, – если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется, – я его запорю и в солдаты отдам.
Брат и говорит:
– Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою[27]27
Водвою – одновременно, сразу.
[Закрыть] вместе это не сделаешь.
– Хорошо, – говорит граф, – пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.
– И это, – говорит, – последнее твое слово, брат?
– Да, последнее.
– И в этом только все дело?
– Да, в этом.
– Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А там уже мое дело, что он сделает.
Графу неловко было от этого отказаться.
– Хорошо, – говорит, – пуделя остричь я его пришлю.
– Ну, мне только и надо.
Пожал графу руку и уехал.
8
– А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.
Граф призвал Аркадия и говорит:
«Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя».
Аркадий спрашивает:
«Только ли будет всего приказания?»
«Ничего больше, – говорит граф, – но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией».
Аркадий Ильич пошатнулся.
Граф говорит:
«Что это с тобой?»
А Аркадий отвечает:
«Виноват, на ковре оступился».
Граф намекнул:
«Смотри, к добру ли это?»
А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.
Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.
9
– Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.
Графов брат говорит:
«Пуделя у меня никакого нет, а вот иве что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине и получай десять золотых, а если обрежешь – убью».
Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, – господь его знает, что с ним сделалось, – стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:
«Прощайте».
Тот отвечает:
«Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?»
А Аркадий говорит:
«Отчего я решился – это знает только моя грудь да подоплека»[28]28
Подоплека – подкладка рубахи (в основном у крестьян) от плеч до середины груди и спины.
[Закрыть].
«Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?»
«Пистолеты – это пустяки, – отвечает Аркадий, – об них я и не думал».
«Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил».
Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:
«Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал».
И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:
«Не бойся, увезу».
10
– Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?