Читать книгу "ЯблоPad. Сборник рассказов"
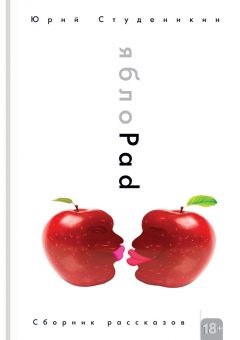
Автор книги: Юрий Студеникин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Часы показывали полдень. Яша, даже не позавтракав, засобирался в мастерскую. Шел он с неприятными чувствами.
Но, к его удивлению, замок на двери не висел, да и сама дверь была открыта. Только вот внутри, в сером фартуке и с молотком в руках, его ожидал совершенно другой человек. И тоже кавказец.
От всяческих катаклизмов и уловок работников сапожного цеха, Яшу, как он сам полагал, оберегала квитанция. Ее то он и положил на стойку, сопроводив действие вопросом.
– А Фрунзик где?
Сапожник печально посмотрел на нового посетителя, принял квитанцию и исчез в поисках заказа за ширмой. Оттуда подал голос.
– Заболел Фрунзик. А какую обувь вы сдавали?
– Да, собственно, это не обувь. Куклу сдавал. Такая большая-большая. Для мужчин, понимаете? Дыра у нее была там, где не надо, – понизив голос, произнес Яша.
Из-за ширмы высунулась бородатая физия сапожника. Глаза его походили на только что отчеканенные дореформенные пятикопеечные монеты, столь многозначительна была их округлость.
– Что вы сделали?
– Что? – переспросил Яша.
– Он ведь недавно жену похоронил.
– Я знаю. Я тоже, – зачем-то соврал художник.
– Ну, все! – Воскликнул бородач. – Теперь он ваш заказ не скоро вернет.
И как-то загадочно добавил.
– Если вообще вернет.
Яша не поверил. Он представить не мог, что больше не увидит свою Марину. Не порадуется синевой ее глаз, не ощутит прохладу ее гладких резиновых рук, не удивится призывной шири ее рта. На миг он вообразил девушку в объятиях Фрунзика и чуть не закричал от злобы. Но тут же с ним произошли странные перемены. Он вдруг посмотрел на себя со стороны – солидный тридцатисемилетний мужчина, член союза художников, которого любят бабы и привечает даже сама госпожа Глафира, муж и отец, бегает по каким-то дурацким мастерским, общается с придурковатыми эскулапами шин и ботинок вместо того, чтобы давно купить Изьяру новую резиновую бабу. И от мысли этой ему стало так смешно, что он тут же, не отходя от стойки, начал яростно захлебываться смехом.
Сменщик Фрунзика, видя странные перемены в клиенте (то человек чуть не плачет, то его раздирает истерика иного рода), сопоставил эти факты с утратой мужчиной жены, понял, что имеет дело с глубоко больным и стал куда-то звонить. Говорил по телефону коротко, сухо, по-армянски. Когда закончил, то выбежал вслед за неадекватным клиентом. Догнал Яшу на улице, записал его адресные данные. Еще раз извинился за действия напарника, пообещал исправить оплошность и удалился.
На следующий день, когда обретший ровность духа и эмоциональный покой художник уже собирался в интим-салон за новой резиновой женщиной, в дверь позвонили.
На пороге стоял черноглазый мальчик и держал в одной руке коробку из-под обуви, а в другой черный непромокаемый пакет. Он спросил у Яши – по правильному ли адресу он попал? Получив утвердительный ответ, передал в руки художника посылки и быстро убежал.
Первым делом Яша вскрыл пакет. Там была – ОНА. Даже без положенной по инструкции дозы воздуха в одну атмосферу были видны изменения в облике куклы. Кобальт в глазах совсем переродился в оттенки серого, точно так же утратили свою яркость и волосы, перси модели несли явную печать крепких мужских зубов, такие же следы художник отыскал и на ее ягодицах. Местами виднелись явные следы порезов, но все они были искусно заклеены. Юбка на кукле отсутствовала. Потертость ее превышала допустимые пределы. Взгляд Марины, ее беспредельно открытый рот как бы говорил – я полностью потеряна для общества, я на самом дне. И нечего меня жалеть!
Вновь в душе Яши все заклокотало.
Так унизить бедное резиновое создание! Так издеваться! Столь скоро изуродовать изделие, что по гарантии должно утратить свои кондиции лишь после годового использования?
Душа требовала мести. Неожиданно Яшин взгляд упал на забытую им у двери коробку.
«Это еще что?»
На дне коробки, отливая антрацитом, лежали дуэтом два мужских ботинка. Левый и правый. Сверху покоилась записка.
«Принашу сваи извинения. Спасибо за Пулхериу Ванну. Вэк не забуду. Твой друг». Факсимиле под запиской не значилось.
Яша нашел в себе мужество померить ботинки. Они были впору.
Вся злость на армянского сапожника медленно летела прочь. Не снимая обуви, художник вновь потащил истерзанную в сексуальных киднепингах девушку на водные процедуры.
Часть третья
ПОЛЯНА ШОКОЛАДНОГО ЕДИНСТВА
Осень подметала влажной метлой пьяного ветра одинокие листья. В зеркалах луж, подернутых кракелюрами первых заморозков, отражалась бесконечность неба.
Яша торопился. Местом показа новой инсталляции Изьяра стала небольшая площадка возле реки. Время для перфоманса адвокат выбрал как нельзя кстати – река, природа, солнце. Не слишком сырой, но в меру ветреный день радовал зрителей уже тем, что был ярким, ароматным, без дождя.
Художник подошел вовремя. Немногочисленные приглашенные на таинство были подогреты спиртным в мере, достаточной для длительного пребывания на свежем воздухе. Инсталлятор уже объяснял своим поклонникам, что его интерактивное действо в целом посвящено дню национального единства и примирения, а в частности – любви.
На этот раз никакими музыкальными терминами его речь не изобиловала. О порядковых номерах в шоу тоже не говорилось. Хотя все же Изьяр разбил свою инсталляцию надвое. Сперва – кулинарно-эротическое действо и лишь затем, собственно, само единение.
Из чего оно должно было проистекать, понять было сложно. Возле фонтанирующего творческой энергией адвоката стояла табуретка, газовый баллон, походная горелка да новая Изьярова спутница, но не менее красивая и стройная, чем предыдущая. Правда, на горелке грелась кастрюля, внутренности которой издавали неприятные чавкающие звуки, но, по мнению художника, да и окружавших его людей, желания моментально объединиться не вызывавшие.
Завидев в толпе смотрящих Яшу, Изьяр оживился пуще обыкновения.
– Наконец-то, наконец, я вновь увижу свою девочку, – заголосил адвокат.
Яша подошел к мастеру инсталляции, вынул из сумки женский муляж для любовных утех и протянул Изьяру.
– Долго, долго вы с ней уединялись. Цела хоть?
– Обижаешь, – только и ответил Яша. Протянул куклу Изьяру.
– А чего это она потертая такая? И волосы, вроде, чернее были? И глаза не карие? Ты что это с ней такое делал? – издевался над Яшей адвокат, рассматривая, как заправский гинеколог, им же единожды убиенную куклу.
– Днями и ночами, – отшутился Яша и вклинился в толпу зрителей.
Здесь же он нашел и Хлиповецкого в обществе новой молодухи, и Эрастова в сильном подпитии, и отчего-то сильно похорошевшую госпожу Глафиру, и слегка потискивающего ее скульптора Ярошенко, и вечного хроникера всех галерейных беспутств – известного фотографа Вадима.
Пока Яша здоровался со всеми, за его спиной что-то происходило. И не успел художник рассказать другу Хлиповецкому всю историю своих перипетий, как инсталлятор посредством газового баллона успел надуть девушку, да не одну!
Дружным хороводом, скрепленные по рукам липкой лентой, на небольшой высоте плавно покачивалась резиновая троица – две девушки и юноша. И лишь трос, закрепленный за табурет, не давал группе кукол взмыть вверх. Ветер теребил обнаженные тела, отчего всем присутствующим, при виде их становилось зябко.
Кто-то из зрителей вслух высказал эту мысль, и Изьяр с помощницей тут же стали макать в чавкающую кастрюлю кисти. Коричневой, твердеющей на ветру массой, они принялись обмазывать ноги, бедра и плечи кукол. Когда окрас завершился, то Изьяр предложил приблизиться к хороводу и, не стесняясь, покусать троицу. Темно-бурой массой, облепившей тела кукол, оказался шоколад. Он застыл на их чреслах неровными буграми, отчего вся троица походила на трех пьяных китайских шахтеров, прямо в забое решивших отметить перевыполненный план.
Гастрономического удовольствия, кроме озабоченного поисками закуси поэта Эрастова, испытать никто не изволил. В этот раз адвокат ему не мешал, а всячески способствовал приему пищи. Честно дождался, когда тот прожует, оближется и лишь затем отвязал веревку от табурета.
У всех на глазах дружная троица слегка качнулась в одну сторону, в другую, девушки завалились на парня, но тот все же выдюжил и, влекомый хулиганом-ветром, потащил за собой и дам.
Подгоняемая свистом, угугуканьем и хлопками, шоколадная инсталляция неслась неведомо куда по просторам России.
«Куда несешься ты, тройка? Куда летишь, Русь?» Яша сплюнул от пришедшего в голову неуместного сравнения. Сегодня он был доволен. Сегодня никто никого не приговорил. А его Марина, та, настоящая (а не новая, купленная на замену), хоть и в меру потрепанная, но все же целая, лежала сейчас в мастерской на полке, готовая для чего большого, светлого, нового. Он не знал точно для чего, но чувствовал, что она не зря досталась ему. Что она должна каким-то образом изменить его, и его жизнь.
И она изменила.
Эпилог
Адвокат Изьяр забросил практику и теперь ездит по свету, представляя в крупных галереях планеты свои перфомансы и инсталляции.
О нем постоянно пишет и говорит ставший популярным человеком на телевидении журналист Хлиповецкий.
Поэт Эрастов выпустил книгу, но сразу после этого устроился на работу администратором в крупную торговую сеть.
Скульптор Ярошенко зачем-то женился на госпоже Глафире, а она сама неожиданно продала галерею и уехала с новым мужем в Америку.
И только художник Яша остался тем, кем был. Он по-прежнему пишет картины, но вместо привычных всем солнечных пейзажей он все чаще обращается к теме женщины. На его полотнах уже не раз возникал образ одинокой дамы с непомерно синими глазами и таким же несоразмерным ртом. Аудитория его поклонников резко сменилась. Яшины творения пользуются успехом у молчаливых парней с тяжелым взглядом и серым лицом, да иногда у кавказцев. Его картины покупают все реже и реже. Но Яше на это наплевать.
Некрасивые мысли
В голову лезли. Лезли некрасивые мысли. Мысли о счастье.
Ну как же могут быть мысли о счастье, скажете вы, некрасивыми? И будете неправы – могут. И как могут, и еще какие еще некрасивые. Мои мысли самые, то есть самые-самые, некрасивые. Как у Ржевского. У поручика. То есть вот такие – как доставить счастье женщине (а я альтруист по натуре), а даже и через постель. Нет, не подумайте, я в свои тридцать шесть знаю КАК. Доставляли-с и доставляем-с. Я о радости мимолетной встречи. Об искре, о полете. Чтобы вот – один взгляд и уже рука в руке, и уже одним пульсом, уже в одном ритме, и – куда?… ко мне? …нет, я тебя еще плохо знаю, давай ко мне? И завертелось, закружилось – след сохранившей тепло одежды от коридора до спальни, сбитые подушки, простыни, «сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье» и т. д.
Так я мечтал, пока эскалатор затягивал меня в горловину подземки. А наверх, навстречу шел другой поток. Живой. Я всмотрелся – а живой ли? Какие-то все изможденные, замученные, со штампом проблем. Глаза без света, лица без счастья. Особенно женщины.
И тут я связал те свои некрасивые мысли с этими – о лицах, глазах, о счастье. О том, что – кто же, если не я? Ну ведь да же, да – я могу. Могу ведь. Некоторые не могут, а я могу (проверено) просто так подойти, легко познакомиться и предложить провести вечер. И статистику знаю. По ней, во-первых: их, женщин, больше. А раз больше, то даже и без всяких вторых – счастливых много-много меньше выйдет. Потому как, ну, недостача же по нам, мужчинам. И какая-то большая недостача, и все растет и растет. А тут как раз я: а не хотите ли под бокал шампанского… нет? – следующая и т. д. Только поймите правильно – я не маньяк. Просто взять и «шишку попарить», как говаривал когда-то наш армейский прапор, это в прошлом, это для молодых. Я – счастья хочу. Я осчастливить хочу. И могу. Вот эту, например…
Но пристальнее вглядываясь в лица, выбирая, так сказать, «жертву счастья», я все сильнее разочаровывался. Что-то меня все ломало. И дело даже не в пресловутом Ржевском. Не в том, что я мог запросто получить оплеуху за свои некрасивые, упакованные в хоровод сладких слов мысли. Дело в самом объекте. Стоя в центре зала, я пересмотрел уже целый взвод кандидаток на неминуемое счастье, но все они строем ушли в брак.
Старею! Раньше все подошли бы. Раньше нравилось все. Все, что шевелится. Или вкус поменялся? Нынешний – чтобы без изъяна, чтоб прям с конвейера. Нет, дарить тепло и ласку – дело хорошее, но о себе-то, о себе, любимом, тоже подумать не грех. Ну зачем же кикиморе радость встречи со мной дарить, если и красавицы в очередь за счастьем стоят. И статистика согласна.
И только я об этом подумал, гляжу – идет, улыбается, глаз горит – на меня смотрит. Ну, иди же, иди ко мне, родная. И у самого мысли-то уж совсем некрасивыми стали: прямо на ходу ее глазами раздевать стал; руки как-то сами по телу-то ее стройному поползли, полезли. Уже и до сокровенных мест добрались… как смотрю – из-за меня, из-за спины моей кто-то высокий, стройный, мужеский выныривает с букетом и, обгоняя, направляется к ней. А она к нему.
Н-да! Не увидит, не познает, думал я в тот миг, она счастья со мной. Ну и пусть, пусть ей такое наказанье. Нет ей счастья.
Но после этого случая, после облома этого, как-то с кандидатами совсем туго стало. Подувял подиум. Как свет поубавили: лица еще серее стали.
Но тут сверкнуло, заблестело что-то, выделилось из общего: черные волосы россыпью по красному пальто. И лицом союзна с остальным телом: со стройными ножками – червоными сапожками. И что подкупает: улыбка. У других взгляд дохлой лошади, а у этой – рот до ушей, блеск в глазах. А это для меня, знаете ли, как коту валерьяна. А в голове уже мысли. Уже она без пальто, уже в позе, и ноги не просто на ширину плеч, а просто таки на плечах. На моих, стало быть, плечах.
Подхожу. Представляюсь: продавец счастья, говорю, то есть не за деньги, а как бы в обмен. Вы мне, я – вам. И вот тут – ну лучше б молчала. Лучше б и дальше лыбилась. И дело даже не в том, что сказала. А в амбре. Вот чем по-вашему должен пахнуть объект, созревший для счастья? Цветами, морем, шампанским, наконец? От нее несло, нет – разило пивом. А у меня сразу ряд выстроился – Бавария, шпиг, жир, сало, и много-много пива. И стразу упало. Сразу я вспомнил, что у меня встреча. И засобирался.
Еду, а сам думаю: что ж такое? Никогда, никогда наш человек не станет счастлив. Ну, хоть талоны выдавай. Точно! Такие корочки с правом на ночь счастья. Увидел, понравилась, тогда подходишь, и говоришь: по лицу вижу – у вас счастья нет, а давайте я вам подарю. И талон под нос. Нет, отказать, конечно, может, вдруг замужем или по медчасти, но где-то там в талмудах, в каких-то кондуитах уже минус ей, уже прочерк с внесением, выговором и лишением. Чтоб думала лишний раз. А то взяли моду – лица кирпичом и чешут по делам. А ради чего? Куда спешат? А ради счастья-то и стараются, ради него и соки из себя давят.
– Извините, что отвлекаю, молодой человек. У вас такое лицо приятное, а взгляд грустный. Может, я помочь чем могу? Исправить?
Из мыслей меня вытащила девушка. Симпатичная, даже милая. Ну, зачем? Кто ее просил обрубать мечту, отвлекать от таких приятных некрасивых мыслей.
– А?… что?… что исправить? …слушайте, девушка, идите-ка вы со своей помощью.
Двери открылись, и я вышел из вагона в поисках своего милого удобного счастья.
Мой любимый Пуздрыкин
Эта история о любви. И как каждая история настоящей любви, она имеет печальный конец.
Мой герой Петр Петрович Пуздрыкин не так чтобы очень стар, но уже далеко и не молод.
Голову его украшает светящийся даже от ничтожного источника света нимб лысины, в уголки глаз вкрались предательские кракелюры – годовые кольца Петра Петровича, – а от крыльев носа к бесцветному рту протянулись змеи-морщины.
Человеку, впервые увидевшему Пуздрыкина, может с устатку вообще показаться, что наш Петрович древний старик – из ушей, носа и прочих не занятых лысиной мест тянется к свету могучий бор седого мужского волоса. Но это впечатление обманчивое. Уже при втором, трезвом взгляде, он увидит цепкий, я бы сказал молодой, да уж что там – хитрый, с прищуром взгляд русского мужика. А идет он из самих лицевых глубин, из ставших сизыми от трудной и долгой жизни глаз Пуздрыкина, которые, в свою очередь – глаза, в смысле, – сидят на круглой, без утолщений и излишних длиннот, голове Петра Петровича. А она в свою очередь царствует на крепкой, тугой шее.
Обычно шея, и вся плоть, что выше, вплоть до самой лысины, светится, фосфоресцирует, сиречь блестит небесной голубизной – до такой степени выбриваемости лелеет Петр Петрович свою нежнейшую физию. Но в последние недели хозяин все еще крепких, но уже с налетом бульдожьей брылястости щек, совсем забыл нежный холод бритвенной стали. Да и есть от чего. Любимая, и единственная жена Петра Петровича, отрада глаз и услада тела занемогла. Да и не сказать, чтобы уж очень-то занемогла, почти и не хворала, не жаловалась принежнейшая его Елизавета, кстати, тоже Петровна, но как-то однажды ойкнула и теменем об пол – шлеп! С тех пор гиппократы и парацельсы из районной поликлиники за нумером 183, что от Петерочки через дорогу налево, безотрывно ставят ей диагноз – рак в третьей степени.
И вот лежит дражайшая Елизавета, кстати, Петровна, в отдельной теперь от Пуздрыкинской кровати под раритетным теперь лоскутным одеялом и молча смотрит невидящим взором в потолок.
А верный ее и ей Пуздрыкин ходит со своей небритой сизостью и нечесаной лысостью вокруг плиты и воет. А и то – кому теперь готовить вкусные с наваром борщи, лепить и жарить по воскресеньям расстегаи, заливать заливные?
Ходит Пуздрыкин кругами и воет. Воет и вспоминает былую жизнь. А нет-нет, да подойдет к серванту, где с незапамятных времен у них с женой хранится запас так нужного в трудную минуту любому бойцу с несчастьями зелья. Нет-нет да откупорит бутылочку беленькой, да-да, да и вольет в себя с полсоточки. А и побежит-растечется по организму бодрящее настоянное набодяженное да отфильтрованное, а с ним приходят к Петру Петровичу странные, предательские мыслишки.
– Скорей бы уже. Всю квартиру провоняла. А Лизку похороню, за тещу возьмусь – выгоню ведьму.
– Знаю. Небось, уж хоронишь ее?!
Это не совесть Пуздрыкина вещает. Это тяжелая, в смысле близкого родства, тещина длань наваливается на плечо Петра Петровича, едва тот ополтинился, и момент забвения бытия соединяется в нем с мечтой о будущем.
С тех пор, как нежнейшая и единственная Елизавета Петровна прилегла под лоскутное, в лысую голову Пуздрыкина не раз уже влетали таежные в своей негуманной дикости мысли о несправедливости мироустройства. Он все не мог взять в толк, от чего еще цветущая Елизавета свет-Петровна загнулась во цвете лет, а древняя немощная теща живет и о погосте не заикается?!
«Нельзя ли устроить рокировку?! – молил в такие минуты Петрович Господа. – А то – лучше пусть уж обе. Я бы молодую нашел. С третьим номером».
Но уж целый месяц из облаков знака не слали.
– Знаю. Небось, думаешь – Лизка помрет, и теща за ней вслед. Шоб тебе одному тут на сорока метрах. Знаю я вас, блудодеев. Не дождешься.
Подобные профилактические беседы теща устраивала Пуздрыкину по два-три раза на дню. И неизвестно от чего Пуздрыкин больше уставал: от нескончаемого ожидания вдовства или от старческого брюзжания.
Как-то однажды, когда отчаявшийся от голода Пуздрыкин наконец преодолел в себе фобию и подошел таки к плите на расстояние достаточное, чтобы из трех яиц, кабачковой икры и банки с горошком соорудить некогда обожаемую им яишню, из-за холодильника вынырнул и пошел на него всей своей невесомостью и бестелесностью тещин силуэт.
– Слушай, Петьк.
Пуздрыкина насторожило и вспугнуло не само явление тещи, а ее заход. Последний раз она к нему обращалась так, когда сломалась машина, и срочно потребовалось перевезти на дачу холодильник, шкаф и чугунную ванну. Момент испуга вызвало то, что план по перевозу Пуздрыкин тогда выполнил, положив на алтарь родственной любви позвоночник. Диагноз – остеоартроз поясничной области – теперь полностью совпадал с прогнозом синоптиков на циклон.
– Слушай, Петьк, – повторила теща. – Ты бы съездил в Удельное?! А?! Снял грех с души?
– Какой еще грех? Никуда я не поеду.
Со словами «дай я, Петюнь» старушка вырвала из рук Пуздрыкина сковородку и принялась из тех же ингредиентов жарить что-то свое. Петр Петрович, не желая до кончины супруги портить с тещей отношения, сел на стул и настроил локатор носа на божественные ароматы. До его слуха теперь долетал и запах жареного лука, и чеснока, и (Петр Петрович не мог в это поверить) ко всему этому примешивался явно различимый запах мяса.
«Ведьма!» – сделал открытие Пуздрыкин.
– Знаю! Знаю, что не хочешь никуда ехать. Но вдруг, Петюнь. Всят-ко в жизни бывает. Съезди, а. Говорят она баба дельная, и не таких на ноги подымала.
– Да к кому ехать-то, не пойму?
Теща повернулась, и Пуздрыкин чуть не упал со стула. На сковороде скворчали янтарные розвальни желтка. Вокруг них в белой пенящейся глазури, как пузыри в ливневой луже, прыгали и шипели мелкими потревоженными гадами червяки сала. От увиденного Пуздрыкин чуть не лишился сознания. Теща же ставить сковороду на стол не торопилась. Описывая ею перед носом зятя круги, она приговаривала.
– Ты съезди, а. Адрес у меня есть. Расскажешь ей, что да как. Ее Марья зовут. Знахарка. Может, сколдует чо. Говорят, она зелье варит. Никого без зелья не отпускает. На травах, на корнях, на духе людском, что от сердца идет. А я знаю, ты же любил Лизку-то. Так, чай, съездишь, Петюнь, а?
После седьмого по счету оборота сковороды вокруг Петюниного носа, у обладателя обширной лысины и трехнедельной щетины на голове от голода взбухла и запульсировала венозная жила, а и без того сизые от прожитых лет глаза Пуздрыкина стали медленно заволакиваться туманом бессознательного.
– Поеду, – прохрипел он, а сковорода легла на стол.
Экипированный к походу Пуздрыкин стоял в прихожей и перлюстрировал свою походную сумку. Отпросившись с работы на неделю, Пуздрыкин для себя решил, что на самом деле никуда не поедет. Даже и до вокзала не дойдет.
«Жену завтра-послезавтра и так бог к себе призовет – так зачем? Устрою себе отпуск. Покучу», – думал он.
Невербальное воплощение этого «покучу» Петр Петрович видел в лице непременно двух отвязных девиц старшего пубертатного возраста, каждая из которых долженствовала носить лиф не менее третьего размера.
– Только давай так, милок, – заскрипело из коридора, и Пуздрыкин сразу вспомнил себя, только лет на 40 моложе, пойманным на воровстве батареек. Лицо предательски залил сурик стыда. – Вернешься – билет покажешь, а то я тя знаю – за угол и к бабам. А Лизка помирай. Вот, держи. Для лекарства.
И теща протянула зятю пустую бутыль. Не желая лишний раз растрачивать себя на споры, Пуздрыкин вывалился из квартиры.
Но, едва отойдя от дома, первую часть замысла решил осуществить. Купил бутыль Новотерской, зашел за угол и у гаражей стал переливать содержимое в тещину тару.
– Да, если вдруг по дурости решишь не ехать или там воды из колонки набрать – знай, – пригвоздил Петровича к месту знакомый до смерти скрип связок, – Лизка хоть и плоха, но еще в сознании. Шепну – так завещание враз перепишет.
– Да что вы, мамо…. Я это …я вот тут…
– Ну да, ну да. Пить захотел.
Новотерская выскользнула из влажных рук Пуздрыкина и с шипением покатилась по земле. Теща посеменила к дому.
Протягивая вагонной проводнице билет, Пуздрыкин то и дело озирался и смахивал виноградного калибра пот с мощного лба. Он всей ширью спины чувствовал тещин взгляд в недрах вокзала. Когда состав тронулся, он еще долго всматривался в пустой состав – нет ли погони? И даже когда поезд проходил Подольск, Пуздрыкин вздрогнул: в промелькнувшем за окном силуэте привиделись знакомые черты.
Успокоился Петр Петрович только под Курском, когда пейзаж за окном со скучного и плоского сменился на рельефный с впадинами и холмами. География пространства сразу ввергла истосковавшееся по прекрасному Пуздрыкинское воображение в мечту о третьем размере. Его уста перестали произносить пугающую соседей по купе фразу «ведьма, ведьма», а в мозгу возник привычный образ кутежа.
Мой герой прибывал к месту высадки.
Город Удельное, являющийся конечным пунктом путешествия Пуздрыкина, имел мистическое расположение.
Иной путешественник, взявший за цель прожить в Удельном энное количество дней или даже лет, по каким-то неведомым причинам проезжал его мимо, так ни разу и не побывав в нем. Другие же, имевшие цель проскочить Удельное транзитом, неожиданно зависали в его многочисленных барах и кабаках, изрядное количество коих наблюдалось по большей части в единственной гостинице и возле вокзала.
В одном и таких шалманов под вывеской «Кафе «Семейное» приводили организм в чувства два юных и прекрасных создания. Милое, очаровательное, правда и не без типичного для представительниц среднерусской возвышенности муара тупости, лицо блондинки Тани имело патину вселенской усталости. И ничто, поверьте, ничто, ну разве только большой розовый бант в хвосте волос, да узкие, подпирающие черную кожаную юбку ботфорты, не выдавало в ней опытную путану.
В диссонанс ей, на лице ее коллеги Леры пестрела дешевым китайским калейдоскопом целая палитра чувств. Опытный глаз сутенера мог вмиг выявить и сожаление, и жалость, и даже неподдельную радость в виду скорой разлуки с конкуренткой.
– Да ты чо, Танюх. Вот фа-а-к! – нараспев произносила Лера.
– Вот так, Леруха. Была баба, а теперь фуй – нетути, – отвечала ей Таня.
Тут надо сказать, что эта милая и очаровательная девушка с одним незаконченным высшим имела необычный дефект речи – не могла в некоторых словах произносить букву «ха». Правда она так же не могла произносить и другие буквы в некоторых других словах. Каждый раз словосложение происходило по какому-то одной ей ведомому пути, что, впрочем, никак не мешало собеседникам не только понимать Таню, но и вести с ней интенсивный диалог.
– Не смогу нафуй, дядишек иметь, мля. А если операцию не сделать, то через месяц ваще хопа. С медными ручками. «Пятьсот человек на сундук мертвяца, йохохо…»
– Фак, Танюха. Реально фак. Ой, как мне тебя жалко, – искренне признавалась Лера.
– Да в пихте я видала твою жалость.
– А чего говорят-то? Спид? сифак?
– Дура ты, мля. Стала бы я тут с тобой. Пофер уже, что. Жизнь авно. Давай бухать. Веселья хочу. Радости.
И хоть веселиться обеим выходил ну совершенно неурочный час, обе прелестницы с живостью принялись воплощать программу минимум.
По какому такому сигналу свыше Пуздрыкин выбрал для кутежа кафе «Семейное» он не сказал бы и под пытками. Пристроив еще крепкий, но довольно широкий зад на витой металлический стул и послав официанта выполнять заказ, он стал вспоминать события прошедшего дня.
Сойдя на ничем не приметной станции города Удельное, Петр Петрович прошел в здание вокзала. Он обратился к первой же попавшей на глаза женщине.
– Гражданочка, вы не подскажете, где тут у вас Мария обитает. Колду… тфу ты! Знахарка.
Запеленатая крест-накрест на манер военных беженцев в цветастый восточный платок женщина махнула куда-то в сторону от перрона рукой и поспешно скрылась. Пуздрыкин удивился такой красноречивой немногословности удельчанки, подцепил сумку и двинул в указанном направлении. Миновав прямоугольник небольшой вокзальной площади с посеребренным Ильичом, Пуздрыкин вновь решил пообщаться с аборигеном. И второй житель города вновь оказался столь же скуп на слова, обошелся всего лишь кивком головы в неизвестном направлении. Дойдя до первого же перекрестка, Петр Петрович вновь остановился с намерением точно узнать адрес целительницы. Но все, к кому бы он ни обращался, пожимали плечами, мотали головами, и закатывали глаза в неведении.
Пуздрыкин уже начинал отчаиваться и строить стратегические планы на отступление: в конце концов – истребованные тещей билеты жгли карман, а идти дальше, думал он, нет смысла – от рака третьей степени еще никто не оживал. Но скорее по инерции, нежели по желанию найти Марью, Пуздрыкин обратился к полусогнутой фигуре в неприметной куртке с грязным полуоторванным воротником.
– Товарищ, вы не подскажете, где тут Мария обитает? Целитель.
Фигура зацепила взглядом Пуздрыкина, зачем-то поозиравшись, ответила.
– Червонец дашь – покажу!
– Не понял? – удивился Петрович.
– Че непонятного? Не хватает. Трубы горят. А так – сам ищи.
Пуздрыкин вынул кошелек и достал запрашиваемую сумму. Фигура схватила деньги, согнулась и довольно бодро зашагала в сторону вокзала. Пуздрыкин этому факту удивился, но последовал за удельницким бедекером. Шли довольно быстро. Миновали вокзал, пропали каменные дома, пошли дворы, когда фигура вдруг резко остановилась.
– С тебя еще червонец… лучше три.
– То есть? Мы ж договорились.
– Ну, как знаешь, – и человек бодро пошел от Пуздрыкина прочь.
Петрович опомнился. Закричал вслед. Вернувшийся мошенник выпросил еще червонец. После совершенной сделки, вымогатель сразу указал на дом и заговорщицки сообщил, что стучать надо непременно во второе окно три раза.
Пуздрыкину стало не по себе – от тещи он никаких конспиративных инструкций не получал. Подойдя к ветхому, одноэтажному, бревенчатому строению с узором выцветшего наличника, Петр Петрович сделал все так, как сказала фигура.
Постучал. В окне показалось скуластое женское лицо с четко очерченной линией черных бровей. Женщина поозиралась на манер человека в куртке и приоткрыла окно.
– Ну?!
– Вы Мария?
– Ну-дык.
– Теща сказал вы помочь моежете. У меня горе. Жена болеет. А у вас, говорят зелье целебное….
– У вас у всех одно горе, – перебила Мария. – Сколько тебе, одну бутылку? Две?
– Одной хватит, – протянул Пуздрыкин, одновременно удивляясь и радуясь скорости провинциального обслуживания. Он-то рассчитывал на долгую и тяжелую беседу, с вытягиванием из потаенного нутра всего самого-самого, во что боялся заглянуть и сам, с рассказом от чего, когда и сколько болеет жена.
Марья ненадолго скрылась. Пуздрыкин отвернулся от окна и стал разглядывать унылый пригородный пейзаж. Он уже думал, как будет искать дорогу к вокзалу, когда его окликнули.
– Заснул? Деньги давай? Двести.
Пуздрыкин точно помнил, что о деньгах в тещином рассказе речь не шла. Совершая товарообмен, он все же решил высказать сомнение.
– А поможет?
– Идиот?! Она ж на шишках.
– А мне говорили, что на травах будет?
– На каких травах? Я на травах отродясь не гнала. Ты че, ушастенький…
Дорогой читатель, тут надо сделать отступление и исправить досадную оплошность, совершенную автором в начале повествования. Дело в том, что портрет моего героя был бы неполон без такой важной детали, как уши Петра Петровича. Пуздрыкинские локаторы лет до девяти являлись причиной родительской гордости Пуздрыкиных. В старших же классах причиной ненависти и даже одной безуспешной попыткой самоубийства, они стали на всю оставшуюся жизнь его отличительной портретной чертой. Не без гордости молодая тогда жена, Елизавета, кстати, Петровна, шептала после соития в эти самые уши, что полюбила Пуздрыкина только за них. Это признание одновременно вызывало в их хозяине и чувство гордости и ставило в тупик – он-то думал, что выбран за другое. А немногочисленные художники, коим чета Пуздрыкиных доверяла писать себя на прибрежных круазетах Ялты и Антальи, первым делом начинала закрашивать холст с двух симметричных полусфер. Уши обладали одной особенностью – стоило кому-то, хоть даже хозяину, прикоснуться к ним, как они начинали жить жизнью морских моллюсков – тут же норовили сложиться внутрь, отчего Пуздрыкин сразу глох.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































