Текст книги "Варшава в 1794 году (сборник)"
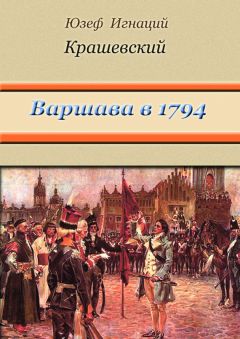
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Что у вас? Болеете? – спросил я. – Но этого быть не может?
– А! Нет… да, мне немного нехорошо, – произнесла она тихо, – скажите мне, кому тут в такое время здорово и весело быть может? Все мы сидим будто на бочке пороха, которая каждую минуту может взлететь на воздух! Ежели не о себе, мы мучаемся за страну, за родину, за дорогой город! О себе тревожиться даже не годилось бы…
– Где пани Ваверская? – спросил я.
Юта долго смотрела на меня, прежде чем ответить.
– Достойная мать имеет много забот, – сказала она, – мне даже её жаль, я ни к чему непригодна, мужчины в доме нет, ремесло пропадает… не можем справиться.
Говоря это, она поглядела на меня и слеза тихо потекла из её глаз.
– Вот на эту беду, этот беспорядок, – добавила она, – не было иного спасения, как пожертвовать никому не нужной Ютой.
Я слушал, не понимая, она говорила дальше практически спокойно.
– Мать нужно освободить и помочь ей… вы знаете, что светится… вот панна Юта выходит замуж за простого челядника колёсного мастера, чтобы было кому вести дальше ремесло, потому что иначе мастерская пришла бы в упадок и бедная мать замучилась бы.
Правильная вещь, чтобы за столько родительских жертв ребёнок также отблагодарил послушанием.
Несомненно, что для меня в этом замужестве счастья не будет. Михалек, мой будущий, быть может, добрый парень, но неотёсанный, обтёсывать его уже не время, не поймёт он никогда Юты и Юта – его… но ремесло пойдёт дальше… колёсный мастер из него добрый и челядь удержит, и не запьёт…
Опустила глаза, вздыхая. Я, слушая эти признания, остолбенел, мне сделалось холодно, горячо, едва зажившая рана горела у меня как от железа, шумело в голове, темнело в глазах, охватывал гнев, злость и грусть.
Но какое же я имел право сказать хоть слово…
Она взглянула мне в глаза и должна была, наверное, прочитать в них всё, что я испытал, должна была понять, что мне закрывало уста.
– Ну, что же вы скажете на это? – шепнула она тихо.
– Мне ничего сказать нельзя, – сказал я тихо, – как я могу быть судьёй в этом деле или советником. Панна Юта, что я думаю, вы угадаете…
– Что хочешь, пан? Такая судьба! – отвечала она. – Не каждый может быть счастливым, но порядочным может быть каждый. Мать надо отблагодарить, это необходимо для её спокойствия. Скажу уже вам всё искренно, хотя я об этом только догадалась… мне кажется, что мама немного боится за меня… (смейтесь, пан), по вашей причине, и ускорит, может быть, женитьбу, думая, что вы мне из головы её выбьете…
Она не докончила…
Я был весь в огне.
– Мама нас подозревает, что мы любим друг друга.
– Мама угадала, – прервал я, – по крайней мере, в отношении меня, потому что…
– Тихо!! – воскликнула Юта. – О том ни слова, мы любим друг друга как брат и сестра, и так любить честно, свято, по-братски… мы можем до конца жизни, хотя я стану пани мастеровой… вы, может…
Я вскочил, как поражённый молнией.
– Могу поклясться всем самым святым, что никого не возьму, пока жив. Не могу вас иметь… не хочу иной.
– Клятв я не слушаю и не принимаю, – отозвалась Юта, – жизнь – долгая, требования её – жёсткие… Никто не может предвидеть своего будущего… мой поручик… ни слова о том…
Я сел молчащий. О чём-то другом говорить уже не мог.
Юта мне погрозила.
– Достойна братская любовь, – сказала она, – не должна быть кислой и грустной… вы знаете, что Михалек всё-таки из сердца мне не вытеснит моего товарища по оружию… этого достаточно… и – тихо.
Подошедшая мать прервала эту грустную беседу, удивилась и нахмурилась, увидев меня, но вскоре как-то восстановила привычное настроение и с простотой, свойственной народному обычаю, спешила выбросить из сердца новость о сватовстве Юты с паном Михалем.
– Мы будем вас просить на свадьбу! – воскликнула она. – И это вскоре. Как только Варшава будет свободна от неприятеля, выдаю замуж Юту… уже время… парня ей выбрала достойного, доброго ремесленника и не без гроша, а, что важней всего, что характер имеет добрый и работящий… и даже с лица ничего…
Старуха злобно рассмеялась, глядя на меня и на дочку, и подбоченилась.
– А что? А что? – спросил она. – Что вы на это скажете? Гм? Думаете, что я слепа и что не видела, что вам хочется к ней! Не хочу, чтобы вы меня напрасно баламутили и она…
– Мама, – прервала Юта.
– А ну, так! Так! – говорила старая. – Нечего в хлопок заворачивать!
Меня очень боднули слова пани мастеровой.
– Простите меня, пани, – отозвался я, – никогда ни словом, ни взглядом я не выдал того, что имел привязанность к вашей дочке, потому что собой не распоряжаюсь, не имею ничего, а имею родителей и семью, от которой завишу. Если бы был свободен… открыто старался бы о руке панны Юты…
Мастерова засмеялась, кивая головой во все стороны и по-прежнему для важности держась за бока.
– Всё это прекрасно, ладно! – сказала она. – Но, мой поручик, ты думаешь, что я не жила и света не видела. Ты сегодня любишь, готов на всё… но отдала бы я дочку на эту участь, которая бы её там ждала!! Тыкали бы в неё пальцем, как в мещанку и дочку ремесленника, кривили бы на неё носами шляхтинки, вам бы казалось, что ей милость делаете… а этого я не хочу! Кусочек хлеба по милости Божьей есть… тут она в доме пани и первая, там, пожалуй, была бы последняя. Тогда бы легко жизнь себе отравил и приписывал бы это жене, прошла бы, может, горячая любовь… а бедная Юта горько бы плакала. Я предпочитаю, чтобы она поплакала теперь, оттого, что ей немного жаль вас будет, но пусть имеет уверенную будущность. Значит, так, мой поручик, – прибавила она, – не гневайтесь на меня, я – мать, думаю о ребёнке… и что в сердце, то на языке.
Я встал со стула смешанный, желая как можно скорее уйти. Юта внимательно в меня всматривалась, желая узнать, гневаюсь ли я. Легко ей было прочесть по моему лицу, что я был грустный, смущённый, беспокойный, но не гневный. Простота и немного жёсткая искренность Ваверской разоружили меня… я страдал, однако же, и срочно мне было с этой болью и грустью как можно быстрей куда-нибудь скрыться от них.
Ваверская, посмотрев на меня, взглянув на дочку, от этого великого импульса внезапно остыла – жаль ей сделалось нас обоих. Если бы ей кто-нибудь противоречил, возмущался, она, несомненно, разгневалась бы и, раздражённая, не простила бы ни дочке, ни чужому – эта покорная сдача её воле смешала её. Согласно характеру и собственному понятию, было это для неё непонятным… Стояла она так, молчащая, как бы слишком далеко пустившись и не зная, что делать дальше. Начала кланяться и прощаться, желая уже уйти, и была бы она, наверное, рада тому, если бы не предвидела неприятной сцены с дочкой, взгляд которой обещал хоть мягкий выговор.
Задержала меня за руку.
– Я выпалила из-под сердца, просто старая баба, что языка не умеет удержать, но – мир! Теперь вы к нам, наверное, и носа не покажете, выпейте ещё кофе с нами и посидите, пока не остынете, чтобы от меня злым не уходить.
Она рассмеялась, глядя на меня. Я поблагодарил за кофе, старуха смолчала. Я попрощался с ней, не показывая травмы, подошёл поцеловать руку Юты, на что мать как-то очень неспокойно посмотрела, и, медленно шагая через комнату челяди, не глядя и не видя ничего, я достал до двери, которая за мной закрылась – словно этот порог я переступил в последний раз…
Мои господа, – сказал Сируц серьёзно, – было это первое в моей жизни глубокое чувство и, счастливым случаем, пробуждала его не гулящая девушка, но женщина, достойная привязанности и уважения. Могу сказать, что оно повлияло на всю мою жизнь. С этой горячей юношеской любовью, если бы я попал на иную, мог бы сам стать непостоянным – она сделала меня человеком и из юноши – мужчиной.
В этот день я не пошёл домой. Не хотел ни с кем встречаться, ни говорить, ни искать развлечений, побежал на берег Вислы, избегая людей, и, в самом грязном углу сев на кучи дерева на набережной, пробыл весь вечер. Моё собственное несчастье, которое я признать и показать стыдился, больше всего меня волновало… Город шумел там за мной, колокола били на Ангела Господня, солнце заходило… я не видел и не слышал ничего… был ошеломлённым… Пришла ночь и только холод и дрожь меня пробудили. Нужно было идти домой…
Добравшись до Краковского предместья, я услышал гул и волнение толпы, хорошо мне уже известные. Был это как раз тот памятный вечер семнадцатого июня…
В Краковском предместье что-то намечалось; возмущение было гораздо более серьёзным и страшным, чем в мае, того вечера по приезду короля.
Предвидя, что здесь готовится, я не хотел во второй раз быть свидетелем подобных сцен – убежал как можно быстрей домой… Не заходя даже к Манькевичам, я закрылся в моей комнате…
Но тут я также не мог найти отдыха.
Из города почти на протяжении всей ночи до меня доходили жестокие крики и грохот спешно летающих по городу карет и всадников. Ближе к утру, утомлённый, я едва мог вздремнуть. Не знаю, как долго я спал, когда меня разбудил стук в дверь, – был белый день, слуга деда звал меня, чтобы спустился вниз.
Я нашёл там несколько испуганных особ… я не знал ни о чём. Только от камергера, который почти потерял голос, я узнал о событиях дня и ночи. Одиннадцать виселиц стояло в городе, а на них сам народ вешал схваченных без суда виновных и невинных. Пьяная горсть предательски подстрекаемых людей, настоящий сброд, который найдётся в плохую годину в каждой столице, отпустил себе поводья, бунтуя формально против правительства и Рады, отбросив Килинского и едва силе характера Закревского давая, наконец, опомниться.
В конце концов, всё было окончено, власть восстановлена, но ужасные воспоминания этой людской слепоты и страстной справедливости остались, отчуждая от революции умы и сердца.
Упадок духа и тревога в городе были повсеместными. Менькевич ломал руки и хотел выезжать, но куда? В этот день пришли вести, что приближается Костюшко и что виновных в этом волнении не минует кара.
Более мелкие подстрекатели, по общему мнению, должно быть, были только инструментами людей, которые в подражании французской революции видели освобождение. Иные утверждали, что прусские эмиссары подтолкнули людей к этим сценам, чтобы сделать революцию отвратительной и дать повод мучиться из-за неё.
Состояние города делало жизнь в нём тяжелой, душной и невыносимой. На завтра после тяжёлого дня, поскольку моя рука ещё не позволяла примкнуть к войску, подхватил меня Килинский, чтобы я помог ему организовать польскую гвардию, и взял меня с собой на весь этот день, уговаривая даже на последующие, пока бы я деятельной службы не знал.
Я должен был с ним пойти в замок и в первый раз с давних пор очутился среди королевской резиденции, которую теперь мне трудно было узнать, потому что я её совсем иной ещё при Тарговице помнил.
Более грустной картины представить себе трудно. Замок почти весь день был пустым, большие залы закрыты, служба – уменьшенная, король – скрытый в кабинете, окружённый несколькими женщинами и семьёй. Из камергеров, пажей, адъютантов осталось едва несколько.
На лицах всех рисовалась молчаливая тревога, слова трудно было допроситься. Всё, казалось, ждёт какого-то избавления.
Я был хладнокровным, когда Килинский, попросив короля об аудиенции, пришёл ему объявить, что город уже спокоен, что бояться нечего и может доверять своему верному мещанству, которое никогда от него не отступит.
Король Станислав, лицо которого казалось мне страшно постаревшим и как бы застывшим от боли, вышел в шлафроке, молчащий, оглядываясь, напрасно пытаясь показать себя паном.
Речь Килинского, очень простая, но горячая, потому что это был сердечный человек, взволновала короля, он проговорил несколько слов благодарности, смущённый, оглядываясь, слушая как бы… Под веками чувствовались удерживаемые слёзы.
В эти минуты я забыл вины и ошибки этого царствования, человека мне искренне было жаль. Когда приём окончился, вздохнув, словно после тяжёлой работы, король быстро ушёл в кабинет.
* * *
Мы вышли с Килинским из покоев и я с ним вместе должен был заниматься уже этой гвардией безопасности, когда неожиданно в первый раз заметил воеводу Неселовского. Я даже не знал о пребывании его в Варшаве, а тем менее о том, что его назначили к судам.
Неселовский узнал меня.
– Сируц, – воскликнул он, – я тебя давно ищу и расспросить не могу… ради Бога, ты нужен мне… где ты был?
Я отвечал ему, что был выслан к Костюшки. Тогда я должен был попрощаться с Килинский и сесть с воеводой, который ехал из замка домой. Всё время дороги он был хмурый и молчаливый. Спросил меня о Костюшки и, не знаю, услышал ли мой ответ, потому что снова весь погрузился в мысль.
Наконец карета остановилась перед дворцом, мы вошли с ним в покои. О моих перипетиях в первые дни апреля воевода был осведомлён, я не нуждался в исповеди перед ним. Я знал его как горячего патриота, в эти минуты я нашёл его странно уставшим и грустным от оборота дела.
– Садись, Сируц, – сказал он, – у меня столько на сердце, что нужно выговориться. Человек голову теряет и не знает, что делать.
Он заломил руки.
– Плохо, – произнёс он, – безумцы взяли всё в руки и самое прекрасное дело они пятнают и портят. После того бедолаги Вульферци никто неуверен в жизни… Крикнет служащий, что вчера сбежал, на своего пана, что предатель, тогда его на биче вешают.
– Всё же это усмирилось, – сказал я, – и новых беспорядков нечего бояться.
Неселовский болезненно усмехнулся.
– Раз попробовали, – сказал он, – раз сделали… не уважали священников…
– Но это были явные предатели, – прервал я.
– Да, это правда, – отпарировал он, – тем более нужно было их справедливости отдать, не замучить их без суда. Я содрогаюсь на это, – добавил он, – я уверен, что Костюшко возмутится, что это дело прусских эмиссаров, которые нас якобинцами хотят иметь, чтобы осудить.
Говоря это, он схватил меня за руку и посмотрел в глаза.
– Сируц, – воскликнул он, – ты знаешь меня. Я люблю Польшу больше жизни! Нужно её защитить от стыда и позора, нужно отсюда вырвать короля и примаса… потому что… потому что я за их жизнь не ручаюсь.
Я побледнел, услышав эти слова.
– В таком случае, – сказал я, – пруссаки и русские нападут на город и в пепелище его обратят.
– Дитя моё! Если могли бы, наверное, их ни король, ни примас не остановят… Впрочем, их обоих нужно вывести не куда-нибудь, а в лагерь Костюшки.
Я молчал.
– Для этого нам нужно несколько энергичных людей, на которых не пало бы никакое подозрение… Я подумал о тебе.
Моё сердце сжалось… я не имел ни охоты, ни способности для такого предприятия, я отвечал, что не чувствую сил.
Воевода походил, задумчивый, по зале и вернулся ко мне.
– Не сил тебе не хватает, а убеждения, – сказал он, – я тебе повторяю, что народу нужно спасти короля. Падёт на него пятно, какого во всех его делах нет. Я никогда не принадлежал к придворным короля, но отдал бы жизнь, чтобы его спасти. Послужишь родине, Костюшко тебя сам поблагодарит, толпы возбуждённые, я знаю, что готовится, чем угрожают. Ты должен помочь…
Довольно много времени потребовалось воеводе, чтобы меня склонить; я, наконец, подчинился его просьбам и рассуждениям. Он требовал от меня слова и клятвы, я дал то и другое, он обнял меня, снял с пальца гербовый перстень и сказал:
– Иди с ним в замок, отчитайся королю и будь осторожен. Вещи немного приготовлены… не хватает людей…
Как пьяный я вышел от воеводы, неохотно направляясь к замку.
Мне рассказали, через какие двери, каким коридором и к кому мне надо направиться. Час был послеобеденный. В замке было пусто, на лестнице – ни живой души, в приёмной зала аудиенций сидела гвардия и депутаты города, которые стерегли короля. Рыкс меня к нему впустил, сначала поведав, с чем и к кому я пришёл.
В минуту, когда я входил, пожилая женщина, одетая в чёрное, важной фигуры, немного похожая на короля, встала с канапе и, посмотрев на меня, удалилась в боковой покой.
С обычной для него вежливостью и улыбкой, которые ему трудно было найти, подошёл ко мне король.
Голос его дрожал. Расспросил меня, кто я был, где служил, заговорил о семье Сируцов и о её прошлом на Литве, с особенной памятью прикатил несколько наших родов, осведомил меня, что с полным доверием примет мою помощь, и приказал мне направиться за Рыксом, возвращая перстень Неселовского.
Во всей фигуре короля и его речи чувствовались притормаживаемые тревога и грусть, наименьший шелест сдерживал его, выкрик с улицы покрывал бледностью лицо, беспокойный, он выглядывал из окна.
Когда, поцеловав поданную мне руку, я вышел, Рыкс попросил меня, чтобы я шёл за ним. Молча он ввёл меня в тёмные коридоры, потом через несколько пустых покоев, галерею, лестницы и почти на чердаке, доведя меня до дверцы, в которую постучал, опередил меня сам, а потом впустил.
В маленькой комнатке я нашёл трёх особ, совсем мне не знакомых.
Одна из них была в духовной одежде, две другие, одетые по-граждански, имели военную фигуру.
Было уже довольно темно, так что их лиц я хорошо разглядеть не мог. Они молча меня приветствовали, я сказал им несколько слов.
Ксендз встал с канапе.
– Стало быть, ты знаешь, пан, – сказал он, – о чём речь, следует спасти короля! Ты что-нибудь, пан, уже обдумал?
– Я ни времени не имею, ни достаточного знакомства с положением, чтобы мог какой-нибудь план создать, едва могу быть полезным в его выполнении.
Они переглянулись между собой, один сказал:
– Нужно спешить, каждый час дорог, горожане якобы стерегут короля для его безопасности, но как живо, скорее, что бы не ушёл. Тогда первая трудность: как их усыпить…
Ксендз проговорил:
– Это наименьшая вещь, им дают ужин, нужно, чтобы кто-то напоил их, тогда поспят, а они и так уставшие.
– Пусть и так будет, – добавил третий, – главная вещь: как вывести короля.
– Чтобы вывести днём, об этом даже нечего думать, – сказал я, – ночью, только ночью. Выйти из замка – ничто… но что дальше?
– Да, – воскликнул старший возрастом. – Всю ночь патрули ходят, избежать их почти невозможно… узнают.
– А рекой? – бросил я вопрос.
На минуту замолчали.
– Нужно бы убедиться, охраняемы ли берега и сильная ли при них стража. Действительно, лодку можно пустить за город, а у берега приготовить карету и с ним уже двинуться в леса, может, не было бы трудно.
– Не знаю, изучал ли кто берега! – сказал ксендз. – Нужно бы немедленно это устроить. Завтрашнего дня едва хватит, чтобы стараться о хорошей лодке и верных гребцах, а протянуться дольше завтрашнего дня – невозможно. Кто из вас как-нибудь знает местность?
Один из собравшихся встал.
– Я пойду, – сказал он, – но один бы не рад.
– Я вас буду сопровождать, – отозвался я.
– Мы вернёмся, как только будет с чем вернуться, – добавил мой товарищ.
В потёмках с его помощью мы спустились уже по другой лестнице в замковый двор, а из него в сад. Идущий со мной имел ключ от калитки. Вслушавшись в молчание и убеждённые, что нам тут ничего не угрожает, мы начали спускаться к Висле. Нас закрывали густые кусты, среди которых мой проводник с хорошим знанием местности умел ориентироваться. Так не спеша мы передвигались, когда снизу до нас дошли голоса – мы были вынуждены остановиться. Мой товарищ сильно схватил меня за руку, мы остановились как вкопанные. Не далее как в десяти шагах от нас прохаживались две тени почти у самой реки. Слева мы могли заметить две другие, которые стояли неподвижно.
Сперва мы услышали приглушённый смех, а потом отчётливый разговор.
– А что, пане Каспр? Хорошая прогулка ночью у Вислы? Гм! Не предпочёл бы ты в перине лежать… храпеть?
– Предпочёл бы, конечно, но служба службой, а у нас на сердце, чтобы он от нас не вырвался.
– А куда бы он убежал?
– К приятелям русских! Верь, пан, если бы его не стерегли, не угрожали, не просили и не дали понять, чтобы прекратил прогулки, уж его не было бы…
– Баба с воза – колёсам легче…
– Нельзя это позволить… Тогда только до Вислы… уж его любой рыбак бы перевёз.
Разговор прервался. Стражи издалека потихоньку перекликались, но очевидная была вещь, что о том, чтобы выбраться на челне, мы уже думать не могли. Наша экспедиция была окончена. Потихоньку мы вернулись из неё, быстрей, нежели нас ожидали.
– Берег Вислы усеян стражей, – сказал мой товарищ, – нечего и думать.
Некоторое время царило понурое молчание.
– А поэтому, – сказал духовный, – иного спасения уже не вижу, вечером нужно прокрасться в каменицу около коллегиата. Там мы приготовим духовное одеяние… самую лучшую одежду бернардинца или капуцина. Мальчик впереди будет звонить, как бы шёл ксендз с Господом Богом… Это безопасней всего. Никто из людей не зацепит и лица под капюшоном никто не разглядит.
Другие молчали, противоречий не было, меня спросили – я сказал, что это может быть хорошим, но не очень, а заранее следует подумать о конях, чтобы, достигнув их, бежать дальше.
Мы ещё так разговаривали, когда услышали на лестнице быстрый бег, и один из оставшихся королевских пажей вбежал, неизмерно смешанный. Ксендз встал со стула и немедленно с ним удалился… Произошло, видимо, что-то неожиданное и несчастливое. Сколько нас там было, мы ждали в молчании, что нам прикажут и что нам делать дальше.
Не прошло получаса, вошёл бледный ксендз, шатаясь, и упал на софу, закрывая глаза.
– Все мы тут друзья короля и слуги его, – воскликнул он. – Тайн иметь не можем. Возвращаюсь от наияснейшего пана… великое несчастье. Воевода в эти минуты даёт знать, что изъято письмо ксендза примаса… письмо, которое его жестоким образом обвиняет в глазах революции. Поэтому эта чернь осмелилась перед дворцом примаса поставить виселицу. Дали знать королю… примасу угрожают судом и позорной смертью Коссаковского и Массальского… примаса спасать нужно… завтра может быть слишком поздно. Письмо задержано, но уничтоженным быть не может. Отсрочили распечатывание… примаса спасать нужно… а тут из нас ни один не может даже выйти из замка и приблизиться к дворцу примаса, чтобы узнанным не был…
Он поглядел на меня, я поднялся.
– Если нужно, я пойду, – сказал я.
– Иди, – воскликнул ксендз, – пойдём со мной к королю.
Мы снова спустились по лестнице, коридорами, ступая на цыпочках, дошли аж до двери кабинета, в котором слышен был плачь.
Все были так испуганы, взволнованы, что никто не удивился, когда меня, незнакомца, впустили в кабинет. Король со сложенными как для молитвы руками стоял на коленях перед распятием, бывшим на столе, но молиться не мог, глаза были сухие, губы бледные. На канапе рядом рыдала гетманова Браницкая, рядом с ней – потрясённая пани Замойская с заломанными руками казалась умирающей. На полу – её дочка, пани Мнишкова, как упала, видно, так, положив голову на колени матери, осталась, не в состоянии уже двинуться. В дверях стоял бледный и с тёмными своими волосами кажущийся белым как снег князь Ёзеф со скрещенными на груди руками.
Когда я вошёл, король не обернулся… никто не смотрел; ксендз, который меня сопровождал, немного дотронулся до стоящего на коленях, который весь содрогнулся и посмотрел на нас.
– Этот пойдёт, – сказал ксендз.
Король встал, постепенно приходя в себя. В руках держал уже, видно, готовую бумагу и маленькую коробочку. Рука его дрожала лихорадочными движениями.
– Честью и Богом заклинаю тебя, иди, старайся протиснуться незамеченным. Камердинеру или капеллану скажи – от меня! В руки, в собственные руки отдай примасу и – вернись, если сможешь…
Говоря это, он втиснул мне запечатанную бумагу и коробочку.
– Ради Бога, не дайся им в руки, не отдай содержимое… осторожность, благоразумие, буду тебе благодарен. Может, когда придёт время, если доживём, сумею выплатить тебе долг за эту услугу. Очень обяжешь меня… Иди – возвращайся!
Король поцеловал меня в голову и оттолкнул. В те же минуты гетманова начала ещё громче плакать, рыдание пани Мнишковой вторило ей, князь Ёзеф исчез за дверью. Мне отворили кабинет и я оказался с Рыксом в передней. Один я никогда бы не попал к воротам… Тут внутри я заметил уже городскую гвардию, но горожане этим утром видели меня с Килинским, я не боялся, что меня задержат. Я шёл смело. Один из горожан крикнул: «Стой!» Меня отвели под горящий в нескольких шагах фонарь. Я начал смеяться. Стража узнала меня, потому что столяра Дубского я лично хорошо знал и с утра разговаривал с ним.
– А что вы, поручик, тут делаете ночью? – спросил он.
Я похлопал его по плечу.
– Вы не должны меня допрашивать, я был послан посмотреть, что у вас делается, но вижу, что всё в порядке, и не спите.
– Уж об этом будьте спокойны, – отозвался Дубский, – мышь не проскользнёт.
Поздоровавшись с ними, я очутился на площади и отдышался. Из окна кто-то, видно, наблюдал за моим выходом, потому что я слышал, как оно потихоньку закрылось. Спешным шагом я направился к дворцу примаса. Улицы были вполне спокойны и представляли ежедневный вид: ворота домов закрыты, шинки также. Редко где во всех этажах светилось. Я приближался к также тёмному дворцу примаса, где встретил какую-то кучку людей. Они тихо шептались, казалось, не обращают на меня внимания.
Во дворе не было живой души, двери дворца были плотно закрыты, а из-за решёток в одном только окне мерцал слабый свет. Внимательно оглядываясь по кругу, я постучал медленно и осторожно. Меня не сразу услышали. Оконное стекло отворилось и показалась голова.
– От короля! Срочно! – бросил я тихо.
Ближайшие двери тут же отворились. В коридоре стоял ксендз, это был капеллан примаса. Казалось, он хочет перехватить посольство. Я сказал, что то, что имею, могу отдать только в его собственные руки.
Таким образом, мы пошли вместе.
В покоях было темно. Ряд длинных залов, украшенных картинами, крестами, гербами, пустых, овеянных каким-то холодом замкнутых стен, мы должны были пройти по разложенным коврам аж до кабинета при спальне примаса.
Капеллан постучал и сначала вошёл один. Через минутку он впустил меня и закрыл дверь.
Ксендз примас, величественная, красивая фигура с бледным лицом, чистыми и спокойными чертами, сидел в огромном кресле с книгой на коленях.
На нём было только надето широкое шёлковое платье священника, чёрное с пурпурными пуговичками. Видно, только что снятые кружевной стихарь и пурпурный пилеопус, лежали рядом на столике. Мягкий, панский, покровительствующий взгляд он обратил ко мне и начал в меня всматриваться. Видимо, его удивило то, что незнакомый человек пришёл в это час с конфиденциальным посольством от короля. Долго и я не мог решиться на слово, но в руке держал бумагу и коробочку.
Примас с моего лица медленно перевёл глаза на бумагу и вытянул ко мне руку, ничего не говоря.
Я наклонился и, целуя её, тихо сказал, что мне поручили положить письмо в руки его экселенции и принести ответ.
Но примас, казалось, не слушал моей речи, пододвинул свечу, стоящую на столе, разорвал конверт и начал читать. Книга, которая была у него на коленях, соскользнула на пол. Я поспешил её поднять и, случайно бросив взгляд, узнал Фому Кемпийского.
Когда я клал её на стол, снова обратил глаза на читающего, заметил в его лице такую пугающую перемену, что я стоял, поражённый ею. Этот спокойный облик, полный выражения, силы и резигнации, перевоплотился под впечатлением десятка прочитанных слов. Не мраморная, но трупная бледность переоблачила его лицо, глаза поблекли, губы побелели… рука, которая держала бумагу, тряслась. Казалось, он забыл, что я стоял перед ним.
Из рук на стол выпало письмо, примас начал искать отданную ему коробочку, и положил машинально на столе, потом задумался. Я стоял, будучи в наинеприятнейшем положении человека, что мимовольно подслушивает, а убежать не может.
Примас не догадывался, видно, о моём присутствии, забыл обо мне… так сильно было впечатление… Голова упала ему на грудь, вздохнул и заломил руки.
Только в эти минуты его бледный взор упал на меня… задержался на мне… застыл на момент… и примас сказал слабым голосом:
– Иди!
– Что мне поведать королю?
Долго не было ответа… подпер голову ладонью, как если бы хотел вызвать остановленные на бегу мысли.
– Скажи ему… пусть его Бог благословит… – он сделал знак рукой.
Я поклонился и хотел выйти, когда он подозвал меня слабым голосом:
– Тебе нужны знаки… что выполнил тебе порученное… Да…
Он огляделся вокруг.
Чуть вдалеке на столике лежала маленькая с серебряными застёжками книжица. В неё была всунута закладка… это было новое завещание… Примас достал её из книжки, поискал место, которое намеревался обозначить, всунул закладку, скрепил застёжку и подал её мне, молчащий.
– Так её отдашь королю.
Он огляделся, беспокойный.
Красивые чётки из агатов лежали на столе, он спешно их взял.
– Спрячь это на память… с благословением…
Рукой он сделал над моей головой крест, я опустился на колени, целуя её, она была холодна как лёд.
Капеллан стоял на пороге и видение это исчезло, мы снова шли по ряду пустых зал, аж до сеней.
Пустыми улицами я вернулся в замок почти на рассвете, с какой-то грустью в душе – никто меня не остановил, стража ходила, дремля, в приёмной короля, сидя на креслах, служба спала… в кабинете господствовала тишина. Рыкс один дежурил при дверях и, не спрашивая позволения, отворил мне кабинет. Короля я застал одного, с книжкой в руке. Бросив на него беглый взгляд, я увидел жизнеописания Плутарха. Он имел уже более спокойное лицо.
Я вручил ему книжку, отданную мне ксендзем примасом, осмеливаясь обратить внимание наияснейшего пана, что закладка была вложена недавно, словно обозначала ответ; король склонил только голову и попрощался со мной, видно, не желая, чтобы я был свидетелем чувств, какие им овладели. Охотно признаюсь в том грехе любопытства, что, неся Библию, я задержался под фонарём и посмотрел на то место, которое указывала закладка. Я не нашёл в нём ничего, кроме окрика толпы, которая кричала, чтобы Христа распяли, но на самой закладке, видно, раньше написал примас из пророчеств Иеремии, из раздела пятого, тот отрывок, который странно подходил к этому дню:
«Слушайте, глупые люди, не имеющие сердца… вы, что имеете глаза, а не видите, имеете уши, а не слышите…»
К сожалению, народ этот не заслуживал такого прозвище, но имя самого несчастного из народов! Он хотел добра и желал мудрости – не дали ему их, а преследовали; что же удивительного, что он горел безумием и рвался в этой боли.
Исполнив свою миссию, я не знал, что с собой делать, не хотел уходить, пока бы не получил на это позволения. В соседнем покое сидел ксендз, который был с нами наверху; заметив его, я пошёл спросить, что делать. Он поднял ко мне грустный взор.
– Теперь нам нечего делать, – сказал он тихо, – всё расшаталось… бегство невозможно. Мне кажется, что на сегодня не осталось ничего. Прочь, чтобы пан здесь или, где ему удобней, отдохнул.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































