Текст книги "Варшава в 1794 году (сборник)"
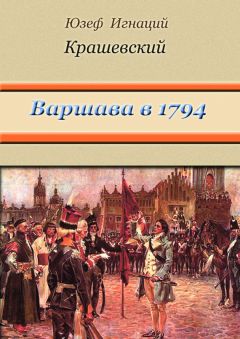
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Мне нужно об этом донести пану воеводе? – спросил я.
– Несомненно, – сказал он, немного колеблясь, – нужно, чтобы он знал, что старания напрасны. Мы должны пытаться иначе отвернуть опасность.
– Если бы я был нужным?.. – спросил я, уходя.
– Мы дадим вам знать через воеводу… Самая нужная вещь всё-таки, – шепнул он мне, – чтобы вы имели око на расположение народа и тех, кто его подстрекает… а в случае, если бы замку и королю угрожали, могли дать знать заранее.
И с тем я ушёл уже утром и, не думая, чтобы в эту пору я мог бы достать до воеводы, вернулся домой.
* * *
Усталость, уныние, какое-то отвращение меня мучили… я хотел вырваться из этого городского хаоса на поле боя. Борясь с мыслями, я лихорадочно уснул.
Моё утомление было так велико, что не проснулся даже до полудня.
Стучали в мою дверь… я вскочил, в чём был, потому что спал одетым, и, отворив дверь, увидел перед собой самого пана воеводу, который вытирал с лица пот, взобравшись по тёмной и неудобной лестнице наверх.
Я взглянул на часы и испугался, что так было поздно, я стал объясняться…
– Да брось, – сказал он мне, – ты ничего не должен, ты вчера сделал, что мог, я был у короля… я всё знаю.
Он опустил голову и опёр её на трость – из глаз брызнули слёзы.
– Уже нечего делать… короля спасём, а там тот уже, по-видимому, от всякой опасности избавил себя.
– Кто? – воскликнул я, удивлённый.
– Ксендз примас…
– Как это? Ушёл?
– Нет – умер, – сказал Неселовский спокойно.
Не могло в моей молодой голове поместиться, чтобы человек, которого я видел вчера полным сил и здоровья, сегодня уже не жил.
Я стоял безмолвный.
– Этого не может быть, пане воевода, – воскликнул я, – я вчера ночью был у него, говорил с ним, вот, есть чётки, которые я получил от него с благословением, был вполне здоров… в сознании.
– Пойди к дворцу примаса, внизу увидишь его уже на катафалке, – ответил воевода, – нечего уже в замке делать. Что думаешь?
– Возвращусь в войско! – воскликнул я живо. – В городе я не мог бы дольше выжить, тут мне душно, тесно и не знаю ни с кем держаться, ни что мне совесть прикажет делать. В поле! В поле! С саблей, на коне… буду…
Я поцеловал руку воеводы.
– Ты прав, – сказал он, – там лучше и здоровей, здесь – только приговорённые к тому, чтобы управляли тем, что само собой никогда не даётся, должны мучиться.
Старик вздохнул.
– До тяжких времён мы дожили, – добавил он, – минута свободы, одна минута, одна вспышка, после которой я боюсь более тёмной ночи, чем когда-либо. Я старый, может, плохо вижу, но меня охватывает тревога. Восстания идут бессильно и медленно. Курляндия, действительно, поднялась, но мы утратили Краков, Австрия выступает против нас. Пруссаки в любой день осадят Варшаву.
Пророк не докончил, посмотрел на меня, ударил по плечу.
– Ты свободен, – сказал он, – пришёл тебе это объявить, потому что не ушло от моего внимания, что за секретные работы ты не очень охотно брался. Возвращайся в войско, но прежде чем туда отправишься, приди ко мне.
Проводив воеводу, немного одевшись, я сошёл вниз и наткнулся на рассказ камергера, который ввёл меня в ступор.
Камергер как раз описывал, как изъяли письмо примаса к пруссакам, как угрожали виселицей, и что Коллонтай послал к королю объявить и предостеречь его, что людей не задержит, чтобы спасти примаса. Согласно уличному рассказу, Коллонтай даже послал яд для избежания позора. Другие говорили, что король ночью переслал предостережение и порошок, что примас, слыша шумящий народ на улицах, взял из табакерки того усыпляющего навеки лекарства и, вскоре потом уснув, окончил жизнь. Слушая его, я, естественно, не смел ничего говорить, но у меня в голове было письмо и коробочка, которые я отнёс.
Рассуждения об умершем были очень разные, могу это сегодня сказать – не очень справедливые. Примас на самом деле был сторонник союза с Россией и всегда к нему склонялся, но делал это из глубокого убеждения и из образа взгляда на дела страны. Никогда не был платным и не унизил себя ничем предосудительным. Был определённо самый умный, самый энергичный из всей семьи, но холодный, серьёзный, не боящийся говорить правды, популярным не был. Бросали на него пятно жадности после заключения Солтыка, хоть от администрации и фондов краковского епископства отказался… не посчитали его заслуг в Комиссии образования, которые были великие. Кроме собственной семьи, друзей имел мало и несчастливым был в их выборе, как с Тизенхаусом, на падение которого он должен был смотреть, спасти его не в состоянии.
Я выслушал злобные замечания камергера и уже под вечер вышел в город. Я хотел собственными глазами видеть останки того, кого ещё вчера видел живым и получил от него благословение.
Вся Сенаторская улица была полна толпящегося люду, двор набит, до дворца всё-таки дотянуться не было возможности. Мещане, челядь, толпа стояли и смеялась – их выкрики сжимали мне сердце, почти все покойника именовали предателем и смерть его приписывали страху наказания. Поскольку ходили также слухи, что примас ушёл, что скрылся в подземельях под дворцом, все обязательно хотели видеть умершего, дабы убедиться, что действительно он, а ни кто другой, покоится на катафалке. Многие не верили в смерть, называя её комедией.
Слушая эти неловкие допущения и шутки, всегда поражающие рядом с величием смерти, молча и я стал пробиваться к комнате внизу, в которой примас покоился несколько часов. Удалось мне это с величайшим трудом, и только благодаря мундиру, который надел, сумел войти во дворец. Слева от двери обширная комната была вся обита чёрным сукном. В ней покоились останки понтификально убранного первосвященника, с заслонённым зелёной китайкой лицом.
Именно это обстоятельство было поводом, что одни не верили, что это действительно был примас, а другие допускали, что лицо от яда должно было быть изменившемся и поэтому его пришлось заслонить. Огромные серебряные подсвечники окружали катафалк, а несколько духовных неустанно пели вигилии. Толпа проплывала вокруг катафалка, скорей любопытствуемая, чем набожная, разгорячённая, чем проникнутая сочувствием. Шептали и усмехались…
Уже у двери, когда я хотел выйти обратно, я неожиданно встретил Юту, которую сопровождала мать. Обе меня заметили. Юта улыбнулась. Ваверская поздоровалась, я стоял как вкопанный. С ними шёл, руками для них прокладывая дорогу, молодой парень, достаточно приличный, обычных черт, явно довольный собою, в котором я узнал наречённого. Он был одет так, как в то время одевались более видные ремесленники и мещане, в польскую чамарку, и совсем неплохо выглядел. Мой взгляд, который на нём любопытно остановился, на лице Юты вызвал румянец, а потом бледность и замешательство.
Если бы они были одни, может, я бы осмелился в этой давке сопровождать их до дома – но во мне теперь не нуждались. Поэтому, посмотрев издалека на бедную девушку, я вышел в дворцовый двор.
Совсем неожиданно заступил мне здесь дорогу тот неприятный, узнанный у Манькевичей, очень для меня подозрительный пан Дрогомирский, который без церемонии взял меня под руку.
– Дорогой поручик! – воскликнул он. – Так давно вас не видел. Но что за диво… Вы времени не теряете.
Я вопросительно посмотрел на него.
– Вы думаете, что мы… то есть я, что я ничего не знаю! Ха! Ха! – сказал он спешно. – Но я о каждом шаге вашем… Мне вас очень жаль, что с этой ладной мещаночкой не удалось, – прибавил он.
– С какой? – прервал я его, возмущенный.
– Но к чему от меня, друга семьи, эти секреты? Юта и ладная, и хорошо образована, и каменичка, и вроде бы капиталик. Для вас, шляхты, это всё вместе, может, не много значит… а ну… всегда неплохой кусок. Тем временем, пане поручик, простой кожевенник берёт из-под носа.
Я начал ему прекословить, смеялся.
– И это я знал, – сказал он, – и иные вещи знаю. Вы кровный воеводы Неселовского?
Я очень удивился.
– И что же? – спросил я холодно.
– Ничего, воевода – патриот добрый, но всегда это патриций. А знаете что, пане поручик, – сказал он тихо, постоянно ведя меня за собой, хотя я не знал сам, куда шёл, – времена патрициев и их правление миновали! Напрасно бы хотеть восстановить то, что пережили. Свет проникает среди людей, мещан, даже холопов, люди поняли, что равны, и что один лучше другого настолько, насколько больше знает и умеет… поэтому не вернуть уже ваши шляхетские века.
Они могли только до тех пор удержаться, пока вы школы для нас и для народа закрывали и осуждали нас на темноту и глупость. Не скоро мы выучим, сколько нужно, много мух настреляем, как самоучки и студенты, но конец концов… когда раз лучик упал на голову, когда таинственные силы открыты, это только вопрос времени.
Я нехорошо понимал Дрогомирского, но с интересом его слушал.
– Вы были когда-нибудь в нашем клубе? – спросил он.
Я, действительно, что-то слышал о том созданном по французскому образцу в Варшаве клубе, который обычно народ клопом называл, но я им никогда не интересовался. Говорили нам, что там явно и потихоньку ксендз Майер руководил. Приписывали даже членам клуба то июньское возмущение, которое вызвало гнев у Костюшки и напугало спокойных людей.
– Вы не были в клопе? – подхватил, услышав мой отрицательный ответ, Дрогомирский. – А то, может, интересуетесь.
Я колебался.
– Я готов вас проводить, если хотите? – усмехаясь, говорил мой проводник. – Есть это, несомненно, только колыбелька, в которой больше слышно детского крика, чем рассудительной речи… но это signatemporis… Пойдём!
Я ещё мешкал, Дрогомирский, смеясь, взял меня под руку.
– Не съедят тебя, – сказал он, – а теперь, после взятия Конопки, Петровского, Дебовского, не такие из них уже смельчаки, как бывало. Стоит послушать… Вступить!
Клуб, в который меня привёл этот интересный человек, находился на Вербовой улице.
Через тёмные ворота мы вошли во двор дома, в тыльной части которого большая зала внизу с предсенью была обычным местом собрания самых горячих революционеров.
Несколько масляных лампочек, коптящих при стенах, слабо освещали… Сидя за поставленными по бокам столами некоторые пили пиво и вино.
В глубине на стене между двумя лампами я заметил нарисованного орла, на котором заместо короны была фригийская шапка свободы, а по кругу написано: «Свобода, равенство, независимость».
Маленький портретик Костюшки, каких тогда расходилось тысячи, изображающий его с саблей в руке, с надписью: «Позвольте мне ещё раз умереть за родину», висел в рамке под орлом.
Когда мы вошли, никто нас не спросил, не знаю, увидел ли кто, такой оживлённый был разговор. Мы услышали насмешки над Бухолтром, прусским послом, который недавно получил паспорт; его вынудили под конвоем покинуть Варшаву, опечатав его бумаги и канцелярию, которые старательно перед этим были обысканы.
Другие рассказывали о примасе и его внезапной смерти, ручаясь, что останки, лежащие на смертном одре не были его, а сам он ускользнул в Англию. Иные занимались королём, клянясь, что ему из города двинуться не дадут.
С неизмерным удивлением я услышал тут, несмотря на портрет Костюшки, который висел на стене, какие-то кислые о нём выпады. Кто-то его издевательски назвал Американцем, иные себя сдержали и закрыли сразу уста смельчаку, который пытался не лестно о нём отзываться.
От дыма трубок и копчения масляных ламп было душно в этом помещении, которое не выглядело особенно привлекательно. Личности, которые здесь бродили, были мне известны по улице, я никогда их, однако не видел собранных в такой многочисленности, несколько чужих лиц и языков можно было различить в этом сборище. С краю шептались по двое или по трое, оглядываясь вокруг. Я слышал с любопытством расспрашивающих о судьбах заключённых по поводу июньских беспорядков. Не скрывали свою симпатию к ним.
– Уж будьте, граждане, спокойны, – сказал один с прикрытым лицом, – что у Казя Конопке волос с головы не упадёт, а Дебовскому также не много будет, только Долгерд, Дзеконьский, Клоновский и Ставицкий, а, может, и больше жизнь отдадут.
– Либо отдадут, либо нет, – прервал иной, – народ не должен допустить, чтобы тех, кто пожертвовал собой для него, встретил такой позор и…
– Тихо, – воскликнул иной, – тихо…
– Начальник приказал наказывать сурово, – вставил кто-то сбоку.
Плечистый мужчина на лавке, опирающийся о стол локтями, рассмеялся.
– А хоть бы также и поплатиться пришлось и нескольких потянули на виселицу, – воскликнул он понуро, – разве такое милое развлеченьице того не стоит? Вы видели, паны граждане, что редко случается… сановники в рубашках, без орденов, без париков и без шляп, сохнущие на вольном воздухе. За каждое зрелище надо платить, так и это… А вы думаете, что страна иначе будет свободна? Никогда.
– Довольно этой болтовни, – вырвался другой голос. – У нас не такая хищная натура, чтобы любили такие зрелища. Ещё у нас Господь Бог есть.
Опирающийся о стол локтями издевательски на это рассмеялся. Другой стукнул кулаком о стол.
– Божьего имени не призывайте тут напрасно и никаких богохульств… потому что… за дверью…
– Говорите же о чём-нибудь ином, – вставил кто-то сбоку, – а то уж вас возьмут. Что вы думаете, если пруссак придёт… Когда развлекались с предателями на улицах, нужно нам также порисоваться и на окопах.
– А кто этого пруссака сюда привёл, – прервал плечистый, – разве не королевская шайка и не предатели, что бояться за свою шкуру?
– Он бы и сам пришёл, – прервали сбоку.
– Хоть мы вроде бы немного очистили и устрашили желтобрюхов, – говорил, не обращая внимания, опирающийся на стол, – не так-то легко с ними и не конец ещё. Из лучших наших людей негодяев понаделают. Что думаете? Уж пан полковник Килинский иначе поёт… или Закревский? Это он собственной грудью Мошинского защитил? Испортят нам и отберут тех, что с нами были, увидите… Мы слепые и слишком добродушные…
– Не болтал бы, – отозвался иной.
– Говорю правду, – начал первый, – но убедитесь в этом слишком поздно… Чересчур мало сделалось… Гм! Гм!
– Хочется тебе больше, – рассмеялся другой, – иди с другими в лагерь… от 18 до 40 мы все, по-видимому, там.
– Мне 42, – воскликнул плечистый, – меня это не касается. Делать в городе порядок – это что-то другое, а на окопы… молодёжь.
На мгновение воцарилось какое-то неприятное молчание. Не один вздохнул.
– Или мы освободим эту несчастную родину, или нет, и не один из нас голову сложит, это наверняка. Старшина и панычи будут нас гнать в огонь, а сами командовать с тыла.
Какое-то время забавлялись этого рода выкриками, когда вошёл маленький человечек, увидев которого все стали вставать и собираться возле него.
Подав руку нескольким ближайшим, он вступил в центр, великая тишина и шикание на болтающих вдалеке предшествовали выкрикам:
– Что слышно во Франции? Гражданин! Что делает Конвент?
Этот маленький господин откашлялся.
– Славного патриота и гражданина Робеспьера чуть не убили, – воскликнул он, – Баррер донёс о том Конвенту на сессии 26 мая. Женщину, которая на это решилась, зовут Сесилия Рено. Вскоре её ждёт заслуженная кара. По этому поводу Робеспьер имел красивую речь.
– Прочитайте её! – отозвалось несколько голосов. – Прочитайте!
Приблизили свечу, маленький человечек начал читать:
– Собранный Национальный Конвент есть, так скажу, на верхушке горы, изрыгающей огонь. На этом опасном месте занимается он с одной стороны отдачей чести Богу, полагающейся Ему от великого народа, с другой стороны – рассматривая укрепление свободы, справедливости и добродетели Республики, защищает её от нападения большей части света.
Он читал так всю довольно длинную речь Робеспьера, которую слушали в молчании, только иногда прерывая несмелыми выкриками.
Когда подошёл к концу, до места, в котором Робеспьер говорит:
«Великая масса французского народа есть добрая, любит справедливость и свободу, жертвует им всё, что может быть самого милого на земле. Только маленькая частичка этого народа такая, как во времена монархии, легкомысленная, болтливая, праздношатающаяся, жадная до правления и стряпающая интриги. Этот класс жуликов нам обязательно следует истребить», оратор возвысил голос и собравшиеся начали хлопать и повторять:
– Истребить предателей и жуликов!
Позже он читал ещё речь Барро, а напоследок историю вдовы Делкамп, патриотки, которой Конвент назначил 1200 ливров пенсии за то, что в глаза роялистам, протыкаемая штыками, кричала: «Пусть живёт Республика!»
Умелый отбор новостей из Франции очень заинтересовал слушателей, счастливо отвлёк их от домашних дел.
Довольно долгое время продолжающееся совещание обещало протянуться ещё дольше, когда я попрощался со своим товарищем, думая, что он захочет остаться здесь, и собрался уходить, – он, однако, не пустил меня.
Он очень меня обременял и я был бы рад от него избавиться, но не было способа. Я сказал, что иду домой, Дрогомирский вспомнил, что давно не видел Манькевичей, и собрался идти вместе со мной. Меня начинала беспокоить эта великая сердечность человека, к которому чувствовал какое-то отвращение. Из моего молчания он даже мог бы понять то, что совсем не был мне приятен, не отбирало это, однако, у него ни настроения, ни любезности ко мне.
Чем я явней убеждался, что он хотел меня изучить, тем сильней замыкался в себе. Одна та мысль, что он считал меня болтуном и поэтому насел на меня, чтобы достать информацию, очень меня раздражала.
В молчании мы пришли к Манькевичам, где ещё история примаса была на столе. Дрогомирский в самом хорошем настроении рассказал, что водил меня в клопа. Дедушка искоса на меня взглянул и нахмурился.
– Я не пошёл туда по доброй воле, – сказал я, – любопытным зрелищем я обязан моему проводнику.
– И лучше было вовсе не идти, – муркнул Манькевич, – там, я слышал, одни атеисты собираются, а мы ещё до этой фиксации не дошли.
Я смолчал. Отдав Дрогомирского в жертву Манькевичу, сам ускользнул наверх.
* * *
Не ждя дольше, когда моя рука, полностью уже зажившая, позволит мне вернуться к деятельной службе, в первых днях июля я снова оказался среди армейских товарищей в лагере.
После этого долгого и невыносимого безделья и таскания по улицам, мне казалось, что я достал до неба. Я почувствовал себя в своей стихии… Город мне опротивел, а жизнь в нём с каждым днём становилась более неприятной. Быть может, что и такая мучительная неудавшаяся моя любовь к Юте способствовала этому отвращению.
Мокроновский, Заячек, Домбровский, которого тогда звали немцем, потому что, недавно выйдя с саксонской службы, действительно, лучше говорил по-немецки, чем по-польски, но сердце имел польское и горячее, Адам Понинский, сын небезызвестного подскарбия (который уже был ранен под Шщекоцинами и смыл кровью отцовское пятно), командовали войсками, собирающимися защищать Варшаву. Наши силы были не слишком велики, значительная часть войск разбросана, но пушек хватало и рассчитывали также на гражданскую гвардию Варшавы, оживлённую патриотическим духом. Показ неприятеля вблизи города улучшил в ней дух, отвлёк умы от этих непрерывных фантазий об изменах – во всех воспламенился патриотизм.
Сыпались пожертвования: драгоценности, золото, бельё, бинты, обручальные кольца, не одна последняя серебряная ложка, лошади, возы, кто что имел, кто что мог. Даже король, лишённый доходов, уничтоженный долгами, посылал остатки серебра на монетный двор. Богатые люди, которых подозревали в холодности, давали больше всех, дабы защититься от нареканий, бедные несли грош со слезами…
В минуту, когда я отъезжал в лагерь, составляли городскую милицию, охотно теснящуюся в шеренги, которые должны были защищать довольно жалкие окопы. Мне, по счастью, досталось место, хоть мало значащее, но для меня почётное, под рукой самого начального вождя. Поскольку узнали, что действительно зажившая рана, но ослабленная рука для иной, как вспомогательной службы и канцелярии, делала меня неспособным.
Я нашёл Костюшку под Мокотовым, неустанно занятого обороной столицы; а хотя недавно я первый раз его встретил, может, в лучшем положении под Кельцами, теперь он показался мне более грустным и как бы постаревшим от утомления. Слишком великое бремя упало на его плечи, а, кроме явных забот, были там и такие, которые в себе скрывал. В лагере поговаривали, что происходили живые споры с ксендзем Коллонтаем, которые начальника чуть не оттолкнули до такой степени, что готов был сложить власть.
Испугались, видно, ответственности, какая могла бы упасть на виновников такого несчастья… и видимое согласие стёрло на время следы непонимания. В войске также были великие различия мнений и взаимные неприязни.
Костюшко, которого я имел счастье сопровождать, потому что был часто им высылаем через огонь и пули, и через самые опасные позиции, работал как простой солдат, но одновременно как отличный вождь и инженер, поэтому оборона Варшавы была блестяще обдумана и принесла нам славу.
Между Варшавой и лагерем была постоянная и сердечная связь. Добровольцы бежали, отрываясь от занятий, челядь, подростки, женщины… Каждый хотел видеть, слышать, оценить этот огонь.
Варшавский народ, забывая о предателях, возвратил дух, который его оживлял в апреле. Невозможно себе представить веселье, энтузиазм, порывы того запала, какой всех возбуждал. Я случайно был в городе, когда 13 июля из пушки, стоящей под Сигизмундом на Краковском предместье, и на окопах выстрелами дали знак тревоги.
Народ с такой охотой, с такой поспешностью, весельем посыпался в бой, как на праздник. Главнокомандующие едва могли его удержать, так всё рвалось, так сыпалось на окопы. Эта разноцветная толпа, среди которой было не мало четырнадцатилетних юношей и седых ветеранов, шла как на праздник.
В этот день Костюшко объезжал собственные окопы и, кажется, что эта собранная дружина больше, может быть, его порадовала, чем новый приток регулярного войска. На запал всего народа он особенно полагался. В его глазах появились слёзы.
Мещане, смотря на него, выкрикивали, подбрасывая шапки, потому что, хотя некоторые его не знали, по окружению и по славной сукманке его узнавали.
Моё сердце радовалось тому, что я повсеместно слышал о мужестве моего дзялынского полка, показанное под Голковым. Липницкий там вытворял чудеса. Как же охотно я пошёл бы под команду Заячка, хоть его там мало любили, а по-видимому, никто не любил – лишь бы к своим вернуться. Не разрешили, я должен был слушать. Правда, что, хотя я не носил руки на перевязи, но хорошо ещё владеть ей не мог.
Под Варшавой дела шли довольно счастливо, потому что также и бдительность была великая. Не дали пруссакам в Зегре мост поставить и прорваться на Прагу.
Наша артиллерия также была отлично расставлена, а о прусской этого сказать было нельзя, потому что у нас от неё уши могли болеть и ничего больше. Ядра падали бессильно или до нас не доходили.
Возле нашего лагеря под Мокотовым были постоянные столкновения, но очень мало значащие. Мы имели время даже немного поразвлечься и дать прибывшим из Варшавы любопытное и поднимающее сердце зрелище.
Костюшко имел при себе батальон краковских косиньеров, который был ему очень милым. Зная о том, пани Зибергова, воеводина брешко-литовская, к воеводству которой принадлежал Костюшко, подарила ему тут знамёна, которые торжественно освятили. Это были единственные этого рода и вроде бы первые и последние кармазиновые хоругви, на которых сноп, пика, коса и краковская шапочка, у нас заменяющая фригийскую, показывались на протяжении этой войны.
Многие поплакали, когда их отдавали крестьянам, уже опытным в бою. Того самого дня показался Денисов, вышедший из леса напротив лагеря, но его приветствовали пулями и он долго не остался.
Костюшко, как был неизмерно деятельным в обороне города, таким же был и в наказании виновных в бунте и самоволии, потому что ему нужны были дисциплина и удержание порядка. Таким образом, случилось то, что предполагали – несколько пало жертвой, хотя наиболее виновные спаслись при старании своих покровителей. Это всё, однако, мало обращало внимание, потому что мы все душой и сердцем были в обороне столицы. Странная вещь! При меньших силах, по многим соображениям, в менее счастливом положении, имея против себя не одного, но двух неприятелей, мы весело шли с какой-то дивной уверенностью в нашу удачу, что нам их удастся прогнать.
Бдительность была чрезвычайная. Пруссаки в воскресенье (28 июля) ринулись на Волю и приблизились к самому лагерю Костюшки; одновременно показались русская пехота и кавалерия, и продвинулись к Червонной корчме и деревне. Костюшко и мы были на конях. Послал меня Начальник, чтобы я приказал Дембовскому вытеснить их стрелками. Едва я добежал до них, Дембовский, Кжицкий и пушки были в готовности. Я так и бросился на неприятеля, как бы для развлечения, и прогнали мы их довольно легко. Во вторник потом они подошли снова, желая овладеть Червонной корчмой, которая уже наполовину была сожжена нашими, и мы снова вовремя их отогнали.
С равным счастьем нам удалось выбить пруссаков из Шчеслива, который они захватили в воскресенье и имели уже там пехоту, стрелков и пушки. Вечером в хорошем сумраке, полдесятого, подполковник Гавроньский по приказу Костюшки пустил огненные ядра для того чтобы поджечь деревню, и так ему это удалось, что от первого деревня была в огне.
Довольно сухое лето и деревянные клетушки сделали пожар внезапным и неудержимым, лёгкий ветерок его раздувал. Мы видели огромную суматоху, слышали крики и проклятия внезапно разбуженных от вечернего отдыха солдат. Хотели тушить, но мы из двух батарей прижали их так, что, едва запрягши свои пушки, они должны были бежать.
На этот переполох прибежали стрелки Дембовского и выгнали остаток убегающих из хат.
Огромное зарево этого пожара, который не скоро прекратился, разлилось по небу и красиво освещало наш триумф. Начальник был на редкость весёлый и счастливый, а тем больше обрадованный, что там уже в деревне из крестьян давно никого не было, ибо они заблаговременно её покинули.
Войска прусского короля, который сам ими командовал, услышав знак тревоги, стояли допоздна с оружием в руках и погасили огни в лагере – чтобы не могли в них прицелиться.
Поздно ночью, когда это всё счастливо закончилось и офицеры начали прибывать с рапортами, Костюшко, у которого было множество подарков для раздачи отличившимся военным, приказал принести шкатулку из своего шатра и тут началась раздача подарков в память об этом дне.
Не имели мы и не хотели иметь в то время орденов, по-республикански делил Костюшко храбрым то, что ему патриоты прислали. И так капитан Бочанкевич получил колечко с бриллиантами, которое пожертвовала Зибергова, майор Голеевский – золотые часы, майор Осовский – золотую табакерку, майор Красицкий, храбрый солдат, – также бриллиантовое кольцо, Дембинский – кольцо с жемчугом, Дембовский, Коллонтай, я и другие – браслеты и часы.
Сто повозок раненых пруссаков отвезли этой ночью в Сохачев… мы до утра не сомкнули глаз и Костюшко сам не думал ложиться. Едва зарево пожара побледнело, небо начало розоветь на востоке, и мы весело готовили кофе при поломанном старом заборе. В лагере царил такой запал и хорошее настроение, как если бы мы уже врага за границу выпроводили.
Через несколько дней король прусский, думая, что пером больше докажет, чем пушками, прислал трубача с письмом, уговаривающим сдаться.
Есть несомненной вещью, что храброй обороной и хорошему командованию мы до сих пор были обязаны нашему счастью; нужно, однако, добавить то, что нам позже стало явным: что русские имели приказ не слишком энергично помогать немцам в добыче города.
Варшава днём и ночью бдила, прислушиваясь, смотря, угадывая, что с нами делается. Летали посланцы, прибегали добровольцы, шли телеги с припасами, а с прусскими ядрами мы так освоились, что их треску только аплодировали.
В самом деле, это были весёлые дни, как не помнить, а, может, мне они такими выдались после тяжёлых предваряющих их варшавских дней уличной суматохи и шума.
На следующий день Заячек поджёг им Волю, начиная от сараев, которые зажгло ядро поручика Вроньского, Домбровский захватил Августов (под Вилоновым) и Завадский островок, добыв провизию и немного амуниции… словом, пруссакам как-то совсем невезло.
Трудно мне дать вам понять о нашей, а особенно о моей жизни в эти дни, которые мог бы назвать самыми счастливыми, когда на сердце не имел боли и тоски по Юте. Я постоянно был в действии, не раз участвовал в разговорных поединках на форпосте, когда ничего срочного не было для работы; впрочем, я проводил жизнь постоянно на коне, возя приказы между Заячком, Мокроновским, Начальником, Домбровским и Варшавой, смотря, как всё тогда горело здоровым, красивым патриотизмом. Не было жертвы, от которой бы кто-нибудь отказался… И Костюшку также не видел я никогда таким оживлённым и в таком хорошем настроении, как тогда. Прусские выстрелы нам вовсе не докучали, оглушали только; ни одного дома не подожгли нам, а потеря людей была почти незначительной.
Мы отбрасывали почти каждое их покушение и пушек никогда не давали установить, где хотели.
Но были и тучки на этом прекрасном небе, полном надежд. Начальник не очень был рад введению ассигнаций, которые тогда пустили в оборот, помимо его воли; не совсем удачным он находил объявленный сбор колоколов и костёльного серебра, против которого многие ворчали, – потому что добровольных жертв было достаточно, а наш набожный народ плохо это понимал.
Ещё хуже поступили по приказу тех, которые были противниками двора и короля, начав печатать в Вольной Газете бумаги, которые нашли у Игелстрёма, и счета особ, которым он платил. Коллонтай, не любящий Понятовского и имеющий к нему серьёзное предубеждение ещё с Тарговицы, предложил издать эти счета, в которые были помещены и королевские шесть тысяч дукатов.
Поднялась тогда в замке суровая буря, что таким образом восстанавливали народ против Понятовского, показывая как предателя. Поднялся жестокий плач, прилетел князь Ёзеф к Начальнику с выговором и горем. А так как Костюшко был в это время уже в холодных отношениях с Коллонтаем, отправили меня с письмом к Закревскому, чтобы оглашение той грязи не в пору остановили. Король объяснился письмом, отправленным в Газету. Памятен мне этот день и тем, что, возвращаясь от президента, я встретил в городе Юту…
В руке я вёл коня и не спеша шёл Краковским предместьем, вовсе не ожидая её увидеть и мимовольно думая о ней, когда услышал своё имя, которое меня как бы от сна пробудило. Я поднял глаза и заметил её, стоящую напротив одну и такую бледную и изменившуюся, что я испугался. Как можно быстрее я поспешил к ней.
– Я не могла о вас ни узнать, пане поручик, ни встретить вас. Что же это за счастливый день! Ходила в костёл, Бог мне дал вас увидеть, – она грустно улыбнулась, я посмотрел в её глаза.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































