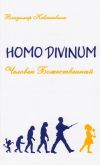Текст книги "От Бергсона к Фоме Аквинскому"
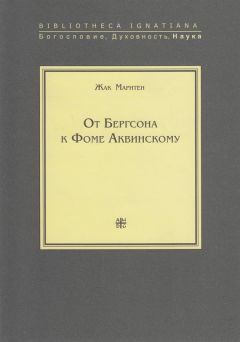
Автор книги: Жак Маритен
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Бергсонизм с точки зрения философии как духа: определяющие интуиции
Мы рассмотрели некоторые важные положения «Двух источников» с точки зрения концептуализации и построения доктрины, или в аспекте философии как системы; при этом нам пришлось сделать немало критических замечаний. Но все предстает в ином свете, если рассматривать учение Бергсона с точки зрения философии как духа, или с точки зрения определяющих интенций и интуиций. Здесь мы можем восхищаться с чистой душою.
Нет ничего более волнующего, а в каком-то смысле и более убедительно свидетельствующего о трансцендентной природе духа, нежели мысль, вопреки своему философскому аппарату неустанно и смело следующая ясным духовным путем и благодаря внутреннему свету отыскивающая двери, на пороге которых останавливается всякая философия (войти в эти двери философу предстояло несколькими годами позже)[41]41
Г-жа Бергсон опубликовала фрагмент завещания своего мужа, датированного 8 февраля 1937 г. Вот этот фрагмент: «Мои размышления постепенно привели меня к католичеству, в котором я вижу полное завершение иудаизма. Я принял бы его, если бы не видел, как на протяжении нескольких лет поднимается страшная волна антисемитизма, которая вот-вот обрушится на мир. Я хотел оставаться среди тех, кого завтра будут преследовать. Но я надеюсь, что католический священник согласится, с позволения кардинала – архиепископа Парижского, прочесть молитву на моих похоронах. В случае, если такое разрешение не будет получено, надо обратиться к раввину, не скрывая от него и вообще от кого бы то ни было моей моральной приверженности к католичеству, так что в первую очередь я изъявляю желание, чтобы меня отпевал католический священник». Воля Бергсона была исполнена: католический священник молился над его телом.
До того как строки, опубликованные г-жой Бергсон, стали известны в Америке, Раиса Маритен сообщила одному из нью-йоркских журналов следующую информацию: «Вот новые сведения для архивов “Commonweal”, относительно христианства Бергсона. Мне написали из Швейцарии, что после публикации французского текста моей статьи в журнале “Nova et Vetera” газета “Figaro” опубликовала отклик “Бергсон и католичество”, где приводится свидетельство «одного известного доминиканца, состоявшего в дружеских отношениях с Бергсоном”. Согласно этому свидетельству, Бергсон не принял, но решился принять крещение: «Бергсон изъявил желание креститься и выбрал для этого священника. Но он заявил, что хочет подождать, – из щепетильности, принимая во внимание происходящие события. Мне известно это от самого упомянутого священника, который в соответствии с волей покойного был призван его родными для отпевания тела, хотя похороны не были христианскими”. Является ли эта версия окончательной, или ее дополнят еще какие-нибудь свидетельства? Как бы то ни было, отсюда явствует, что Бергсон хотел креститься и даже выбрал для этого священнослужителя. Слова “известного доминиканца” подтверждают самое существенное: желание креститься и религиозные убеждения великого философа» («The Commonweal», 29 aug. 1941).
Анри Бергсон умер в Париже 4 января 1941 г.
[Закрыть].
Мы указали, какие оговорки забота о строгости доктрины обязывает сделать в отношении предлагаемой Бергсоном общей интерпретации мистической жизни. В сущности, отмеченные недостатки его интерпретации показывают, прежде всего, что в этой сфере философия сама по себе недостаточна; поскольку, заботясь о чисто философском методе, она полагает, что не должна непосредственно затрагивать тайну благодати и тайну креста или, иными словами, считает себя не вправе объединяться с теологией в трактовке вопросов, связанных с мистицизмом, – постольку она не способна постичь в их подлинных истоках явления мистической жизни, даже если относится к ним с искренним почитанием. Но какой чистый философ изучал их более добросовестно, с более смиренной и благородной любовью, чем Анри Бергсон?
Пора наконец сказать, сколь признательны мы ему за великолепные страницы, посвященные мистикам и обнаруживающие удивительно чуткое и щедрое внимание к реальностям, присутствие и воздействие которых он сам ощутил. Здесь он разбивает убогие схемы феноменалистической психологии; и, зная антимистические предубеждения, упомянутые мной в начале главы, понимаешь, как решительно защищает он мистиков, когда утверждает о крепком интеллектуальном здоровье этих душ, достигших жизни, в определенном смысле сверхчеловеческой. Обратимся к самим текстам; я приведу несколько страниц из «Двух источников».
«…Мы можем заключить, что ни в Греции, ни в Древней Индии не было полного мистицизма, либо потому что порыв там был недостаточен, либо потому что ему препятствовали материальные обстоятельства или слишком узкая интеллектуальность. Его появление в определенный момент позволяет нам ретроспективно присутствовать при его подготовке, подобно тому как внезапно возникший вулкан проясняет длинный ряд землетрясений в прошлом.
Полный мистицизм на самом деле – это мистицизм великих христианских мистиков…
Когда мы берем таким образом в ее конечной точке внутреннюю эволюцию великих мистиков, мы задаемся вопросом, как могли уподоблять их больным. Разумеется, мы живем в состоянии неустойчивого равновесия, и среднее здоровье духа, как, впрочем, и тела, – вещь трудноопределимая. Существует, однако, исключительное, прочно утвердившееся интеллектуальное здоровье, которое узнается без труда. Оно проявляется во вкусе к деятельности, в способности к адаптации и реадаптации, в твердости характера в сочетании с гибкостью, в пророческом умении отличать возможное от невозможного, в духе простоты, побеждающем всякого рода сложности, наконец, в превосходном здравом смысле. Разве не эти самые черты мы находим у мистиков, о которых идет речь? И не могут ли они быть полезными для самого определения крепкого интеллектуального здоровья?
Если о мистиках судили иначе, то по причине анормальных состояний, которые часто предшествовали у них окончательной трансформации. Они рассказывают о своих видениях, экстазах, восторгах. Это те же явления, которые возникают и у больных и составляют основу их болезни. Недавно опубликована важная работа об экстазе, рассматриваемом как проявление психастении. Но существуют болезненные состояния, являющиеся имитациями здоровых состояний; последние тем не менее являются здоровыми, а первые – болезненными. Умалишенный может возомнить себя императором; своим жестам, словам и действиям он будет постоянно придавать наполеоновскую манеру, и в этом именно будет состоять эго безумие; разве это отразится как-нибудь на Наполеоне? Точно так же можно подражать мистицизму, и это будет мистическое безумие; разве отсюда следует, что мистицизм – это безумие? Тем не менее бесспорно, что экстазы, видения, восторженные состояния являются анормальными состояниями и трудно провести различие между анормальным и болезненным. Впрочем, таково было мнение самих великих мистиков. Они первыми предостерегали своих учеников против видений, которые могли быть чистыми галлюцинациями. И своим собственным видениям, если они случались, мистики обычно придавали лишь второстепенное значение; это были дорожные происшествия; после них, оставив далеко позади экстатические и восторженные состояния, они должны были продолжать путь, чтобы достичь конечного пункта – совпадения человеческой воли с волей божественной. Истина заключается в том, что эти анормальные состояния, их близость, а иногда, несомненно, и причастность к болезненным состояниям можно легко понять, если подумать о том, какое потрясение – переход от статического к динамическому, от закрытого к открытому, от обыденной жизни к жизни мистической… При нарушении привычных отношений между сознательным и бессознательным люди подвергаются риску. Не следует поэтому удивляться, что мистицизм иногда сопровождается нервными расстройствами; они встречаются также и в других формах гениальности, в частности у музыкантов. Надо видеть в них только несчастные случаи. Эти расстройства относятся к мистике не больше, чем к музыке.
Будучи потрясенной в своих глубинах увлекающим ее потоком, душа перестает вращаться вокруг самой себя, душа на мгновение ускользает от действия закона, заставляющего индивида и род кругообразно обусловливать друг друга. Она останавливается, как бы прислушиваясь к голосу, который зовет ее. Затем, повинуясь ему, она устремляется прямо вперед. Она не воспринимает движущую ее силу непосредственно, но ощущает ее непостижимое присутствие или догадывается о нем через символическое видение. Тогда приходит огромная радость, экстаз, в который душа погружается, или восторг, который она испытывает: Бог присутствует в ней и она в нем. Тайны больше нет. Проблемы исчезают, мрак рассеивается; это озарение. Но сколько времени оно действует? Неуловимое беспокойство, витавшее над экстазом, опускается и присоединяется к нему, подобно тени. Уже его достаточно, чтобы даже без последующих состояний отличить подлинный, полный мистицизм от того, что некогда было его опережающей имитацией или подготовкой. Оно на самом деле показывает, что душа великого мистика не останавливается на экстазе как на конечной цели путешествия… Но хотя душа погружается в Бога мыслью и чувством, нечто от нее остается вовне; это воля: ее действие, если бы она действовала, исходило бы только от самой души. Ее жизнь, стало быть, еще не является божественной. Она это знает, смутно беспокоится из-за этого, и такое возбуждение в состоянии покоя характерно для того, что мы называем полным мистицизмом; оно выражает тот факт, что был взят разбег, чтобы двинуться дальше, что экстаз, конечно, затрагивает способность видеть и волноваться, но существует еще и воля, и надо вернуть ее самое в Бога. Когда это чувство выросло до такой степени, что заняло все место, экстаз угасает, душа оказывается в одиночестве и иногда впадает в отчаяние. Привыкнув за какое-то время к ослепительному свету, она больше ничего не различает в тени. Она не отдает себе отчета в той глубинной работе, которая незаметно совершилась в ней. Она чувствует, что много потеряла, и еще не знает, что это для того, чтобы все обрести. Такова “темная ночь”, о которой говорили великие мистики и которая, возможно, составляет самое знаменательное или, во всяком случае, самое поучительное в христианском мистицизме. Готовится окончательная фаза, характерная для великого мистицизма. Проанализировать эту заключительную подготовку невозможно, так как сами мистики едва различали этот механизм. Ограничимся утверждением, что машина из неимоверно прочной стали, построенная с целью осуществить чрезвычайно сильное давление, несомненно, оказалась бы в подобном положении, если бы она могла осознать себя в момент сборки. Поскольку ее детали одна за другой подвергались бы самым тяжелым испытаниям и некоторые из них отбрасывались бы и заменялись другими, у нее было бы ощущение пустоты то здесь, то там и боли везде. Но эти чисто поверхностные тяготы должны будут лишь углубиться, с тем чтобы раствориться в ожидании и надежде создать чудесный инструмент. Мистическая душа хочет быть таким инструментом… Теперь сам Бог действует через нее и в ней: единение является полным и, следовательно, окончательным… Благодаря ровному возбуждению всех ее способностей она видит все в большем масштабе, и какой бы слабой она ни была, она действует энергично. Она видит вещи прежде всего просто, и эта простота, поражающая как в словах ее, так и в поведении, ведет ее сквозь различные сложности, которых она, по-видимому, даже не замечает. Врожденное знание или, точнее, приобретенная простота сразу подсказывает ей, таким образом, полезное действие, решительный поступок, убедительное слово. Тем не менее необходимость в усилии, а также в выдержке и настойчивости остается. Но они приходят сами, они сами собой развиваются в душе, одновременно действующей и “действуемой”, чья свобода совпадает с божественной деятельностью. Они составляют огромный расход энергии, но эта энергия не только требуется, но и подается, так как необходимый для нее преизбыток жизненной силы проистекает из источника, который есть источник самой жизни. Видения теперь уже далеко: божество не может являться извне душе, отныне наполненной им. Нет больше ничего, что, казалось бы, существенно отличает такого человека от людей, среди которых он вращается. Он один отдает себе отчет в изменении, возносящем его в ранг adjutores Dei, восприемников по отношению к Богу, действователей по отношению к людям. Это возвышение, впрочем, не вызывает в нем никакого высокомерия. Наоборот, велико его смирение. Да и как не быть ему смиренным, если в безмолвных беседах один на один он мог увериться, с волнением, в котором его душа ощущала себя целиком растворенной, в том, что можно назвать божественным смирением?..
Любовь, которая его поглощает, – это уже не просто любовь одного человека к Богу, это любовь Бога ко всем людям. Через Бога, посредством Бога он любит все человечество божественной любовью. Это не братство, которое философы рекомендовали во имя разума… Такая любовь лежит у самих истоков чувства и разума, как и всего остального. Совпадая с любовью Бога к своему деянию, любовью, создавшей все на свете, она откроет тому, кто сможет ее вопросить, тайну творения. По сути своей эта любовь является метафизической еще в большей степени, чем в моральной. Она стремится с помощью Бога завершить творение человеческого рода»[42]42
Les Deux Sources, p. 242–251.
[Закрыть].
«В действительности, – прибавляет далее Бергсон, – для великих мистиков речь идет о том, чтобы совершенно преобразить человечество и поначалу самим подать пример»[43]43
Ibid., p. 256.
[Закрыть]. А что сказал св. апостол Павел? Мы должны восполнить (в смысле старания, а не заслуг) недостаток скорбей Спасителя, иными словами, продолжить во времени дело искупления, став его орудиями и, как говорит св. Хуан де ла Крус, «совлекая с себя свою оболочку и жертвуя всем остальным». Поэтому христиане и принимают крещение: именно ради этого, а не затем, чтобы возблагодарить Бога, что они не таковы, как прочие люди или как тот мытарь…
За пределами анализа собственных причин, который осуществим только средствами теологии, указывающей философу на такие реальности, как благодать, богословские добродетели и дары Святого Духа, невозможно говорить о мистическом опыте с большей глубиной, с большей проницательностью и сопереживанием, чем это делает автор «Двух источников». На приведенных мною страницах и сами теологи могли бы найти для себя кое-что поучительное. Мы видим, с другой стороны, что если подчас, в других местах, которых я здесь не цитировал, концептуальное выражение требует оговорок, то дух всего исследования Бергсона вызывает одно лишь восхищение. И когда Бергсон, казалось бы, подчинял созерцание деятельности и великим делам, его мысль в действительности – как нам известно из его собственного свидетельства – имела совсем иную направленность. Утверждая, что полный мистицизм есть действование, он подразумевал под этим просто, что созерцание святых – это созерцание, проникнутое любовью, которое по существу своему предполагает самоотдачу и потому требует от созерцателя преизобиловать действием, сообразно его обязанностям и конкретным обстоятельствам. И в самом деле, что христианский мистицизм стремится преизобиловать трудами спасения, стремится повлиять на мир – это одна из важнейших истин.
Бергсонова теодицея в части доказательств и рационального знания, несомненно, весьма уязвима, вернее, она вообще не существует в качестве рациональной, но смирение философа, испытывающего доверие к тем, кто побывал в мире божественного и вернулся оттуда, – не только прямое свидетельство внутренней иерархии уровней мудрости, но и гарантия от заблуждений, которых его всецело философской концептуализации было бы чрезвычайно трудно избежать. Отныне он знает с достоверностью, что Бог существует, что он есть личный Бог и свободный творец. Если опасность пантеизма, как мы полагаем, неотделима от бергсоновской метафизики, то сознательный выбор Бергсона был не в пользу пантеизма. Он обратился к мистикам, чтобы те просветили его, и они не обманули его ожиданий. Они поведали ему великую тайну, которую открыло Евангелие, хотя в определенном смысле она доступна и естественному разуму. Свидетельство мистиков, пишет Бергсон, ясно говорит, что «божественная любовь не есть нечто, исходящее от Бога, – она и есть сам Бог».
Как я только что сказал, в определенном смысле разум и сам по себе мог бы открыть ту истину, что Бог есть Любовь, – высочайшую из истин, к каким он способен прийти самостоятельно. Однако он этого не достиг. Потребовалось содействие иудейско-христианского откровения. Если откровение божественного Имени, данное Моисею: «Я есмь Сущий», внушило разуму свыше то, что разум сам по себе мог бы, но не сумел открыть, то уж тем более верно это в отношении откровения, данного св. Иоанну: «Бог есть любовь». Заметим: когда, рассматривая связь между тварью и Богом, говорят, что Бог не только должен быть любим, но что он любит, притом со всей безрасчетностью (folie) любви, и что между тварью и Богом могут быть отношения дружества, принесение даров любви, общность жизни, разделенное блаженство, то предполагаю сверхъестественный порядок благодати и христианской любви. И именно эта сверхприродная истина и этот опыт приводят разум к пониманию смысла речения «Бог есть любовь», поскольку оно содержит в себе богооткровенную истину естественного порядка, утверждающую, что в Боге любить и существовать – одно и то же. Самое яркое знамение славы Божией, доступное нашему разуму, – в том, что любовь, которая непременно предполагает разум и которая есть, прежде всего, сверхизлияние, высшее преизобилование жизни духовных существ, в Боге тождественна самой сущности и самому существованию Бога. В этом смысле Любовь есть его истинное Имя, его евангельское Имя[44]44
См. нашу работу «Sept Leзons sur l’Кtre», p. 107–108.
[Закрыть].
Это имя открыли Бергсону мистики, благодаря чему он сразу возвысился над всей своей философией. Если философ «обратится к мистическому опыту, – пишет он, – Творение представится ему делом Бога, начатым для того, чтобы сотворить творцов, взять себе в помощники существа, достойные его любви»[45]45
Les Deux Sources, p. 273.
[Закрыть]. Добавим: для того, чтобы творить богов, преображаемых в Бога в любви и чрез любовь, – и мы присоединимся тогда к св. Павлу и св. Хуану де ла Крусу.
При том весьма своеобразном методе, которому следует здесь Бергсон, – я имею в виду, что, философствуя о божественном, он решил учиться у мистиков, – неудивительно, что от живой веры этих наставников в его философию проникли какие-то отзвуки собственно сверхъестественного порядка. И, таким образом, ясно, что, каковы бы ни были недостатки его теории динамической религии – некоторые из них я отметил выше, – в ней есть самое важное для христианина. Когда по поводу возникновения христианства он говорит на своем особенном языке, что «сущностью новой религии должно было стать распространение мистицизма»[46]46
Les Deux Sources, p. 255.
[Закрыть] и что «в этом смысле религия для мистицизма то же, что популяризация для науки»[47]47
Ibid.
[Закрыть], разве не утверждает он в действительности основополагающую истину, которую св. Фома выражает так: «Новый закон, по крайней мере в том, что является в нем главным, – закон не писанный, но влиянный в сердце, ибо это закон Нового Завета. Важнейшее в законе Нового Завета, то, в чем состоит вся его сила, есть благодать Святого Духа, каковая дается чрез живую веру…»[48]48
Sum. Theol., I–II, q. 106, a. 1.
[Закрыть] Отсюда следует, что без любви я ничто, как говорит св. Павел, и что совершенство милосердия, единение, преображающее в Бога, заповедано, – конечно, не как нечто, что надо немедленно осуществить, но как предел, к которому должен стремиться каждый, сообразно своему положению.
Мы отмечали, что изложенная в «Двух источниках» теория статической и динамической морали сохраняет от морали все, кроме нее самой.
Понятно, что эта формулировка, конечно же слишком резкая, относится к строго рациональному, человеческому содержанию этики и приложима к бергсоновской концептуализации. Если же рассматривать, наоборот, духовные интенции учения Бергсона, то надо сказать, что оно обогащает нас ценнейшими знаниями об условиях, сопутствующих явлениях и социальных механизмах морали, а также о ее внутреннем динамизме.
С одной стороны, оно предостерегает нас от всего огромного бремени подражания, бессознательного или намеренного, рутины, социальных рефлексов и социального конформизма, – бремени, представляющего угрозу для нашей нравственной жизни. С другой стороны, оно предупреждает нас, что на деле, в конкретной реальности, моральная жизнь утрачивает в нас все свое поистине преображающее значение, если она не проникнута призывом и призванием, порывом и стремлением, неутолимым, страстным стремлением не к чему иному, как к святости, ибо то, что Бергсон именует призывом героя, – это, вне всякого сомнения, призыв святого. Привязывая таким образом моральное к сверхморальному, т. е. к теологическому, связывая закон с любовью и свободой, Бергсон спасает мораль.
Спустя тридцать лет
Первая опубликованная мною работа содержала суровую критику бергсонизма[49]49
La Philosophie Bergsonienne, Etudes Critiques. Paris, Riviиre, 1913. Второе издание, пересмотренное и исправленное, с добавлением 86 страниц Предисловия – Paris, Tйqui, 1930.
[Закрыть]. Она вышла в конце 1913 г., тридцать лет назад. Третья часть этой книги была озаглавлена «Два бергсонизма»; там я пытался различать то, что я называл бергсонизмом факта, к чему и относились все мои критические аргументы, и то, что я именовал бергсонизмом намерения, – этот последний, в моих глазах, был ориентирован на томистскую мудрость.
Возьму на себя смелость привести здесь одну страницу из заключительной главы. С изрядной дерзостью я обращался как бы к самому Бергсону: «Вы прозреваете существование личного Бога. Это не Бог ученых; это живой и деятельный Бог, Бог каждого человека. Можете ли вы продолжать относиться к нему как теоретик к своей идее, а не как человек к своему Господу? Есть тайны, которые он один может нам открыть. Вы сами – одна из таких тайн. Вы узнали бы вашу цель и путь к ее достижению, если бы познали эти тайны. Но вы познаете их, если самому Богу угодно будет их поведать. – Право же, философы затеяли странную игру. Им прекрасно известно, что важно только одно и что вся пестрота изощренных словопрений скрывает один-единственный вопрос: для чего мы рождаемся на свет? Известно им и то, что на этот вопрос они никогда не дадут ответа. Однако они продолжают забавляться с важным видом. Значит, они не понимают, что к ним отовсюду идут не из желания перенять их ученость, а потому, что надеются услышать от них живое слово? Если они знают такие слова, почему они не кричат их на всех перекрестках и не требуют от своих учеников пролить за них, если понадобится, собственную кровь? Если нет, зачем же они допускают, чтобы люди ждали от них того, чего они не в состоянии им дать? Если Бог когда-либо отверзал уста, если где-нибудь, хотя бы даже на кресте, он засвидетельствовал истину, ради всего святого, скажите ее нам, – вот что вы должны нам изъяснять. Или, может быть, вы как те лжеучители Израиля, раз вам это неведомо?»[50]50
Op. cit., p. 402–403.
[Закрыть]
Мог ли я по прошествии стольких лет не увидеть в новейших разработках философии Бергсона ответ на мучительный вопрос, который я когда-то задавал?
Учитель, пробудивший во мне влечение к метафизике, знал, что я критиковал его доктрину из стремления к истине, и был так великодушен, что не сердился на меня за эту критику, которая, однако, затрагивала то, что для философа всего дороже, – его идеи. За несколько лет до кончины Бергсон писал, что он редко читал св. Фому, но, обращаясь к его сочинениям, всякий раз оказывался в согласии с ним и что он охотно допустил бы, чтобы его философию рассматривали как дальнейшее развитие философии св. Фомы. Я отнюдь не испытываю нелепого желания сделать из Бергсона приверженца томизма. Но, как склонен был думать сам Бергсон, я не без оснований утверждал, что его философия заключает в себе некоторые возможности, еще не получившие развития. Случилось так, что под конец мы встретились как бы на середине пути; каждый из нас, не отдавая себе в том отчета, шел навстречу другому: он приближался к тем, что представляли во всей ее чистоте веру, к которой я принадлежу; я подходил все ближе к пониманию смысла упорного человеческого труда тех, что искали истину, но еще ее не обрели.
Шарль Дюбо однажды сказал, что разумная душа, слишком радостная от сознания своей правоты, легко может впасть в своеобразную эйфорию. На протяжении тридцати лет я не забывал, что это не я, а вся вековая традиция мудрости с ее великим Учителем – Фомой Аквинским была права, восставая против метафизической системы Бергсона. Но я еще не знал, что если невозможно быть слишком правым, то привилегия эта столь велика и столь незаслуженна, что надо постоянно оправдываться за нее. Это дань уважения, которую следует воздавать истине.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?