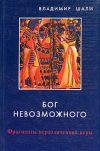Текст книги "Господин Дик, или Десятая книга"

Автор книги: Жан-Пьер Оль
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
II
«Боже мой… но это же из Диккенса!»
«Приют хороших детей»: ржавая вывеска раскачивалась на ветру и скрипела цепями. В отдаленном прошлом дверь была синей, так же как и полуоторванный дверной молоток в форме руки, одеревеневшей от холода или ужаса; и, глядя на этот фасад, покрытый толстым слоем копоти, и на эти грязные окна, занавески которых напоминали мертвые веки, можно было вообразить, что эта рука была забыта каким-то посетителем, торопившимся убраться отсюда. «Скоро каникулы, – говорила на ходу моя мать, – мне надо сделать кое-какие важные дела, так что придется тебя пока куда-нибудь пристроить… На недельку или на две, не больше». Время полдника давно прошло, я был голоден, я замерз: пальто и печенье остались забытыми в комнате за лавкой; я не понимал точного смысла слова «пристроить», я не знал, что это значит – в приют.
Незнакомые слоги: короткий детский писк «Дик», потом пугающий хлопок «кен» и какой-то насмешливый, дразнящий свист «ссс…», будто воздух, выходящий из проколотой шины, – перекатывались в моей голове, переворачивая один за другим все вопросы, теснившиеся в ней минуту назад. И вскоре в боулинге моего ума оставалась лишь одна несшибленная кегля – огромный знак вопроса, безусловно смущающий, но и многообещающий: «Дик-кен-ссс…» Из Диккенса… я прекрасно знал эту частичку, вводящую твердые материалы, съестные продукты, сильные чувства: из дерева, из хлеба, из гордости… Так, может быть, этот Диккенс не вопрос, а ответ, может быть, он даст мне на чем посидеть, что поесть, чем победить страх… В этот момент вдали засвистел поезд. Он увозил моего отца.
Наш маленький магазин дамского белья, расположенный в идущем под уклон переулке на границе пользовавшегося дурной славой района Мериадек, принадлежал моей матери. Отец большую часть дня проводил в кафе с замечательным названием «Разрядка», грязные витрины которого провиденциальным образом смотрели с противоположной стороны переулка прямо на нашу лавку и позволяли ему отслеживать появление особенно миловидных клиенток; тогда – и только тогда – он бросал карты, застегивал воротник, с чрезвычайной поспешностью пересекал улочку и с треском распахивал дверь в магазин.
«Не беспокойтесь, Катрин, – на «вы» он обращался к матери только в таких обстоятельствах, – я обслужу мадам».
После школы я устраивался в комнате за магазином на большом столе, заваленном упаковками чулок, бюстгальтерами и маленькими трусиками; в этих складках я бесшумно развертывал свои оловянные войска.
Для тихого и одинокого маленького мальчика, каким я был тогда, идеальным времяпрепровождением могло бы стать чтение. Поскольку в доме практически не было книг, моя мать считала своим долгом время от времени водить меня в местную библиотеку – примерно с той же частотой, что и к зубному врачу, и приблизительно с теми же гигиеническими целями; но мне не нравились ни угрюмое, плохо пахнущее помещение, ни обилие контролеров, которые за своими конторками клеймили печатями отвержения книги, приговоренные к отправке в макулатуру, ни серьезность матери, проникавшейся ролью доброй наставницы, ни, разумеется, сами книги, стоявшие там. Я злился на их неправдоподобные приключения, на их грубо намалеванные «экзотические» красоты, под которыми угадываешь романические обои в цветочек. Вот что мне понравилось бы, так это книга о приключениях Франсуа, сына Робера и Катрин Домаль, проживающего в Бордо, на улице Сен-Сернен, дом 23. Книга, которая подсказала бы мне, как жить. За отсутствием таковой я удовлетворялся своими солдатиками, большим альбомом с картинами битв Наполеона, подаренным мне отцом на Рождество, и древним номером журнала «Зеркало спорта» со статьей под огромным заголовком «Уимблдон-1931 – невероятный турнир!» и фотографией на обложке: «гигант» Уильям Тилден стискивает руками голову после проигранного матчбола.
Дверь из задней комнаты в магазин всегда была открыта, и, не отрываясь от игры, я слышал все те пошлые любезности, которые так щедро расточал отец («Мадам, я категорически отказываюсь продавать вам этот фасон! В таком возрасте, с таким силуэтом вам нужно что-то более… живое, более плутовское, если вы позволите мне это выражение…»), и все любезности почти неизменно следовавших далее семейных сцен.
– Увы, дорогая, я… это сильнее меня… Это – ну, как… труба, вот! Труба, которая меня зовет…
– Труба? – уточняла мать своим высоким визгливым голосом.
– Да, ну ты понимаешь, что я хочу сказать… что-то такое, что тебя несет против воли… чему ты не можешь противиться!
И в подтверждение этого специфического аргумента он начинал «махать крыльями», как птенчик, подхваченный ветром; зрелище тем более забавное, что у «птенчика», весившего больше восьмидесяти килограммов, были лапы борца и воловий загривок.
Иногда маме случалось всплакнуть, но, в сущности, эти сцены не были драматичными. Я помню только одну яростную ссору совсем по другому поводу, которого я, кстати, тогда совершенно не понял. Это происходило вечером; было довольно поздно, но я еще не спал. Мы все уже легли, я – в своей маленькой комнатке, они – у себя; нас разделяла лишь тонкая перегородка.
– Робер, ты соображаешь или нет, он же ее никогда не видел!
– И тем лучше! А самое лучшее – чтоб он о ней никогда и не слышал!
– Но это же чудовищно!
– Это она – чудовище!
– Господи, да вся деревня ее обожает!
– Да? А ты сходи на кладбище и спроси своего отца, как он ее обожал! Она его поджаривала на медленном огне!
– Ну да, это правда, что она иногда бывала с ним немножко… капризна… но это из-за ее ноги!
– Ее нога! Ха-ха! Я сейчас лопну со смеху! – Отец почти кричал. – Да она прекрасно ходит, эта ее нога! Подозреваю, что она регулярно закапывает туда какую-нибудь дрянь, чтобы поддерживать воспаление и сидеть у всех в печенках!
Потом я заснул, и мне приснилась огромная нога, разгуливавшая по комнате.
Из того, что продавалось в нашем магазине, больше всего я любил белье марки «Близко к сердцу». Крепкие, идеальные параллелепипеды этих коробок приводили меня в восторг. Они прекрасно укладывались друг на друга, образуя сплошную непробиваемую крепостную стену для моих солдат. Это была старая почтенная торговая марка, репутация которой зиждилась более на качестве материи и тщательности пошива, чем на смелости экспериментов; это белье подходило женщинам зрелым и благопристойным. Если бы мы продавали только такие вещи, можно было бы держать крупное пари на то, что мой отец вообще никогда не покидал бы своего любимого столика в кафе «Разрядка», и я, возможно, никогда не прочитал бы Диккенса.
Но наступает день, когда то, что было «близко к сердцу», становится «совсем близко». Лифчики теперь облегают, трусики суживаются, появляются пояса с подвязками, производят фурор кружева; коричневый цвет и пристойный беж уступают место вызывающему белому и похотливому черному. Симпатичные маленькие картонки заменяются бесформенными пакетиками, среди которых грустно бродят мои драгуны, уланы и зуавы, обдумывая планы дезертирства. Наконец, старинный, представитель фирмы месье Гражан со своей непременной щеточкой, прогорклым запахом и мятым прорезиненным плащом уступает место мясистому созданию, известному мне под именем «мадемуазель Корали» – никогда не слышал, чтобы ее называли как-то иначе.
Мадемуазель Корали носила очень короткие юбки и очень длинные ресницы, ее отличали низкая острота зрения – кокетливо подправленная незаметными линзами – и высокие каблуки. При любых обстоятельствах на ее лице сохранялась пренебрежительная и вызывающая гримаска а-ля Линда Дарнель, что не позволяло мадемуазель Корали произносить какие-либо иные гласные, кроме «о» и «у». Воспринимал ли я, несмотря на мой юный возраст, те чувственные обещания, которые с какой-то пассивной алчностью подчеркивались кармином «совсем близко к губам»? Во всяком случае, я подстерегал каждый ее визит и однажды дошел даже до того, что скромно встал у двери.
– Добруй дунь, модом Домоль, у вое всо хорошо?
Моя мать еще не успела ответить, а в переулке уже послышались торопливые шаги. Красный, с трудом переводя дух, отец появился в магазине под улюлюканье своих партнеров по белоту, столпившихся у витрины кафе «Разрядка».
– Не беспокойтесь, Катрин, я займусь.
– Мусьо Домоль!
Давно продуманным и искусно лицемерным жестом мадемуазель Корали одергивает свою мини-юбку, чтобы выглядеть более прилично, но благодаря эластичной материи достигается обратный эффект. Затем она раскрывает свой каталог.
– Конечно, это очень… гм, впечатляюще, – отец медленно перелистывает страницы, глаза у него лезут на лоб, – но… удобно ли это?
– Обсолутно! Йо ношу только токоу!
Робер Домаль шумно сглотнул. Участь нашей семьи была решена.
На другой день учительница отпустила нас немного раньше обычного. Обнаружив, что магазин заперт, я прошел через дворик и вошел с черного хода. Эту дверь отец в спешке забыл закрыть на ключ. Первое, что я увидел, войдя, – моих упавших солдатиков, разбросанных по всему полу; грустное зрелище! Закричав, я тут же кинулся поднимать одного из них, моего любимого, знаменосца Рейнской армии, и обнаружил, что древко не выдержало удара. Только тогда я поднял глаза и увидел отца и мадемуазель Корали. Один отчаянно пытался застегнуть брюки, а другая, отвернувшись от меня, искала, стоя на четвереньках, свои трусики среди раскиданных по столу коробок. Это молочное сияние плоти в сочетании со странным запахом, витавшим в комнате, и чем-то теплым и влажным, что случайно ощутили мои пальцы, когда я коснулся края стола, слагая на него бренные останки несчастного знаменосца, вызвали в моем паху некое явление, смысл которого открылся мне много позже.
Затем мадемуазель Корали, вновь обретя трусики, торопливо их напялила и, раздавив каблуками своих туфель, которые она не снимала, одного гвардейца и одного рейтара, выскочила во двор как раз в тот момент, когда к дому подошла мать с продуктовой сумкой в руках. Как сейчас вижу ошеломленное лицо отца в то мгновение, когда сомкнулись челюсти этого капкана: мадемуазель Корали завлекла его на коралловый риф греха, а моя мать отрезала путь к материку раскаяния.
– Убирайся из моего дома!
– Катрин, я…
– Убирайся из моего дома сейчас же!
Ею овладела какая-то дикая радость – она вся преобразилась. Словно давно ждала этого момента. Скорчившись под столом, напрасно пытался я затыкать уши. Потом снова появился отец – с чемоданом в руке.
– Робер, ты не можешь вот так взять и уйти! Это твой сын, ты должен с ним поговорить!
– Чтобы сказать ему что? Что его мать меня выгнала?
– Ты должен это сделать!
– Увы, малыш, я… я тут ни при чем… Это… труба, понимаешь? – Робер Домаль помахал в последний раз крыльями, и труба унесла его из моей жизни.
– Вот, – просто сказала моя мать.
Она сыграла свой ударный эпизод. И на этом ее роль заканчивалась.
* * *
– Добро пожаловать к «Хорошим детям»! Как зовут этого маленького господина?
Когда дверь отворилась, в лицо нам повеяло тяжелым духом, напоминавшим зловонное дыхание печеночного больного; трухлявый паркет грозил поглотить вошедшего, а полуотклеившиеся и свисавшие со стен полосы обоев облизывали его, словно языки.
– Франсуа, – нервно сказала мать. – Его зовут Франсуа…
Монахиня наклонилась, чтобы рассмотреть меня поближе. Дыхание ее было таким же тошнотворным, как запах в доме. Затем она посторонилась, и я увидел раскрытую дверь с табличкой «Игровая комната».
Монахиня положила руки мне на плечи и предложила войти; я подчинился с таким же энтузиазмом, как если бы она приказывала мне войти к ней в рот.
Комната была узкой, но очень длинной. Слева от входа, в пыльном углу, выгороженном шатким книжным шкафом, на деревянной скамье сидело с полдюжины ребятишек, зашептавшихся при моем приближении. В комнате, внушавшей почтение своими размерами, их тесно сбившаяся кучка выглядела смешно. Один из них показал мне язык, другой посмотрел на меня испуганным взглядом, который я воспринял как предостережение. Всю эту сцену освещали лишь два крохотных оконца. С некоторой тревогой я заметил, что в глубине комнаты что-то шевелится. Вдруг мне показалось, что пол наклонился, подталкивая меня вперед.
– Иди, дитя мое, иди, никто тебя не съест!
Вцепившись в мать, я сделал несколько шагов, ступая на цыпочках, словно шел по краю пропасти. В стене справа были две двери: «Туалеты» и «Столовая»; запахи, доносившиеся оттуда, легко можно было спутать.
Постепенно привыкая к полутьме, я дошел уже почти до середины комнаты, когда увидел прямо перед собой маленькую бледную круглолицую девочку со странной прической: густые рыжие волосы были симметрично расчесаны на пробор, закручены над ушами и прихвачены заколками. Она была, наверное, моих лет, но наморщенный лобик делал ее взрослее. Вокруг нее валялись распоротые подушки, обезглавленные куклы, поломанные машинки и паровозики. Она была занята, сосредоточенно пытаясь оторвать руки и ноги у деревянной марионетки, наряженной в клетчатый балахон с вышитой на нем надписью «Меня зовут клоун Бобо!». Несмотря на перечеркивавшую лицо прорезь, клоуну Бобо было явно не до смеха: он попал в маленькие, но опытные руки; шея у него уже была сломана, голова свешивалась на грудь.
– Ее зовут Матильда, – умиленно сказала монахиня. – И Матильда как раз ищет какого-нибудь нового друга… Видишь, она немножко… поссорилась с прежними… но я уверена, что вы прекрасно друг с дружкой поладите! Правда она красивая, наша Матильда?
Да, Матильда действительно была красива. Зеленые глазки. Маленький, чуть вздернутый носик. Скуластенькая. Она покончила с клоуном Бобо и молча посмотрела на меня. Я едва узнал изменившийся от беспокойства голос матери:
– Э-э… Да, очень красивая, в самом деле.
Очень красивая, несомненно. Но что-то было не то в этой самой красоте. Чем больше я вглядывался в правильные, выразительные черты ее бледного лица и в зеленые глаза, тем больше восхищался ею и тем меньше находил ее красивой в том смысле, который всегда вкладывал в это слово. Тут требовалось какое-то другое слово, которого в моем детском словаре еще не было. С ней получилось как с тем уланом, подаренным мне отцом в прошлом году: ландскнехты блестели ярче, гвардейцы были изящнее, но я любил этого улана, сам не знаю почему. Я даже имени ему не придумал; иногда я называл его просто «Ужасный».
– Ну, крошки мои, познакомьтесь поближе!
Матильда посмотрела мне прямо в глаза, сделала шаг вперед и потом еще один, наступив при этом на останки забытого Бобо. Она протянула руку, взяла мою и с какой-то невероятной силой потянула меня к себе. Другой рукой я все еще цеплялся за мать, но эта девчушка притягивала меня так сильно, что на какой-то миг мне показалось: вот сейчас мать меня отпустит. И меня охватил такой ужас, что я впервые, с тех пор как вышел из пеленок, наделал в штаны. Матильда с безжалостным любопытством следила за тем, как расползается пятно влаги вокруг ширинки моих брюк и затем вниз по штанинам; наконец, явно посчитав мое мочеиспускание данью восхищения, она удовлетворенно выпятила губки и погладила меня маленькой ладошкой. Неожиданный, непостижимый контакт; никогда еще ко мне не прикасались таким образом, так легко и так определенно. Нахлынувшее вслед за тем приятное волнение заставило меня позабыть и мой страх, и мой позор. И я, в свою очередь, взглянул Матильде прямо в глаза; я смотрел на нее так, как не осмеливался смотреть никогда и ни на кого – даже на мадемуазель Корали, – и я наклонился к Матильде, чтобы поцеловать ее, но вмешалась благочестивая сестра:
– Мой Бог!.. Но это неприлично! Какой ужас! В его-то возрасте!
– Я… я не понимаю, – лепетала моя мать. – Уверяю вас, с ним никогда такого не бывало.
Матильда улыбнулась; я ничего не соображал, и ее улыбка просто отразилась на моем лице.
* * *
Я сидел напротив матери. Мимо окна бесконечной вереницей бежали сосны.
Я впервые ехал на поезде, впервые видел такой густой, такой нескончаемый лес. Я говорил себе, что этого не может быть, что это декорация, что какие-то невероятно расторопные бутафоры без конца перетаскивают вперед одни и те же сосны – всего какую-нибудь сотню, не больше, – искусно располагая их так, чтобы создать иллюзию бесконечности… Мать, во всяком случае, кажется, вполне верила в этот обман.
– Боже мой, как это красиво, как это успокаивает! Как я могла так долго жить вдали от этих лесов! Скоро мы будем дома…
– Дома?… – тупо переспросил я.
Мне трудно было представить, что в конце этих рельсов стоит знакомый дом на улице Сен-Сернен – с зарубками на дверном косяке, с внутренним двориком и тремя маленькими сырыми комнатками. Или я должен был думать, что этот поезд бежит по кругу, как уменьшенные электрические модели в витринах игрушечных магазинов? Но нет же, солнце стоит в окне вагона с самого нашего отъезда, никуда не уходит, значит, мы все время едем на запад.
– Я хочу сказать – у меня… у твоей бабушки.
Мне решительно не понравилось это «у меня», не говоря уже о какой-то бабушке, про которую я никогда ничего не слышал и которая сваливалась мне на голову в самый неподходящий момент. Я упрямо насупился и сказал, не глядя на мать:
– Мне больше нравится наш настоящий дом.
– Туда мы уже не можем вернуться. Его сняли другие люди.
Чтобы найти покупателя нашего торгового предприятия, ей не потребовалось и недели; оказалось, что достаточно перейти улицу и открыть дверь кафе «Разрядка». Один из партнеров моего отца был агентом по недвижимости, другой – нотариусом, а третий, у которого была сеть химчисток, как раз подыскивал место, чтобы открыть механизированную прачечную. Позднее я узнал, что вырученных от продажи денег едва хватило, чтобы расплатиться по счетам и оплатить перевозку вещей. На руках у нас наверняка не осталось и пяти тысяч франков, но то, что продажа осуществилась так быстро, словно по волшебству, породило у матери какую-то эйфорию, и этот безмятежный оптимизм так мало шел ей, что мне было за нее стыдно, примерно так, как если бы она, отказавшись от своих строгих костюмов и бежевого непромокаемого плаща, надела мини-юбку и соблазнительную блузку мадемуазель Корали.
– Ты чувствуешь, Франсуа? Это – море!
– Значит, это море воняет!
Это было правдой: смрадный запах серы и гнилой капусты уже проник в купе.
– Мы подъезжаем!
Я уже не вернусь к «Хорошим детям». И Матильда, и клоун Бобо будут на долгие годы похоронены в глубинах моей памяти. И все же именно там, в глубине той темной комнаты, я впервые встретился с двумя самыми главными персонажами повести моей жизни: с Диккенсом и с моей женой.
III
Прижавшись носом к стеклу, я разглядывал длинный фабричный хобот, выбрасывавший непрерывную струю опилок. Огни печей подсвечивали образованные этими выбросами крутые горы; по их склонам с трудом взбирался смешной гусеничный экскаватор, напоминавший жука, штурмующего огромную кучу навоза. Потревоженные ковшом, опилки медленными лавинами сползали налево и направо, и через несколько секунд гора превращалась в площадку. Но хобот продолжал плеваться, гора восстанавливалась, жук кашлял, упирался, буксовал и наконец снова шел на штурм. Время от времени фары машин вырезали из темноты контуры гигантских рулонов бракованной бумаги, которые стояли вдоль обочины, словно ожидая, когда какой-нибудь циклоп схватит один из них и оторвет клок, чтобы подтереть свой циклопический зад.
– Эй! Малыш! Зайди ко мне…
Взвывает сирена. Восемь часов. Теперь уже скоро придет мать. Летом я мог следить за тем, как она выходит из фабричной конторы, ждет, пока горит красный свет, и затем переходит улицу по направлению ко мне, за несколько секунд до того, как хлынет поток рабочих второй смены. Но сейчас зима, и уже темно. Бабушка зовет меня.
Это была красивая, свежая и кокетливая маленькая старушка, всегда безукоризненно одетая, с прекрасными серебряными волосами, собранными в узел на затылке. Иногда под вечер она засыпала в своем кресле у камина и улыбалась во сне. Затем, вздрогнув, просыпалась, хлопала глазами, слегка оправляла кружевной воротничок блузки, чтобы он выглядел безупречно, и звала меня; у нее был приятный, почти юный голос. Когда я подходил, она снова улыбалась. Ее безмятежно-ясное лицо медленно поворачивалось ко мне; она притягивала меня к себе. Кожа ее совсем не была шершавой, как бывает у стариков; я вдыхал запах ее духов «Утренняя серенада» – духов молодой девушки, она заказывала их по почте. Она проводила рукой по моим волосам и ухватывала меня за щеку. Иногда какой-нибудь зевака задерживался перед окном, чтобы полюбоваться этой картиной. И если бы он мог открыть окно, вот что бы он услышал: – Значит, я тебе противна, а? – Ее наманикюренные ногти впивались мне в щеку. – Ты только не подумай, что мне приятно спросонок увидеть твою крысиную мордочку… Это просто немножко, совсем чуть-чуть напоминает мне, что я еще существую, понимаешь?
Она снова ерошила мои волосы, вылавливая узелки, которые удаляла короткими шлепками.
– У добрых людей есть тысячи способов напоминать другим о себе: подарки, улыбки, гостинцы и сюси-муси-пуси. А я не добрая, у меня нет выбора, мне надо кому-нибудь надоедать. И никого, кроме тебя, у меня под рукой нет…
В каком-то смысле справедливо было и обратное: у меня тоже никого больше под рукой не было. Ни друзей, ни даже приятелей. Мать приходила поздно, к тому же она со мной почти не разговаривала: я будил в ней оскорбительные воспоминания.
Когда я понял, что приставания бабушки – это лишь некий ритуал, не предполагающий ничего неожиданного, я перестал их бояться и уже ждал их, как другие дети ждут улыбок, ласк или конфет.
«Неподвижная» – так я назвал ее с самого начала: она была калекой. Ее левая нога, твердая, как деревяшка, и сине-красная из-за плохой циркуляции крови, должна была все время находиться в горизонтальном положении, для чего была предусмотрена специальная табуретка. Я практически никогда не видел их порознь: бабушкину ногу без табуретки и табуретку без бабушкиной ноги. Когда я шел спать, Неподвижная еще оставалась в своем кресле, а когда я просыпался, она уже снова сидела там – точно в том же положении; она была словно какая-то холодная звезда, словно неподвижное солнце, которое никогда не садится и никогда не встает.
Правда, однажды вечером я подсмотрел, спрятавшись за дверью, как моя мать ведет ее к кровати. Неподвижная передвигалась крохотными шажками, опираясь левой рукой на палку, а правой – на дочь. Звук от шага больной ноги был глуше, чем от шага здоровой. Оказавшись в своей комнате, старушка одним и тем же раздраженным жестом оттолкнула от себя палку и дочь, упала на кровать и, вздыхая, втащила на нее непослушную ногу.
– Тебе больше ничего не нужно, мама?
– Ничего. – Неподвижная странно улыбнулась, потом улыбка вдруг исчезла. – Ногу. Ногу, дура! Принеси мне новую ногу или заткнись и убирайся!
Я решил, что должен поближе рассмотреть такую знаменитую ногу. Возможности для этого были: мне вменялось в обязанность по возвращении из школы «составлять компанию» старушке. О неисполнении немедленно докладывалось, и преступление каралось арестом моих солдатиков (при всегдашней снисходительности в этом отношении мать проявляла совершенно необычную строгость). Вообще говоря, ничего конкретно делать было не нужно, только выслушивать саркастические бабушкины замечания, которые она отпускала с регулярностью, напоминавшей взрывы полевых петард для отпугивания птиц. Но иногда она дружелюбно улыбалась мне, перед тем как произнести своим приятным, мелодичным голосом:
– Мне скучно, бездельник. Возьми книгу.
Я немедленно открывал атлас на странице, отмеченной закладкой, и наугад тыкал пальцем в карту:
– Колорадо?
– Денвер!
– Огайо?
– Колумбус!
Я так и не смог понять, почему этой женщине, никогда не покидавшей пределов городка Мимизана и чихать хотевшей на историю и географию – как, впрочем, и на все остальные виды человеческого знания, – почему ей взбрело в голову, что она должна выучить наизусть столицы Соединенных Штатов. Как бы там ни было, эта специфическая и совершенно бесполезная компетентность доставляла ей самое глубокое удовлетворение. Кроме того, эта тупая игра выполняла еще одну функцию: в больших дозах она ее усыпляла.
– Небраска?
– Линкольн!
– Канзас?
– Ах-ах! Топика!
В конце концов я полюбил эту карту – не ее переливчатые цвета и не ее экзотические названия, тревожившие какие-то смутные отголоски историй об индейцах и ковбоях, – я полюбил сами эти изящные, ирреальные многоугольники, которые образовывали Штаты. «Вот где все должно быть просто и спокойно», – думал я, обводя пальцем евклидовы контуры Монтаны.
– Ну, олух, Топика – правильно или пальцем в зад?
– Да, правильно.
– А ты думал, я такая дура, что скажу «Канзас-Сити», да?
Вскоре ответы подаются уже не так быстро; она сонно клюет носом, вздрагивая при каждом новом вопросе. Я пользуюсь этими гипнотическими мгновениями между дремотой и бодрствованием, для того чтобы существенно отклониться от темы:
– Висконсин?
– Гм-м-м?… Висконсин?… М-м… Мэдисон…
– А от чего умер дедушка?
– Гм-м-м… Дедушка… гм-м… от меня… он умер… от меня…
– А на чердаке – это его комната, да? Почему туда никто не заходит? Что там?
– Хр-р-р… чердак?… гм-м-м!.. дерьмо… там куча дер-р-рь… м-ма…
Как только она засыпает, я склоняюсь над этим непреходящим чудом – идеально круговой границей, отделяющей на уровне ее колена здоровую плоть от больной. Эта чисто геометрическая окружность напоминает мне границу между Оклахомой и Канзасом. Выше колена – розово-серое ровное пространство без каких-либо особенностей; ниже – поверхность, усеянная буграми нарывов и коричневыми кратерами, изборожденная расширенными сосудами, из которых одни – красные, а другие – темно-синие, и почти видно, как по ним бежит кровь. Но за волшебной границей реки вновь уходят под землю, вулканы потухают и горы сглаживаются.
– Нравится моя нога? Хочешь сфотографировать на память?
В первый момент, чересчур поглощенный своими мыслями, я не соображаю, что сейчас последует удар палкой. Но в следующее мгновение вспоминаю, что, перед тем как заснуть, она всегда шумно и с усилием сглатывала, словно принимала таблетку сна, – и едва успеваю отскочить. Взгляд, которым она меня провожает, блестит предвкушением радости, и я вижу самое счастливое выражение, какое только может появиться на этом лице.
– Неподвижная… – восторженно бормочет она, – я тебя и не двигаясь достану…
И обещание честно исполняется. Рано или поздно, в тот же вечер, или назавтра, или через несколько дней, я фатально забываю о нависшей надо мной угрозе и оказываюсь в пределах досягаемости палки; в любом случае у нее в запасе было и другое оружие, а именно тапкомет. Это была техника высшего класса, и если бы я смог ею овладеть, звездная популярность на переменах была бы мне гарантирована. Концом своей палки она стаскивала тапок с больной ноги, раскручивала его, как пращу, и в нужный момент снайперски выстреливала им по любой подвернувшейся цели, как то: мои ягодицы, тартинка с вареньем, которую я собирался проглотить, моя ручка-вставочка, когда, высунув язык, я уже готов был ставить финальную точку в домашнем задании по чистописанию – сколько раз это попадание стоило мне оценки «ноль», – и даже переключатель каналов телевизора. Именно в тот момент, когда Зорро выхватывал шпагу, в воздух взмывал тапок – и дальше я должен был наблюдать за тем, как наскакивают друг на друга Малыш-Красавчик и Батиньольский Крепыш (Неподвижная обожала кетч; она смотрела его, макая печенье в подслащенное вино, причем всасывала жидкость с шумом, от которого у меня, как предполагалось, должны были течь слюнки).
А хуже всего было то, что я не мог оставить тапок валяться там, куда он упал, я обязан был водворить его на место до прихода матери: стреляный воробей, который сам заряжает ружье охотника…
Но добило меня Ватерлоо.
Добрых два часа ушло у меня на то, чтобы расположить армии друг против друга. Все были на месте: Веллингтон со своей пехотой и ста пятьюдесятью шестью пушками, кавалерия Нея, Келлерман и конная гвардия, Груши, Блюхер, старая гвардия Камбронна; армии расположились по обе стороны плато Монсенжан – крышки от обувной коробки, укрепленной крафт-бумагой, на которой я изобразил скалы, ручей и несколько домов. Итак, 18 июня 1815 года, Ватерлоо, 11 часов 29 минут; я закрыл глаза, глубоко вздохнул и приготовился начать знаменитый отвлекающий маневр на правом фланге, как вдруг в воздухе раздалось мерзкое шипение, за которым последовал тонкий отчаянный перезвон фигурок, ударявшихся друг о друга.
– Ничья! – загоготала Неподвижная.
Я открыл глаза. И что же я увидел? С предельной беспристрастностью тапок одним ударом снес и пехотные каре Веллингтона, и атакующие цепи Нея. Англичане, французы, голландцы, пруссаки – все валялись вперемешку, убитые, искалеченные или просто ошеломленные жутким видением такого инфернального снаряда.
Из этого происшествия я извлек два урока: во-первых, Неподвижная способна не только симулировать дремоту, но и проникать в мои мысли с той же легкостью, с какой сверло дрели входит в мягкую древесину, а во-вторых, мне надо подыскивать какое-то тапкобезопасное, бронетапковое занятие. К счастью, долго искать мне не пришлось.
* * *
«Здоровый морской воздух Мимизана» не оказал на мать того благотворного воздействия, на которое она рассчитывала, если не сказать больше: после двух-трех недель душевного подъема, связанного с обустройством на новом месте, состояние ее очень быстро начало ухудшаться. Я имею в виду не только восковой цвет лица, круги под глазами и хриплый кашель, но и все ее существо в целом; казалось, что под воздействием фабричных миазмов она пожелтела и покрылась мелкими трещинками. И как ни парадоксально, чем более она становилась худой, прозрачной и призрачной, тем более привлекала к себе внимание. В глазах всех она была ожившей статуей «покинутой женщины».
И однако я помню, что когда пришло первое письмо, она отнеслась к этому с полнейшим равнодушием. Она вскрыла его, прочла, протянула, не сказав ни слова, мне и вернулась к чистке картошки. На лице ее не отразилось никакого чувства.
Моя драгоценная,
встречный ветер разбросал в разные стороны лодки нашей жизни, но от этого мы не стали чужими друг другу. Есть связи, которые ничто не может разорвать. Пусть эти несколько строк послужат тебе доказательством.
Обнимаю малыша.
Твой супруг, несмотря ни на что,
Робер Домаль
P. S. Тут еще кое-какая безделица, сбереженная в бурю.
Потом мать спокойно разорвала письмо и выкинула обрывки в мусор вместе с рекламой мотоблока для стрижки газона, куда были завернуты картофельные очистки, а конверт с десятью купюрами по пятьсот франков сунула на буфетную полку, положив на него сверху большой ржавый ключ.