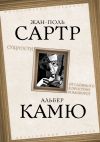Текст книги "Пограничные состояния. Когда бездна смотрит на тебя"

Автор книги: Жан-Поль Сартр
Жанр: Зарубежная психология, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Бытие-для-другого
(Из книги «Бытие и ничто»)
…Что справедливо относительно меня, справедливо относительно другого. Пока я пытаюсь высвободиться из хватки другого, другой пытается высвободиться из моей хватки; пока я пытаюсь подчинить другого, другой пытается подчинить меня. Дело идет вовсе не о каких-то односторонних отношениях с неким объектом-в-себе, а о взаимных и подвижных отношениях. Нижеследующие описания должны поэтому рассматриваться в свете конфликта. Конфликт – это изначальный смысл бытия-для-другого.
Если исходить из первичного откровения другого как взгляда, то мы должны признать, что воспринимаем свое неуловимое бытие-для-другого в форме обладания. Мною владеет другой: взгляд другого манипулирует моим телом в его обнаженности, заставляет его явиться на свет, вылепливает его, извлекает его из неопределенности, видит его так, как я его никогда не увижу.
Другой владеет тайной: тайной того, чем я являюсь. Он дает мне бытие и тем самым владеет мною, я одержим им, и это его владение мною есть не более и не менее как его сознание обладания мною. И я, признавая свою объектность, ощущаю, что у него есть такое сознание. В плане сознания другой для меня – это одновременно похититель моего бытия и тот, благодаря которому «имеется» бытие, являющееся моим бытием.
Так я прихожу к пониманию этой онтологической структуры: я ответственен за свое бытие-для-другого, но сам не являюсь его основой; мое бытие-для-другого является таким образом в виде случайной данности, за которую, однако, я ответственен, и другой полагает основу моему бытию постольку, поскольку это бытие имеет форму «имеющегося»; но другой за него не отвечает, хотя он и создает его по своей вольной воле, в своей свободной трансценденции и ее силами.
Так что в той мере, в какой я раскрываюсь перед самим собой как ответственный за свое бытие, я отвоевываю себе то бытие, каким, собственно, уже и являюсь; то есть я хочу его отвоевать или, в более точных выражениях, я являюсь проектом отвоевания для себя моего бытия. Эта вещь, мое бытие, предстает мне как мое бытие, но издали, как пища Тантала; я хочу протянуть руку, чтобы схватить ее и поставить ее на основание моей собственной свободы.
В самом деле, если мое бытие-объект, с одной стороны, есть невыносимая случайность и чистое «обладание» мною другим человеком, то, с какой-то другой стороны, это мое бытие есть как бы указание на то, чтó я обязан отвоевать и обосновать в качестве моего собственного основания. Но это невозможно себе представить иначе, как путем присвоения мною себе свободы другого. Выходит, мой проект отвоевания самого себя есть по существу проект поглощения другого. При всём том проект этот должен оставить нетронутой природу другого.
Иначе говоря: 1) Пытаясь поглотить другого, я тем не менее не перестаю утверждать другого, т. е. не перестаю отрицать свое тождество с другим: ведь если другой, основание моего бытия, растворится во мне, то мое бытие-для-другого испарится. Если, таким образом, я проектирую осуществить единение с другим, то это означает, что я проектирую вобрать в себя инаковость другого как таковую, как мою собственную возможность. Дело для меня идет, собственно, о том, чтобы придать своему бытию возможность вбирать в себя точку зрения другого. Задача, однако, вовсе не в приобретении просто какой-то еще одной абстрактной познавательной способности. Ведь я проектирую присвоить себе не просто категорию другого: такая категория неизвестна и даже немыслима. Нет, отправляясь от конкретного, выстраданного и прочувствованного опыта другого, я хочу вобрать в себя этого конкретного другого как абсолютную реальность, в его инаковости.
2) Другой, которого я пытаюсь ассимилировать, никоим образом не есть другой-объект. Или, если хотите, мой проект инкорпорации другого никоим образом не тождествен моему отвоеванию своего бытия-для-себя, моей подлинной самости и преодолению трансценденции другого путем осуществления моих собственных возможностей. Я вовсе не намерен разрушить собственную объективность путем объективации другого, что было бы равносильно избавлению меня от моего бытия-для-другого; как раз наоборот, я хочу ассимилировать другого как глядящего-на-меня-другого, и в такой проект ассимиляции входит составной частью возросшее признание моего бытия-под-взглядом другого.
Словом, я целиком отождествляю себя с моим бытием-под-взглядом, чтобы сохранить внеположную мне свободу глядящего на меня другого, и, поскольку мое бытие-объектом есть мое единственное отношение к другому, постольку это бытие-объектом оказывается единственным имеющимся у меня орудием для присвоения мною себе чужой свободы.
Так, в плане реакции на провал третьего экстаза, мое для-себя хочет отождествить себя со свободой другого, выступая гарантом его бытия-в-себе. Быть в самом себе другим – идеал, конкретно выступающий всегда в виде вбирания в себя этого вот другого, – это первичное содержание отношений к другому; иначе говоря, над моим бытием-для-другого нависает тень некоего абсолютного бытия, которое оставалось бы самим собою, будучи другим, и другим, будучи собою, и которое, свободно придавая себе как другое свое бытие-собой и как свое – бытие-другим, было бы не менее как бытием онтологического доказательства, т. е. Богом.
* * *
Это идеал останется неосуществимым, если я не преодолею изначальную случайность моих отношений к другому, т. е. тот факт, что не существует никаких отношений внутренней негативности между негацией, в силу которой другой делается другим относительно меня, и негацией, в силу которой я делаюсь другим для другого. Мы видели, что эта случайность непреодолима: она – факт моих отношений с другим, как мое тело есть факт моего бытия-в-мире. Единство с другим фактически неосуществимо. Оно неосуществимо и юридически, потому что ассимиляция бытия-для-себя и другого внутри одной и той же трансценденции с необходимостью повлекла бы за собой исчезновение у другого черт его инаковости.
Таким образом, условием для того, чтобы я проектировал отождествление другого со мною, является постоянное отрицание мною, что я – этот другой. Наконец, этот проект объединения есть источник конфликта, коль скоро я ощущаю себя объектом для другого и проектирую ассимилировать его, оставаясь таким объектом, тогда как он воспринимает меня как объект среди других объектов мира и ни в коей мере не проектирует вобрать меня в себя. Приходится, стало быть, – поскольку бытие для другого предполагает двойное внутреннее отрицание – действовать на то внутреннее отрицание, в силу которого другой трансцендирует мою трансценденцию и заставляет меня существовать для другого, т. е. действовать на свободу другого.
Этот неосуществимый идеал в той мере, в какой он высится над моим проектом отвоевания самого себя в присутствии других, нельзя уподобить любви постольку, поскольку любовь есть предприятие, т. е. органическая совокупность проектов развертывания моих собственных возможностей. Однако он – идеал любви, ее движущее начало и ее цель, ее собственное содержание. Любовь как первичное отношение к другому есть совокупность проектов, посредством которых я намерен осуществить это содержание.
Эти проекты ставят меня в прямую связь со свободой другого. Именно в этом смысле любовь есть конфликт. В самом деле, мы отмечали, что свобода другого – это основание моего бытия. Но как раз потому, что я существую за счет свободы другого, я как бы ничем не обеспечен, я нахожусь под угрозой со стороны этой свободы; она замораживает мое бытие и заставляет меня быть, она наделяет меня содержаниями и отнимает их у меня, мое бытие из-за нее оказывается вечным пассивным ускользанием от самого себя. Не имеющая передо мной никакой ответственности и недосягаемая, эта протеическая свобода, к которой я привязан, может со своей стороны связать меня тысячью различных способов бытия.
Мой проект отвоевания моего существа не может осуществиться, кроме как если я овладею этой свободой и редуцирую ее к такой свободе, которая подчинена моей свободе. Одновременно это и единственный способ, каким я могу действовать на то свободное отрицание интериорности, в силу которого Другой конституирует меня в Другого, т. е. в силу которого передо мной открываются пути будущего отождествления Другого со мной.
Понятие «собственности», так часто привлекаемое для объяснения любви, по сути дела никак не может быть первичным. Зачем мне хотеть присвоения другого в свою собственность? Это мне нужно ровно в той мере, в какой мое бытие оказывается функцией Другого. Однако этим предполагается совершенно определенный способ присвоения: мы хотим овладеть именно свободой другого как таковой. И не через волю к власти: тиран насмехается над любовью; ему довольно страха. Если он ищет любви своих подданных, то лишь ради политики, и если он находит какой-то более экономичный способ их поработить, то сразу хватается за него. Кто хочет быть любимым, тот, напротив, не желает порабощения любимого существа. Его не манит перспектива стать объектом гнетущей, механической страсти. Он не хочет обладать автоматом, и если вы намерены его оскорбить, вам стоит только изобразить перед ним страсть любимого как результат психологического детерминизма: любящий почувствует свою любовь и свое бытие неполноценными.
Если Тристан и Изольда безумеют от какого-нибудь любовного снадобья, они становятся менее интересны; и случается, что полное порабощение любимого существа убивает любовь любящего. Он промахнулся мимо цели: если любимый превратился в автомат, любящий остается в одиночестве. Таким образом, любящий не хочет обладать любимым как обладают какой-нибудь собственностью; он мечтает о совершенно особом виде присвоения. Он хочет обладать свободой именно как свободой.
* * *
С другой стороны, он не может удовлетвориться таковой, в общем-то, возвышенной формой свободы, как свободное и добровольное обязательство. Кого устроит любовь, выступающая чистой верностью однажды данной клятве? Кто согласится, чтобы ему сказали: «Я вас люблю, потому что я по своей свободной воле связал себя обязательством любить вас и не хочу изменять своему слову; я вас люблю ради своей верности самому себе»?
Поэтому любящий требует клятв – и клятвы его раздражают. Он хочет быть любим свободой – и требует, чтобы эта свобода в качестве свободы уже не была свободной. Он хочет, чтобы свобода Другого сама придала себе образ любви, – причем не просто в начале любовной связи, а в каждый ее момент, – и в то же самое время он хочет, чтобы эта свобода пленилась им, любящим, именно в своем качестве свободы, чтобы она возвращалась к самой себе, как в безумии, как в сновидении, и желала своего плена. И этот план должен быть свободной и вместе завороженной отдачей себя в наши руки. В любви мы не хотим от другого ни детерминизма страстной одержимости, ни недосягаемой свободы: мы хотим свободы, которая играет роль страстной одержимости и сама захвачена своей ролью. А в отношении себя любящий претендует на роль не причины такой радикальной модификации свободы, а уникального и привилегированного повода для нее.
В самом деле, стоит ему пожелать быть причиной, как он сразу делает любимого просто вещью среди вещей мира, неким инструментом, поддающимся трансцендированию. Не здесь суть любви. В любви любящий хочет, напротив, быть «всем в мире» для любимого; это значит, что он ставит себя рядом с миром; он сосредоточивает в себе и символизирует весь мир, он есть это вот, которое объемлет собою всех других «этих вот», он – объект и согласен быть объектом.
Но, с другой стороны, он хочет быть объектом, в котором готова потонуть свобода другого; объектом, в котором другой согласен обрести как бы свою вторую данность, свое бытие и смысл своего бытия; предельным объектом трансценденции, объектом, в стремлении к которому трансцендентность Другого трансцендирует все другие объекты, но который сам никоим образом не поддается для нее трансцендированию. И прежде всего любящий хочет, чтобы свобода Другого замкнула сама себя в некоем круге; т. е. чтобы в каждый момент сознательного принятия любимого в качестве непреодолимого предела своей трансценденции свобода Другого была движима уже совершившимся фактом внутреннего принятия. Он хочет, чтобы его избрали в качестве такой цели, которая по сути дела заранее уже избрана.
Это позволяет нам окончательно понять, чего, собственно, любящий требует от любимого: он не хочет действовать на свободу Другого, а желает быть априори объективным пределом этой свободы, то есть такой же изначальной данностью, как и она сама, и с первых же шагов выступать в качестве такого предела, который она должна принять как раз для того, чтобы стать свободной. Тем самым он хочет как бы «склеивания», связывания свободы другого ею же самой: этот встроенный в свободу предел есть по существу данность, и само появление этой данности как предела свободы означает, что свобода приходит к существованию внутри этой данности, будучи своим собственным запретом на трансцендирование последней. И такой запрет необходим любящему одновременно как жизненный факт, то есть как нечто пассивно переживаемое, – одним словом, как непреложное обстоятельство – и вместе с тем как свободно принятое решение.
Запрет должен быть свободно принятым решением, потому что неразрывно сливается со становлением свободы, избирающей саму себя в качестве свободы. Но он же должен быть и простой жизненной данностью, потому что должен быть всегда присутствующим императивом, фактом, пронизывающим свободу Другого вплоть до ее сердцевины; и это выражается психологически в требовании, чтобы свободное решение любить меня, заранее принятое любящим, таилось как завораживающая движущая сила внутри его сознательной свободной привязанности.
* * *
Мы схватываем теперь смысл этого требования: фактичность, призванная стать содержательным пределом для Другого (в моем требовании быть им любимым) и долженствующая в конечном итоге оказаться его собственной фактичностью, – это моя фактичность. Именно в той мере, в какой я являюсь объектом, начинающим существовать в глазах Другого, я должен быть пределом, присущим самой его трансцендентности, – так, чтобы Другой, восходя к бытию, придал и мне бытие непревосходимого абсолюта, не в качестве уничтожающего для-себя-бытия, но в качестве бытия-для-другого-посреди-мира.
Таким образом, желание быть любимым равносильно «заражению» другого своей собственной фактичностью; равносильно желанию заставить его постоянно воссоздавать меня как условие его свободы, свободно подчиняющей и обязывающей себя; и в то же время равносильно желанию, чтобы эта свобода дала жизнь факту, а факт возвысился над свободой. Если бы такой результат мог быть достигнут, то я оказался бы прежде всего обеспечен со стороны сознания Другого. В самом деле, ведь причина моей тревоги и моего стыда в том, что я воспринимаю и ощущаю себя в своем бытии-для-другого как нечто такое, через что другой всегда может перешагнуть в стремлении к чему-то иному, – как простой объект оценочного суждения, простое средство, простое орудие.
Источник моей тревоги в том, что мне приходится хотя и поневоле, но самому взять на себя бытие, навязанное мне другим в его абсолютной свободе: «Одному Богу известно, чем я для него являюсь! Бог знает, что он обо мне думает». Это значит: «Бог знает, что он делает из моего бытия»; и меня преследует это бытие, с которым мне грозит однажды встреча на каком-нибудь перекрестке, которое мне так чуждо и которое, однако, является моим бытием, хотя, как я при всём том хорошо понимаю, встретить его, несмотря на все мои усилия, мне никогда не удастся.
Но если Другой меня любит, я становлюсь непревосходимым, и это значит, что я оказываюсь абсолютной целью; тем самым я спасен от употребимости; мое существование посреди мира становится точным соответствием моей собственной трансценденции, потому что моя независимость получает абсолютные гарантии. Объект, каким другой заставляет меня быть, есть теперь объект-трансценденция, абсолютная точка отсчета, вокруг которой группируются как простые средства все вещи-орудия мира. Одновременно, будучи абсолютным пределом свободы, т. е. абсолютным источником всех ценностей, я защищен от всякого обесценения: я – абсолютная ценность. И в той мере, в какой я принимаю свое бытие-для-другого, я принимаю себя как такую ценность. Таким образом, хотеть быть любимым – значит хотеть поставить себя вне всякой системы оценок, полагаемой другим как условие любой оценки и как объективное основание всех ценностей.
Это требование составляет обычную тему бесед между любящими и когда тот, кто хочет быть любимым, отождествляет себя с аскетической моралью самопреодоления и мечтает стать воплощением идеального предела такого самопреодоления, и тогда, когда, что бывает чаще, любящий требует, чтобы любимый на деле пожертвовал для него традиционной моралью, допытываясь, предаст ли любимый своих друзей ради него, «украдет ли ради него», «убьет ли ради него» и т. д.
С такой точки зрения мое бытие неизбежно ускользает от взгляда любящего; или, вернее, оно становится объектом взгляда иной структуры: не меня теперь должны рассматривать на фоне мира как «это вот» среди других «этих», а, наоборот, мир должен раскрываться благодаря мне. Ведь в той мере, в какой становление свободы вызывает мир к бытию, я как предельное условие этого становления оказываюсь вместе и условием возникновения мира. Я оказываюсь существом, функция которого – вызвать к существованию леса и воды, города, поля, других людей, чтобы вручить их затем другому, который построит из них мир, точно так же, как в матронимических обществах мать получает титулы и имя не для того, чтобы их сохранить для себя, а для того, чтобы немедленно передать их своим детям.
В каком-то смысле, если я хочу быть любимым, то я – объект, по уполномочению которого мир начинает существовать для другого; а в каком-то ином смысле я и есть мир. Вместо того, чтобы быть «этим-вот», рассматриваемым на фоне мира, я становлюсь тем объектом-фоном, в свете которого обнаруживается мир. Мое положение тем самым обеспечивается: взгляд другого не пронзает меня больше насквозь, превращая в конечную вещь; он уже не фиксирует мое существо просто таким, каково оно есть; он уже не может рассматривать меня как неприглядного, как низкорослого, как низменного, потому что эти черты с необходимостью представляют собой ограничение факта моего бытия и восприятие моей конечной вещности как именно конечной вещности. Конечно, мои возможности остаются трансцендированными возможностями, «погашенными возможностями»; но зато я обладаю всеми возможностями; я – все погашенные возможности мира; тем самым я перестаю быть существом, которое можно понять исходя из других существ или из моих собственных действий; я требую, чтобы любящий внутренним взором видел во мне такую данность, которая вбирает в себя абсолютно всё и служит исходной точкой для понимания любых существ и любых действий. Можно сказать, немного исказив знаменитую стоическую формулу, что «любимый способен сделать тройной кульбит».
Идеал мудреца и идеал того, кто хочет быть любимым, действительно совпадают в том, что тот и другой хотят быть объектом-тотальностью, доступным такой глобальной интуиции, которая воспринимает поступки в мире любимого и в мире мудреца как частичные структуры, подлежащие истолкованию исходя из тотальности. И подобно тому, как мудрость выступает в качестве состояния, достигаемого путем абсолютной метаморфозы, точно так же свобода другого должна абсолютно преобразиться, чтобы я мог достичь статуса любимого.
* * *
До сих пор это описание могло бы совпасть со знаменитым гегелевским описанием отношений между господином и рабом. Любящий хочет быть для любимого тем, чем гегелевский господин является для раба. Но здесь аналогия кончается, потому что господин у Гегеля требует свободы раба лишь маргинальным и, так сказать, имплицитным образом, тогда как любящий в первую очередь требует от любимого свободного решения. Чтобы другой любил меня, я должен быть свободно избран им в качестве любимого.
Мы знаем, что в расхожей терминологии любви к любимому прилагается понятие «избранник». Выбор этот, однако, не должен быть относительным, сделанным применительно к обстоятельствам: любящий расстраивается и ощущает себя неполноценным, когда думает, что любимый избрал его из числа других. «Ага, значит, если бы я не приехал в этот город, если бы я не посещал такого-то, ты бы не познакомилась со мной, не любила бы меня?»

Жан-Поль Сартр (1905–1980)
Жан-Поль Сартр родился в Париже; его отец был офицером военно-морских сил Франции. Сартр окончил Высшую нормальную школу с диссертацией по философии; в 1939 году был призван в армию, взят в плен немецкими войсками в 1940 году и провёл девять месяцев в качестве военнопленного.
Из-за плохого состояния здоровья Сартр был освобождён в апреле 1941 года и, вернувшись в Париж, участвовал в создании подпольной антифашистской группы Socialisme et Libertй (Социализм и свобода) вместе с Симоной де Бовуар и Морисом Мерло-Понти.
Эта мысль терзает любящего: его любовь оказывается одной из многих других, ограниченной фактичностью любящего и его собственной фактичностью, случайными обстоятельствами встречи: она становится любовью в мире, объектом, предполагающим существование мира и, возможно, в свою очередь существующим для каких-то других объектов. Он требует чего-то совсем иного, выражая, однако, свое требование в неловких формулах, отдающих «вещизмом»; он говорит: «Мы созданы друг для друга», или, может быть, употребляет выражение «родная душа».
Тут требуется истолкование: он прекрасно знает, что слова «созданы друг для друга» относятся к изначальному выбору. Этот выбор может исходить от Бога как от существа, обладающего абсолютным выбором; впрочем, Бог обозначает здесь просто предельность абсолютного требования. Ведь любящий по существу требует одного, – чтобы любимый сделал его предметом своего абсолютного выбора.
Это означает, что всё бытие-в-мире, принадлежащее любимому, должно быть любящим-бытием. И поскольку другой является основанием моего бытия-объекта, я требую от него, чтобы свободное становление его бытия имело единственной и абсолютной целью его выбор меня, то есть чтобы он свободно избрал для себя существование, призванное обосновывать мою объектность и мою фактичность.
Тем самым моя фактичность оказывается «спасенной». Она уже не есть та немыслимая и непреодолимая данность, какою я был: она – то, для чего другой свободно решает существовать; она – цель, которую он ставит перед собой. Я заразил его своей фактичностью, но поскольку он заразился ею по свободному решению, он возвращает ее мне как принятую и санкционированную: он – ее основание в том смысле, что она – его цель.
В свете этой любви я уже иначе воспринимаю свое отчуждение и свою собственную фактичность. Она теперь – в ее бытии-для-другого – уже не факт, а право. Мое существование обеспечено тем, что оно необходимо. Это существование, насколько я беру его на себя, становится чистым благодеянием. Я существую потому, что раздариваю себя. Эти вены на моих руках, предмет любви, – они существуют благодаря моей доброте. Как я хорош тем, что у меня есть глаза, волосы, брови и я их неустанно раздариваю в преизбытке щедрости в ответ на неустанное желание, в которое по своему свободному выбору превращается другой.
Тогда как раньше, когда нас еще не любили, нас тревожил этот неоправданный, не знающий себе оправдания протуберанец, каким было наше существование, тогда как раньше мы чувствовали себя «лишними», теперь мы ощущаем, что наше существование принято и безусловно одобрено в своих мельчайших деталях абсолютной свободой, вызванной к жизни этим же моим существованием, – свободой, которая желанна и нашей собственной свободе. Вот источник радости любви, когда она есть: чувство, что наше существование оправдано.
И вместе с тем, если любимый может нас любить, он всецело готов быть присвоенным нашей свободой: ибо то бытие-любимым, которого мы желаем, уже и есть онтологическое доказательство, приложенное к нашему бытию-для-других. Наша объективная сущность предполагает существование другого, и наоборот, именно свобода другого служит обоснованием для нашей сущности. Если бы нам удалось интериоризировать всю эту систему, мы оказались бы обоснованием самих себя.
* * *
Такова, стало быть, реальная цель любящего постольку, поскольку его любовь есть предприятие, то есть проецирование самого себя. Такое проецирование неизбежно ведет к конфликту. В самом деле, любимый воспринимает любящего как объект среди многих других объектов, то есть видит его на фоне мира, трансцендирует и использует его. Любимый есть взгляд. Он вовсе не расположен растрачивать свою трансценденцию на то, чтобы установить крайний предел для своих превосхождений, а свою свободу – чтобы она сама себя взяла в плен.
Любимый не склонен желать для себя влюбленности. Любящий должен поэтому соблазнить любимого; и его любовь неотличима от этого предприятия соблазнения. Соблазняя, я никоим образом не пытаюсь раскрыть другому свою субъективность; впрочем, я всё равно смог бы это сделать лишь глядя на другого, но этим взглядом я уничтожил бы его субъективность, тогда как именно ее-то я и хочу ассимилировать. Соблазнять – значит взять на себя полностью и как неизбежный риск бремя своей объектности для другого; значит подставить себя под взгляд другого и дать ему разглядывать себя; значит подвергнуться опасности быть увиденным, без чего я не могу получить точку опоры для присвоения себе другого исходя из моей объектности и посредством ее.
Я отказываюсь покидать сферу, в которой переживаю свою объектность; именно изнутри этой сферы я намерен теперь вступить в борьбу, сделав себя чарующим объектом. Очарованность это есть нететическое сознание того, что я – ничто в присутствии бытия. Соблазнение имеет целью вызвать в другом сознание своего ничтожества перед лицом соблазнительного объекта. Соблазняя, я намерен выступить в качестве полноты бытия и заставить признать себя таковым. Для этого я делаю себя значащим объектом. Мои действия призваны указывать в двух направлениях.
С одной стороны, в направлении того, чтó ошибочно называют субъективностью и чтó есть скорее глубина объективного и сокровенного бытия; поступок совершается не только ради него самого, нет, он указывает на бесконечный и сплоченный ряд других реальных или возможных поступков, которые в совокупности я преподношу как содержание моего объективного и невидимого существа. Таким путем я пытаюсь манипулировать трансцендирующей меня трансцендентностью, отсылая ее к бесконечности моих «погашенных возможностей» именно для того, чтобы показать себя непревосходимым в том смысле, в каком непревосходима лишь бесконечность.
С другой стороны, каждый из моих поступков призван указать на максимальную толщу «возможного мира» и должен представить меня связанным с наиболее обширными сферами этого мира независимо от того, дарю ли я мир любимому и пытаюсь выступить в качестве необходимого посредника между ним и миром или просто манифестирую своими действиями свою бесконечно разнообразную власть над миром (деньги, влияние, связи и т. д.).
В первом случае я пытаюсь выступить в качестве бесконечной глубины, во втором – идентифицировать себя с миром. Такими разнообразными путями я предлагаю себя как непревосходимую величину. Это мое предложение не стоит на собственных ногах, оно обязательно требует вклада со стороны другого, оно не может приобрести значимость факта без согласия свободы другого, которая должна сама пленить себя, признав себя как бы ничем перед лицом полноты моего абсолютного бытия.
Нам поставят на вид, что эти разнообразные попытки самовыражения предполагают язык. Мы не будем возражать, мы скажем лучше: они суть язык или, если хотите, фундаментальный модус языка. Ибо если существуют психологические и исторические проблемы, касающиеся существования, усвоения или применения того или иного частичного языка, то не существует никакой особой проблемы касательно того, что называют изобретением языка. Язык не есть феномен, добавленный к бытию-для-другого; он и есть изначально бытие-для-другого, то есть тот факт, что некоторая субъективность воспринимается в качестве объекта для другой.
Язык ни в коем случае не смог бы быть «изобретен» в универсуме чистых объектов, поскольку он изначально предполагает отношение к другому субъекту; а в интерсубъективности бытия-для-другого нет никакой надобности его изобретать, потому что он уже дан в факте признания Другого.
В силу одного лишь того факта, что, как бы я ни поступал, мои свободно задуманные и исполненные действия, мои про-екты в направлении моих возможностей имеют вовне меня смысл, который ускользает от меня и который я воспринимаю как внеположную мне данность, – я есмь язык. Именно в этом смысле – и только в этом смысле – Хайдеггер прав, заявляя, что я есмь то, что я говорю. По существу этот язык не есть инстинкт уже сложившегося человеческого индивида, он не есть и изобретение нашей субъективности; но не следует его сводить и к чистому «бытию-вовне-себя», присущему «вот-бытию». Язык составляет часть человеческой природы, он есть первоначально проба того, чтó то или иное для себя может сделать из своего бытия-для-другого, а затем – выход за пределы этой пробы с использованием его для осуществления моих возможностей, которые суть мои возможности, то есть для осуществления моих возможностей быть тем или иным для других. Он не отличается поэтому от признания мною существования других. Возникновение передо мною другого в качестве направленного на меня взгляда вызывает к жизни язык как условие моего бытия. Этот примитивный язык – не обязательно соблазнение, мы рассмотрим и другие его формы; впрочем, мы уже отмечали, что не существует никакой изначальной позиции перед лицом другого и что все позиции поочередно сменяют друг друга, причем каждая имплицирует другую. Но и наоборот, соблазнение не предполагает никакой заранее существующей формы языка: оно всё целиком есть воплощение языка; это значит, что язык может обнаружить себя вполне и сразу через соблазнение как первичный способ самовыражения. Само собой разумеется, что под языком мы понимаем всякий феномен выражения, а не только членораздельное слово, которое есть уже производный и вторичный способ выражения, чье становление может составить объект исторического исследования. В частности, при соблазнении язык имеет целью не дать знать, а заставить ощутить.