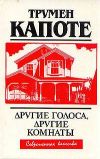Текст книги "Голоса Памано"
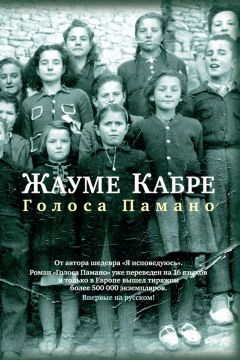
Автор книги: Жауме Кабре
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Это действительно так?
– Я думаю, слова, которые мы вырезаем на камне, – это история человека, только в очень сжатом виде.
Тина подумала, что мужчина, пожалуй, прав: ведь действительно надписи на могилах – это лаконичное резюме жизни. Хосе Ориол Фонтельес Грау, 1915–1944. Рассказ с началом, концом и связкой внутри: тире между двумя датами, которое вбирает в себя всю жизнь. А если еще есть эпитафия, как в этом случае, то это синопсис его деятельности: мученик и фашистский герой, павший за Бога и Испанию. Вокруг могилы – ни пыли, ни травы забвения.
– Могила очень ухоженная, как это объяснить?
– Знаете… так бывает… Так бывает в этой деревне.
Голубоглазый мужчина сделал глубокую затяжку и, отступив на несколько шагов назад, указал рукой на расположенную поблизости надгробную плиту с желто-синим пластиковым цветком, который был привязан к ржавому кресту с помощью полуистлевшего шнурка. На камне была изображена излишне слащавая, на взгляд Тины, голубка в полете.
– Жоан Эспландиу Карманиу, – прочла Тина.
– Вентура. Из дома Вентура.
– Я их знаю.
– Здесь покоятся дети, Жоан и Роза. Видите? Об отце ничего не известно.
– Возможно, он умер во Франции.
– Может быть. Но здесь он точно не захоронен.
– Роза Эспландиу Карманиу. Ее сердце было большим и чистым, как Монтсент, – прочла Тина и на какое-то время замолчала, почувствовав укол зависти, как, должно быть, происходило с каждым, кто задумывался над этой эпитафией.
– Роза Вентурета… – сказал мужчина, дотрагиваясь рукою, теперь уже в перчатке, до небритой щеки.
– От чего она умерла?
– От тифа. – И после небольшой паузы, которая показалась Тине печальной, добавил: – От тифа, и было ей всего двадцать годков. – И словно желая освободиться от нахлынувших воспоминаний: – И Жоан Вентурета.
– А он от чего умер?
– От пули.
До этой минуты Тина не обращала внимания на слова, выбитые под именем: подло убитый фашистами.
Жауме Серральяк с философским видом приподнял брови:
– Столько вражды и столько злобы, а в конце концов все равно все покоятся здесь, рядышком. Вот эти двое лежат здесь вместе уже сорок лет и дальше будут лежать. Мой отец всегда говорил, что это как сняться на общем фото: раз уж оказались вместе, то никуда от этого не деться.
Тина подошла к могиле семьи Вентура. Хотя цветок был из пластмассы, непогода его не пощадила; а может быть, он завял от жалости к одиночеству молодых представителей семейства. Мужчина вновь сделал глубокую затяжку, словно подчеркивая важность заявления, которое последовало за ней:
– Дурная это была история. Уж шестьдесят лет прошло, а раны все никак не заживают.
Он потряс головой, словно воспоминания давили на него тяжким грузом. И неожиданно оживился:
– Сколько всего ужасного тогда произошло… В доме Фелисо один покойник, в доме Миссерет – два, а семейство Тор потеряло на войне двух сыновей. А еще бедняга Маури из дома Марии дель Нази. Ну и убитые из дома Грават, конечно.
Он показал на семейную гробницу, располагавшуюся немного в стороне от того места, где они стояли. Потом вдруг понизил голос, словно опасаясь, что вокруг полно доносчиков.
– А представляете, есть такие, кто над всем этим потешается, – признался он. Сделал глубокую затяжку и выпустил дым. – В Торене совсем не много народу, но при этом не очень-то они между собой ладят. А вы журналистка?
– Я пишу книгу о селениях Пальярса. Дома, улицы…
– И кладбища.
– Ну… Да, думаю, да.
– На кладбищах вся история деревень как бы в застывшем виде. – Он показал на могильные плиты и склеп в глубине. – Усыпальница дома Грават отличается от других. Почти в каждой деревне есть хоть одна богатая семья. И на каждом кладбище – фамильный склеп. Когда делаешь надгробия, многое узнаешь.
Тине смутно вспомнилось что-то из Шекспира, но она не смогла восстановить в памяти точную цитату. Подошла к усыпальнице. Надпись гласила: семейство Вилабру, и главным украшением мавзолея была скульптурная композиция, автор Ребуль: ангел за письменным столом с открытой книгой, в которой он, как можно было предположить, записывал имена праведных душ семьи Вилабру для небесного входного реестра. И зловещее предсказание будущих смертей: три пустые ниши. Тина сфотографировала памятник.
Рядом с усыпальницей – скромная могила некоего глубокоуважаемого сеньора дона Валенти Тарги Сау, алькальда и руководителя местного отделения Национального движения, Алтрон, 1902 – Торена, 1953. Она почувствовала присутствие каменотеса у себя за спиной. Однако голос его показался ей удивительно далеким:
– Палач Торены. Полдеревни загубил.
Тина обернулась. Мужчина смотрел ей прямо в глаза.
– Он был алькальдом деревни?
– Да. Родом он был из мест, что там, внизу. – Мужчина указал на подошву Тининых туфель, словно Алтрон находился прямо под ней. – Поговаривали, он был любовником… В общем, всякое такое…
– Значит, застывшая история деревни.
Тина сказала это в надежде, что голубоглазый мужчина поведает ей, кого в деревне считали любовницей Валенти Тарги. Поэтому она решила побудить его к откровенности, повторив его слова:
– Это же как общий снимок, как говорил ваш отец.
Но вместо того, чтобы возобновить рассказ, Серральяк бросил на землю окурок и старательно затушил его. Затем, указав на надгробие Валенти Тарги и качая своей наполненной воспоминаниями головой, произнес:
– Да, а я ставлю под этими снимками подписи.
И отправился к плите, над которой работал. Тина же вернулась к могиле фалангиста Фонтельеса и сделала несколько снимков. Потом взяла более широкий план, чтобы в кадр попало надгробие семейства Вентура. Щелчок. Она не собиралась помещать эту фотографию в книгу. Это была ее дань памяти некоему Жоану Эспландиу Карманиу из дома Вентура, 1929–1943, подло убитому фашистами. В глубине кадра, немного сбоку и слегка расплывчато, угадывалась усыпальница семейства Вилабру, почти незаметная, как зеленушка в полете.
7
Хотя Ориолу пришлось прождать полчаса, поскольку сеньора Элизенда беседовала с управляющим поместья и они задержались больше, чем предполагалось, подсчитывая головы скота и площадь подлежавших разработке лесных массивов, второй сеанс прошел более непринужденно. Сеньора Элизенда уже была просто Элизендой, печенье с самого начала было на столе, и Ориол занимался лишь тем, что переносил безупречное тело на холст, воспроизводил его, запечатлевал, в то время как она рассказывала ему когда разразилась война, я поехала в Сан-Себастьян. И именно там я познакомилась со своим мужем. Да, мы дальние родственники. Да, у него та же фамилия, что и у меня: Вилабру. Нет, он в Барселоне. У него очень много работы, и ему некогда сюда приезжать. Ну разумеется, я по нему скучаю. Но довольно, это нечестно.
– Простите? – Кисть Ориола застыла над левой грудью Элизенды.
– Мы же договорились перейти на «ты».
– Дело в том, что…
– Это приказ.
Ну что ж, коротко и ясно. Он возобновил медленное движение кистью по соблазнительной груди, выступавшей под гладкой тканью платья.
– Когда ты начнешь писать лицо?
– Прежде я хотел бы узнать вас… узнать тебя получше, привыкнуть к…
– Конечно.
– Ну не будь такой застывшей. Двигай спиной и шеей. Говори о чем-нибудь.
Если бы я могла рассказать тебе, какие чувства я начинаю испытывать. Если бы могла признаться, как я смущена и какие у тебя волшебные руки…
– Я не знаю, о чем говорить.
В комнату вошла Бибиана с дымящимся чайником. Взглянула Элизенде прямо в глаза, и та тут же отвела взгляд; подтвердив свои догадки, служанка деликатно выскользнула из гостиной. Ориол заметил, как женщины переглянулись, но сделал вид, что погружен в выписывание складки рукава.
– А чем занимается твой муж? – спросил он, когда они вновь остались наедине.
– Что-то тебя очень интересует мой муж.
– Да нет, нисколько. Это просто чтобы ты что-то говорила.
В основном всякими аферами при пособничестве двух полковников военного округа Барселоны и еще каких-то там властей. А еще, как мне сообщают те, кому положено сообщать, вовсю ходит по бабам. Зарабатывает кучу денег и терпеть не может приезжать домой, поскольку не может смотреть мне в глаза.
– Нууу… занимается своими делами. Торговлей. У него фирма, точно не знаю, что за контора, но эта деятельность занимает у него все дни недели. Все время снует туда-сюда без передышки.
Она не хочет говорить о муже. Надо сменить тему. О чем же поговорить?
– А ты не хочешь жить не здесь, а в Барселоне?
– Нет. Здесь мой дом. Кроме того, мне нравится лично заниматься управлением землями. И здесь умерли мой отец и брат.
А твоя мать, Элизенда? Почему ты никогда не говоришь о своей матери?
Несколько мазков по шее для придания дополнительного оттенка. По утонченной, изысканной шее сеньоры Элизенды, которая теперь для него просто Элизенда.
– Розе понравились конфеты?
Коробка уже сама по себе была настоящим произведением искусства: из лакированного дерева с инкрустацией. А внутри – двенадцать конфет, как двенадцать драгоценных изделий. Роза взяла конфету в изумрудно-зеленой обертке.
– Почему ты сказал ей пятьсот?
– Я не решился…
– Надо было попросить тысячу, она все равно бы заплатила. Какой ты бестолковый.
Она развернула конфету и откусила половину:
– Восхитительная. Возьми, попробуй.
Конфета действительно была вкусная. Очень вкусная.
– Да, очень понравились. Она просила тебя поблагодарить.
– Я рада.
Элизенда стала рассказывать о дяде Аугусте и конкретно о книге, которую он недавно опубликовал, что-то связанное с интегралами и производными, о его известности, о занятиях, которые он проводил в Риме во время эмиграции (бежать его вынудила угроза коммунистической расправы) и которые принесли ему славу талантливого математика, как сообщили в епархии отцу Аурели Баге, приходскому священнику Торены, поскольку мой дядя, разумеется, совершенно не способен хвалиться своими достижениями. Однако она предпочла не рассказывать учителю о настойчивости, с которой отец Аугуст всячески намекал ей, что место супруги – подле супруга, пока однажды, совсем недавно, она не ответила ему так вот знай, если я поеду в Барселону к Сантьяго, то обнаружу его в окружении шлюшек. Так что больше мне о нем ни слова.
– Прости, девочка. Я не…
– Ну а потом, я вообще не собираюсь отсюда никуда уезжать. Я хозяйка дома Грават, управляю имением и делаю все для того, чтобы оно процветало. И назло всем недоброжелателям в этой деревне намерена стать еще богаче.
Бибиана знала, что после этого разговора Элизенда сменила кофе на чай, чтобы еще больше дистанцироваться от жителей Торены, и отказалась от прогулок по грязным деревенским улицам.
– Сколько ненависти в твоих словах! Ты напоминаешь мне… Хотя нет, оставим это.
– Кого я тебе напоминаю, дядя?
– Своего отца.
– Так ведь его убили. Отсюда и ненависть.
Боже мой. Дядю Аугуста тоже мучили тени и потайные закоулки человеческой натуры. А вот число e было идеально прозрачно, иррационально и неоспоримо. Тем не менее в качестве старого наставника молодой особы он счел нужным сказать я не думаю, что подобные чувства пойдут тебе на пользу.
– Война оставила незаживающие раны в моей душе.
– Ты должна научиться прощать.
Элизенда не ответила и подумала об уроках, которые он же ей и преподал, об Истинном Чувстве Справедливости и Божьей Каре; о врагах Католической церкви, которых она должна считать своими личными врагами, и о крепости духа, которую дарует жизнь в Истине. Кроме того, с благословения матери Венансии, он растолковал ей тайны бытия, содержащиеся в таких книгах, как «Дух Святой Терезы Иисуса», «Небесные страницы», «Образцовая семья» и «Средства, оберегающие от болезней души и исцеляющие их», принадлежащие перу достопочтенного Энрике д’Оссо, отца-основателя общества Святой Терезы Иисуса и истинного вдохновителя благочестия и веры. В один прекрасный день Рим непременно причислит его к лику блаженных. А впоследствии, дочь моя, он станет святым.
– Всему свое время, – ответила Элизенда дяде после долгого молчания.
– Не шевели рукой. И выпрямись.
– У меня затекла рука.
– Ну хорошо, перерыв пять минут.
Пока они пили чай, Элизенда, которой теперь вовсе не обязательно было говорить, чтобы расслабиться, все же поведала ему, что как только это стало возможным, она послала управляющего заняться имением и вернуть владения, которые были экспроприированы у семьи, а затем они с мужем переехали из Сан-Себастьяна в Торену. Правда, она не упомянула о своей поездке в Бургос, о трех днях в Бургосе, серых, ненастных, но таких важных. Только сказала из Сан-Себастьяна мы, уже женатые, вернулись в Барселону. Провели там несколько месяцев, ничем особенно не занимаясь, а потом обосновались здесь, чтобы закончить хлопоты с имением. Однако Сантьяго прожил в доме Грават всего две недели. Ему все здесь не нравилось, он не переносил запаха скотины, к тому же в Барселоне у него была работа.
– Но ведь здесь жизнь такая приятная.
Ориол Фонтельес Грау, школьный учитель и живописец ее величества королевы Элизенды, жил в Торене всего три месяца. Он еще не утратил той иллюзорной искры, которую высекает новизна. Он еще не провел в Торене ни одной осени и ни одной зимы, не видел, как медленно она пробуждается весной. Поэтому он мог себе позволить роскошь питать иллюзии и заявить жизнь здесь такая приятная.
У Элизенды все было по-другому. Убедившись, что дом в порядке, что ни один злоумышленник на него не покусился, она стала подумывать о возвращении в родные места. Приняв окончательное решение, она сперва послала Бибиану, чтобы та все вычистила и вымыла. Когда наконец приехали они с Сантьяго, Бибиана рассказала ей о том, как новый алькальд, старший сын из дома Ройя в Алтроне, созвал всех жителей Торены на площадь Испании, в той части, откуда начинается улица Каудильо, представ перед ними в форме фалангиста в сопровождении еще пяти представителей Фаланги, никому не известных чужаков, которые стояли подбоченясь и молчали. И Валенти Тарга, которого отныне все должны были величать дон Валенти Тарга, произнес напыщенным и выспренним тоном пламенную наставительную речь на испанском языке, заявив, что его миссия в Торене заключается в том, чтобы исполнять и насаждать закон, наводить чистоту и порядок и освобождать деревню от скверны. И никто, даже сам Господь, не сможет помешать исполнению миссии, которую поручили мне Бог и каудильо. Ни один виновный не избежит наказания, если еще его не получил. Многие не поняли, что хотел сказать новый алькальд, но все уловили и правильно оценили тон речи. И поскольку то, что он собирался изречь далее, было чрезвычайно важным, он перешел на каталанский и сказал, чтобы всякий, кому есть о чем сообщить, приходил лично к нему. А если какому-нибудь неисправимому республиканцу придет в голову протестовать против чего бы то ни было, то он будет иметь дело со мной и больше не посмеет даже голову поднять. Клянусь самим генералиссимусом. И в заключение громко выкрикнул снова по-испански да здравствует Франко, вставай Испания! Лишь люди в форме и Сесилия Басконес, которая тогда была совсем молоденькой, крикнули в ответ «да здравствует» и «вставай». В общем, диафрагмодиния или диафрагмальгия. Остальные же отводили взгляд и смотрели в сторону оврага Боньенте. Кроме обитателей дома Нарсис, которые, как и семейство Бирулес, украдкой улыбались, говоря себе наконец-то вернулся порядок, прекратился хаос и мы, приличные люди, снова сможем выходить на улицу, не боясь, что нам проломят голову.
– Немного порядка нам в Торене не помешает, Бибиана.
И служанка все поняла.
– Я собираюсь тут частенько работать на природе, – сказал Ориол, возвращаясь к мольберту.
– А ты и пейзажи пишешь?
– Рисую все, что могу. Я ведь дилетант.
Он стал рассматривать складки одежды на картине и обнаружил дефект на локте. Собрался было его исправить, но внезапно все внутри у него похолодело: он так явственно ощутил позади себя аромат нарда, словно нос у него был на затылке. Не смея повернуть голову, Ориол услышал нежный голос, говорящий может быть, ты и дилетант, но делаешь это просто превосходно.
Ориол все же заставил себя обернуться. Элизенда внимательно разглядывала полотно.
– Тебе неприятно, что я смотрю на незавершенный портрет?
– Нет, – солгал он. – Он твой.
На расстоянии одной пяди друг от друга. Это было невыносимо.
8
Двадцать первого июня одна тысяча девятьсот шестьдесят второго года Марсел Вилабру-и-Вилабру последний раз в своей жизни спустился по ступеням главного здания интерната (расположенного в наилучшем для комплексного образования – физического, интеллектуального и духовного – ваших детей месте), в котором он проучился первый, второй, третий (с двумя несданными экзаменами за второй), четвертый (с одним несданным за второй и одним за третий) классы и в конечном итоге сдал выпускные экзамены. И что ты теперь собираешься изучать, юноша, естественные или гуманитарные предметы, что ты предпочитаешь, к чему у тебя больше склонностей, я знаю, к чему у тебя больше склонностей… Я хотел бы изучать естественные науки. Нет, гуманитарные. Будешь изучать гуманитарные науки. Но мне бы хотелось… Чего бы тебе хотелось? Ну так вот, я бы хотел изучать что-то связанное с горами, лесами, снегом. Будь реалистом, Марсел: будешь изучать гуманитарные науки, а потом пойдешь на юридический факультет; так ты сможешь заняться семейным бизнесом, который, если ты помнишь, как раз связан со снегом. Но это совсем не то, я бы хотел… Посмотри на меня: я адвокат и, как видишь, живу совсем неплохо. А что говорит мама? Она тоже хочет, чтобы ты стал адвокатом, потому что если ты получал неуды, то это всегда была математика или физика. Пусть она сама мне это скажет. Она сейчас очень занята; в общем, пойдешь в гуманитарный класс. И вот пятый год обучения («неудовлетворительно» по латыни и греческому), шестой (с несданными латынью и греческим за пятый класс), пересдача экзаменов за шестой класс в сентябре, потом первая попытка поступления в класс предуниверситетской подготовки, вторая попытка поступления в класс предуниверситетской подготовки и наконец вступительный экзамен в университет. Итак, он спустился по интернатской лестнице, и вместо того, чтобы оглянуться и начать с ностальгией вспоминать лучшие моменты своего пребывания здесь (ты помнишь тот вечер, когда во время ужина мы открыли шкафчики… или уроки физкультуры в тумане на Викской равнине, правда же мы неплохо проводили время, разве нет?), он дождался, пока выйдет адвокат Газуль в сопровождении сеньоры Пол, говорившей ему вот наконец мы и завершили обучение мальчика, теперь он вступает во взрослую жизнь, и, когда они подошли к нему и господин Газуль прощался с сеньорой Пол, Марсел Вилабру-и-Вилабру демонстративно сплюнул на землю и направился к черному автомобилю, в котором Хасинто убивал время, листая датский или шведский журнал с полуголыми женщинами, которым, вне всякого сомнения, грозила простуда. Марсел Вилабру не стал оглядываться на здание школы, где его учили тригонометрии, где он научился лгать, мастурбировать, кое-как склонять латинские существительные, предавать, дабы избежать наказания, произносить с жутким акцентом «Ô rage! ô désespoir!» и где он понял, что его мать – очень занятая женщина, которая распоряжается всем и вся гораздо в большей степени, чем любой мужчина из ее окружения, включая и его, и что с тех пор, как умер отец, она с ним толком не разговаривает, а лишь раздает с каждым разом все более четкие и сухие приказы, требуя их беспрекословного выполнения.
Путь домой трое мужчин (а, согласно сформулированному сеньорой Пол критерию, он теперь тоже мог считаться мужчиной) провели в полном молчании, и Марсел думал, что всякий раз, когда он приезжал домой, он оказывался в обществе этих двух мужчин, Хасинто и Газуля. Вообще, Газуля он видел чаще, чем отца. Практически единственным отчетливым воспоминанием, оставшимся у него об отце, был пытливый, испытующий взгляд, который тот бросал на мальчика, когда думал, что тот его не видит. Да еще ощущение, что отец его совсем не любит, что он лишний в его жизни. Впрочем, видел отца он крайне редко.
– Почему папа такой странный?
– Он совсем не странный.
– Он как-то странно на меня смотрит.
– Это все твои выдумки, сынок.
– А почему его никогда нет дома?
– У папы очень много дел.
– У папы много дел, у тебя много дел… Кошмар какой-то!
Тогда Элизенда впервые подумала о возможной смене образовательного учреждения для своего сына и о том, что, может быть, интернат Сант-Габриэл был не самым подходящим для него местом, что неплохо было бы разузнать об интернате Базилеа, который как-то упоминала Мамен Велес. Но тут жизнь дала трещину, и ей стало не до этого. Потому что шестого ноября тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, когда Марселу было всего каких-то девять лет, у сеньора Сантьяго Вилабру случился ужасный сердечный приступ, и он скончался. Слава богу, у него хватило вкуса не испустить дух в Гнездышке или каком-то другом борделе, равно как и на руках у неверной супруги, а достойно преставиться в штаб-квартире Вертикальных профсоюзов. В тот холодный ноябрьский день Сантьяго пришел туда вместе с доном Назарио Пратсом, гражданским губернатором и руководителем отделения Национального движения Лериды, чтобы встретиться с Агустином Рохасом Пернерой. Они решили вместе подняться на третий этаж здания и свести счеты с этим козлом Рохасом Пернерой, который украл у них всю прибыль от одной выгодной операции, основанной на контрабанде, спекуляции и мошенничестве (всего понемногу) и заключавшейся в незаконной реализации нескольких партий американского сухого молока. Сия блестящая операция была разработана Вилабру и осуществлена благодаря связям Пратса. А этот гад Пернера прикарманил все денежки. И вот теперь они встретились лицом к лицу, и этот прохвост цинично улыбается им, ощущая себя в полной безопасности под портретами Франко и Хосе Антонио. Он нагло смотрит им прямо в глаза, потом бросает взгляд на матовое стекло, отделяющее их от коридора, и вполголоса говорит какие деньги, какая операция, друзья мои, здесь ни о какой операции ничего не известно. Ни здесь, ни где бы то ни было о ней ничего не известно. Ну и что? Пусть бы себе врал и выкручивался сколько угодно. Так нет, Вилабру (это притом, сколько ему пришлось всего в этой жизни вынести, особенно из-за своей женушки) не смог снести очередной издевательской улыбки этого проходимца и вздумал окочуриться прямо там, в кабинете. Бух, и рухнул на пол перед столом этого говнюка Пернеры, а губернатор Назарио Пратс тут же смылся оттуда, даже не удосужившись проверить, что случилось с его приятелем: обморок, головокружение, несварение желудка, инфаркт или смерть. Он попросту не хотел, чтобы его застали в кабинете Пернеры перед неподвижно лежащим на полу человеком, вот и бросил бездыханного Вилабру. Увидимся позже, когда придешь в себя, а если ты и вправду помер, то можешь не сомневаться, я взыщу с Пернеры все до последней песеты, в том числе и твою долю. Я ведь в некотором смысле имею на это моральное право. Элизенда с сыном возглавили похоронную процессию; вдова прятала свое безразличие под кружевной мантильей, думая ты хорошо сделал, что умер, Сантьяго, ведь ты так мало значил в моей жизни, что я даже ненавидеть тебя не могла. Единственное хорошее, что я смогла обнаружить в тебе за тринадцать лет брака, – это то, что ты носишь ту же фамилию, Вилабру, что и я.
Все семейство Вилабру из известного рода Вилабру-Комельес, уже три поколения которого проживали в Барселоне, франкисты, бывшие ранее монархистами, а еще ранее – монархистами-карлистами, особенно по линии Комельесов, состоявших в родстве с семьей Арансо из Наварры, о которых говорили, что они были карлистами еще до того, как возник карлизм, так вот все Вилабру были чрезвычайно опечалены кончиной Сантьяго и высказывались приблизительно так: а я ведь буквально вчера беседовал с ним по телефону, и мне совсем не показалось, что…; или: да, всегда уходят лучшие…; или: что поделаешь, это закон жизни, хотя кто бы мог предположить… Подумать только, а мы с ним договорились повидаться на следующей неделе; какая нелепая смерть… А мальчику-то всего девять годков? Представь себе, бедняжке всего девять годков, в девять лет остаться без отца… И без баронства, как говорят… Да. А Элизенда все-таки очень уж надменная особа, вам не кажется? Но послушайте, она только что потеряла мужа. Нет-нет, я знаю, что говорю. Элизенда из тех, кто всегда смотрит сквозь людей, потому что их не замечает.
– Примите мои соболезнования, сеньора Вилабру, – напыщенно произнес Назарио Пратс, одна из самых важных фигур, наряду с министром сельского хозяйства и главами муниципалитетов Барселоны и Лериды, почтивших своим присутствием похороны Сантьяго Вилабру.
– Спасибо, я тронута.
И, грустно улыбнувшись единственному приехавшему министру, подошла к губернатору и прошептала ему на ухо доля Сантьяго раньше принадлежала Сантьяго, а теперь мне. Если не хотите, чтобы я на вас донесла.
Вытерев внезапно вспотевшие ладони, дон Назарио ограничился тем, что приложился к ручке сеньоры Вилабру, а не имевшие непосредственного отношения к семейству приглашенные долго еще обсуждали, какая шикарная сеньора и какого черта она прозябает в этих диких горах.
Вот так и случилось, что Марсел не оплакивал смерти своего отца и не поступил в интернат Базилеа; и так случилось, что он продолжил влачить жалкое существование и терпеливо ждать получения аттестата в школе Сант-Габриэл, а когда приезжал на каникулы в Тука-Негру, то никогда не оставался на Рождество дома, потому что предпочитал резвиться в горах с Кике, который показал ему лучшие места для катания и попутно незаметно научил его любить горы. И какими же скучными казались мальчику летние каникулы без снега и без Кике!
9
Она приготовила немного овощей. Ей нравился запах цветной капусты, который, как в детстве, заполнил дом. Он создавал ощущение уюта, особенно когда по другую сторону окна на спящие улицы в беззвучном плаче по-прежнему падал снег. Должны же в жизни оставаться хоть какие-то удовольствия. Когда она услышала звук открывающейся двери, сердце у нее екнуло, потому что она уже решила, как начнет разговор. Сегодня это непременно случится. Да, сегодня. Она скажет Жорди, ты меня разочаровал, ты лжец, ты обманул меня и тем самым оскорбил до глубины души. Потом все будет зависеть от реакции Жорди. Как трудно говорить правду. Она повернулась к двери, готовая сказать Жорди, ты разочаровал меня, потому что обманул, но слова застыли у нее на языке, потому что это был не Жорди, а Арнау; сын бросил свою полную тайн сумку посреди комнаты и поцеловал ее.
– Ты откуда здесь? Разве ты…
– Дело в том, что я должен сообщить вам очень важную вещь. – Он огляделся вокруг. – А где папа?
Словно в ответ на сыновний призыв на пороге появился Жорди, насвистывающий какой-то неопределенный мотив. Снял куртку и только тогда заметил Арнау. Доктор Живаго насторожился, удивленный присутствием в доме всех троих членов семьи одновременно.
– Почему ты дома? – С некоторой досадой: – Разве ты не со своей бандой кокаинщиков?
– Я только что подал заявление о вступлении в бенедиктинскую общину монастыря Монтсеррат. Хотел вам об этом сообщить.
Все трое застыли, словно фигуры рождественского вертепа на фоне снега, медленно падающего за окном хлева; Тина смотрела на Арнау, а Жорди, раскрыв рот, переводил взгляд с вола на ослицу.
– Так что со следующей недели я – послушник в монастыре.
Тина удрученно опустилась на стоявшее рядом кресло. У нее совершенно выветрилось из головы все, что она собиралась сказать Жорди (ты меня разочаровал, ты лжец…), и она вдруг впервые увидела сына таким, какой он был на самом деле: совершенно незнакомый человек, выросший рядом с ней и одновременно где-то очень далеко.
– Что за глупости! – пробормотал Святой Иосиф, бросая на диван куртку.
– Никакие не глупости. Мне достаточно лет, чтобы решать, что я хочу делать со своей жизнью.
– Но, сынок, если ты… – Тина с отчаянием осознала, что ее мечта дать сыну идеальное воспитание оказалась утопией. – Но ты же даже некрещеный! Мы воспитывали тебя свободным гражданином!
– Я крестился. Принял крещение три года назад.
– А нам почему ничего не сказал об этом?
– Чтобы не огорчать вас. Возможно, я был не прав.
– Минуточку-минуточку. – Жорди начал приходить в себя после неожиданного удара. – Ты ведь нас разыгрываешь, правда? – И с видом все понимающего, располагающего к себе отца, из тех, о ком обычно говорят, что он скорее друг, чем отец своему ребенку: – Съемки скрытой камерой? Пари с друзьями? Или просто хочется дурака повалять? Ты что, забыл, что на дворе двадцать первый век? Забыл, что мы воспитывали тебя в духе мультикультурализма, трансверсальности и абсолютной свободы?
– Да нет, что ты. Но я верующий человек; я верую в Бога и чувствую монашеское призвание. – Он произнес эти слова неторопливо, опустив глаза, но четко и ясно.
– Какое еще призвание, черт побери! – подскочил Жорди, оскорбленный скорее мягким тоном сына, нежели его признанием.
– Но почему ты никогда не говорил нам, что хочешь… что тебе… Почему, сынок? Почему?
Всякий раз, когда Тина начинала сыпать бесконечными «почему», она знала, что битва проиграна, потому что спрашивать себя, как случилось бы, если бы… было совершенно бесполезным упражнением, ибо все уже случилось без всякого «если бы» и надо было принимать все таким, как есть, без «если». Почему Жорди оказался неверным мужем и обманывает меня, почему Арнау мне совсем не доверяет, что я делала не так, чтобы оба дорогих мне мужчины превратились в чужих незнакомцев, почему все так, Бог мой, в которого я не верю?
– Послушай, Арнау, – воспользовавшись оторопелым молчанием Тины, Жорди решил вмешаться, избрав на этот раз теплый, проникновенный тон, – мы воспитывали тебя в свободной атмосфере, всегда были рядом, во всем поддерживали тебя, постарались внушить тебе нашу веру в принципы гуманизма, в синтез культур и…
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что мы учили тебя не впадать в суеверия, объясняли тебе, что величие человека зиждется на честности и что поступать хорошо означает быть честным с самим собой и с другими, особенно в этом с каждым годом все более глобализованном мире, и что все, что Церковь уже много веков вбивает нам в голову, – не что иное, как обман, способ держать власть над людьми. Разве мы не объяснили тебе достаточно ясно все это?
– Но меня никто не принуждал верить в Бога.
– Стань, в конце концов, экологом. Но только, пожалуйста, не монахом.
– Папа…
– У нас в доме ты никак не мог попасть под влияние религии, черт возьми!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?