Текст книги "Консуэло"
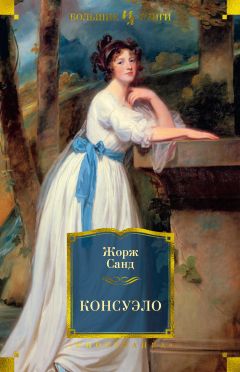
Автор книги: Жорж Санд
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
XXV
– Так знайте же, дорогая… – сказала Амалия, закончив свои приготовления и начиная беседу. – Однако я до сих пор не знаю вашего имени, – улыбаясь, прибавила она. – Пора бы нам отбросить все титулы и церемонии: я хочу, чтобы вы меня звали просто Амалией, а я вас буду называть…
– У меня иностранное имя, его трудно произнести, – ответила Консуэло. – Мой добрый учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем: покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам. И вот отныне я разделяю честь носить его имя с великим певцом Уберти: его зовут Порпорино, а меня – Порпорина. Но это слишком длинно, и вы, если хотите, зовите меня просто Нина.
– Прекрасно! Пусть будет Нина, – согласилась Амалия. – А теперь слушайте – мне надо рассказать вам довольно длинную историю. Ведь если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем доме.
– Я вся слух и внимание, – сказала Консуэло, ставшая Порпориной.
– Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об истории Чехии? – спросила юная баронесса.
– Увы, нет! – ответила Консуэло. – Мой учитель, должно быть, писал вам, что я не получила никакого образования. Единственное, что я немного знаю, – это история музыки; что же касается истории Чехии, то она так же мало известна мне, как и история всех других стран мира.
– В таком случае, – сказала Амалия, – я вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. Триста с лишним лет тому назад угнетенный и забитый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король{39}39
…развратный, жестокий король… – чешский король и император Священной Римской империи Вацлав IV (1361–1419).
[Закрыть] издевался над его достоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока наконец не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию послужила казнь Яна Гуса{40}40
Ян Гус (1371–1415) – вдохновитель и идеолог чешского национально-освободительного движения начала XV в. Выходец из крестьянской семьи, Гус получил профессиональное музыкально-теоретическое образование, был ректором Карлова университета, проповедником пражской Вифлеемской часовни. Гусу принадлежат обработки старинных чешских напевов, мелодии и тексты ряда песен и церковных песнопений.
[Закрыть] и Иеронима Пражского{41}41
Иероним Пражский (ум. в 1416 г.) – друг и защитник Я. Гуса.
[Закрыть] – двух мужественных чешских ученых, стремившихся исследовать и разъяснить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор{42}42
Они были вызваны на церковный собор… – Собор католического духовенства в Констанце приговорил Я. Гуса к сожжению (6 июля 1415 г.). И. Пражский был казнен годом позже. Эта расправа послужила сигналом к народному движению, известному под названием Гуситских войн.
[Закрыть], им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили национальное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, продлившаяся долгие годы. Эта кровавая война известна под названием Гуситской. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми. Чехия наводила ужас на всю Европу. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны – бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и оскверненные храмы, повешенные или брошенные в кипящую смолу священники и монахи. С другой стороны – обращенные в развалины города, опустошенные края, измена, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, целые овраги, до краев наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы еще долго оставались непобедимыми, мы и теперь с ужасом произносим их имена. А между тем их любовь к родине, их непоколебимая твердость, их легендарные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и молодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства.
– А зачем их скрывать? – наивно спросила Консуэло.
– Да потому, что после долгой, упорной борьбы Чехия снова подпала под иго рабства, потому, моя дорогая Нина, что Чехии больше не существует… Наши властители прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране – это и политическая ее свобода. Вот почему они задушили и ту и другую.
– До чего я невежественна! – воскликнула Консуэло. – Никогда я не слышала о подобных вещах и даже не подозревала, что люди бывали так несчастны и так злы.
– Сто лет спустя после Яна Гуса, – продолжала Амалия, – новый ученый, новый фанатик – бедный монах по имени Мартин Лютер – снова пробудил в народе дух национальной гордости, внушил Чехии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужеземному игу и призвал народ восстать против пап. Наиболее могущественные короли оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соединилась с нами, чтобы раздавить нас, и вот новая война, названная Тридцатилетней, сокрушила, уничтожила нашу нацию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей более сильного противника. Австрия обращалась с нами как с побежденными: она отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено либо бежать с родины, либо переменить свою национальность, отказавшись от своего происхождения, сменив свои фамилии на немецкие (запомните это), отрекшись от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разрушены, – словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь всего лишь провинция империи. В славянской земле слышен немецкий говор, – этим сказано все.
– Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его? Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем!
– Тише! тише! – воскликнула юная баронесса. – Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. Здесь, в замке, только у одного человека хватает храбрости и безумия произносить вслух то, что вы сказали сейчас, дорогая Нина! И человек этот – мой кузен Альберт.
– Так вот причина грусти, которая написана на его лице! – сказала Консуэло. – При первом же взгляде я прониклась к нему невольным уважением.
– О моя прекрасная львица святого Марка!{43}43
…прекрасная львица святого Марка! – Обращение к венецианке (крылатый лев является эмблемой Венеции и символом святого Марка, ее покровителя).
[Закрыть] – воскликнула Амалия, пораженная благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо подруги. – Вы все принимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней мой кузен возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.
– Одно может не мешать другому, – возразила Консуэло. – Но что вы хотите сказать этим, милая баронесса? Объясните.
– Так слушайте же меня хорошенько, – продолжала Амалия. – Наша семья строго католическая – она свято хранит верность церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки по саксонской линии всегда были правоверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя тетя-канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами наших предков, немецких графов и баронов, перед святой церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштадты предпочли скорее лишиться своих протестантских курфюрстов, нежели покинуть лоно Римской церкви. Но тетушка никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеку.
– Вы все больше возбуждаете мое любопытство, но не удовлетворяете его. Пока что я поняла только одно: я не должна обнаруживать перед вашими благородными родными, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии. Вы можете, милая баронесса, положиться на мою осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно.
– Да, это будет разумно, потому что, предупреждаю вас еще раз, мои родные страшно старомодны в этом вопросе. Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста: я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь: тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут лютеранских пререканий, – надо признаться, не менее нудных. Гуситы – это такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал – это французский дух; и, мне кажется, ничто не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. Время от времени мне удается тайком насладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы я вижу и счастье, и свободу, и развлечения.
– Вы все больше повергаете меня в изумление, – простодушно сказала Консуэло. – Только что, рассказывая о подвигах ваших древних чехов, вы, казалось, и сами были воодушевлены их героизмом. Я приняла вас за их сторонницу и даже немного за еретичку.
– Я больше чем еретичка, больше чем сторонница чехов, – со смехом ответила Амалия, – я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское, и потихоньку, про себя, протестую против Австрии – самой чопорной и самой лицемерной ханжи, какие только бывают на свете.
– А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И такой же поклонник французского духа? Если так, вы должны отлично понимать друг друга.
– Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь, после всех необходимых предисловий, надо наконец рассказать вам о нем.
У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого брака. Вторично он женился сорока лет, и от второй жены у него было пятеро сыновей, которые, как и их мать, умерли от какой-то наследственной болезни – от длительных страданий, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена была чистокровная чешка, по слухам – красавица и умница. Я не знала ее. В большой гостиной вы увидите ее портрет – в ярко-красном плаще и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он шестой и последний из ее детей. Из всех них только он один достиг тридцатилетнего возраста, и то не без труда: здоровый на вид, он перенес тяжкие недуги, и до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, что он намного переживет тот роковой возраст, за который не перешагнула и его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная, и болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то необыкновенные, суеверные мысли. Когда ему было четыре года, он уверял, будто часто видит у своей кровати мать, хотя она умерла и сам он видел, как ее хоронили: по ночам он просыпался от звуков ее голоса. Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать этот призрак, сколько отслужил месс, стремясь его умиротворить! Но ничто не помогло. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях, но однажды признался кормилице, что он и теперь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы помешать ей приходить к нему.
Это был невеселый, молчаливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игрушками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это нагоняло на него еще большую тоску. Наконец решили не препятствовать более его склонности к учению. И действительно, получив возможность удовлетворить эту свою страсть, он несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить их было немыслимо. Так, например, при виде нищих он заливался слезами, отдавал им все свои детские сокровища, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка или грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися по нескольку часов. Все это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые прекрасные свойства, доведенные до крайности, превращаются в недостатки или делают человека смешным. Разум маленького Альберта не развивался параллельно с чувствами и воображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того короля варваров, который, слушая рассказ о страданиях Христа, воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось: я изрубил бы тех злых евреев на тысячи кусков!»
Альберт не желал принять людей такими, какими они были прежде и каковы они еще и сейчас. Он винил Бога за то, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своему доброму, нежному сердцу он, сам того не замечая, стал безбожником и мизантропом. Не в силах понять то, на что сам он был не способен, Альберт в восемнадцать лет, словно малое дитя, оказался не в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую его положением. Если какой-нибудь человек высказывал при нем одну из тех эгоистических мыслей, которыми кишит наш мир и без которых мир этот, пожалуй, не может существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого человека, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу отдалялся от него, и ничто не могло заставить его быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обойденными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, играть с которыми всякому другому ребенку было бы и скучно и противно. Своего пристрастия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в этом убедитесь.
Так как при всех своих странностях он был бесспорно умен, обладал прекрасной памятью, имел способность к искусствам, то его отец и добрая тетушка Венцеслава, воспитывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в обществе. Его наивные выходки они объясняли некоторой дикостью – следствием деревенского образа жизни, а когда он заходил в них слишком далеко, старались под каким-нибудь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеться. Но несмотря на все его достоинства и дарования, граф и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура все более и более порывает со светскими обычаями и условностями.
– Но до сих пор, – прервала свою собеседницу Консуэло, – я не вижу ничего такого, что говорило бы об упомянутом вами безумии.
– Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа, – ответила Амалия. – Но, быть может, я утомила вас своей болтовней и вы попробуете уснуть?
– Ничуть, дорогая баронесса, прошу вас – продолжайте, – отвечала Консуэло.
И Амалия продолжала свой рассказ.
XXVI
– Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких особых странностей в поведении моего бедного кузена? Сейчас я приведу вам более убедительные доказательства. Мой дядя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и самые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с необыкновенной щедростью раздавали милостыню, причем делали это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой кузен считал, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги неимущим, сами стали нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, с горечью оплакивая судьбу несчастных, которые вечно надрываются за работой, вечно страдают, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал нищим, считая, конечно, что это капля в море, и тут же начинал просить еще более крупные суммы, отказывать в которых ему не решались, так что деньги текли у него из рук, как вода. Он столько роздал, что во всей округе вы уже не встретите ни одного бедняка, но я должна сказать, что нам от этого не легче: требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются, и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь, благодаря щедротам и сладким речам своего молодого господина, высоко подняли голову. Не будь над нами императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, а с другой – все-таки оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из соседних округов. Они голодают вследствие войны, но благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта известна на тридцать миль вокруг) сели нам на шею, особенно со времени всех этих перипетий с престолонаследием императора Карла.
Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, говорил ему, что ведь отдать все в один день – значит лишить себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас, тогда как над головами тысяч бедняков лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? А разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других нет ничего? Разве заветы Христа переменились?»
Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого человека в строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на один из тех требуемых временем компромиссов, на которых, как мне кажется, и основано всякое общественное устройство.
Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие государям право посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего честолюбия и тщеславия. Его нетерпимость становилась опасной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы эта фанатическая любовь к добродетели не повредила им. Не менее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При такой экзальтированной набожности его вполне могли принять за еретика, достойного костра или виселицы. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с королями на спокойствие и благо народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников и честолюбие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. И при всем этом Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, погруженный в глубочайшие размышления, охваченный исступленным восторгом, словно святой. Он соблюдал посты и предавался воздержанию гораздо строже, чем того требовала церковь. Говорили даже, что он носит власяницу и что понадобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно немало способствовавших его чрезмерной экзальтации.
Когда наши добрые и разумные родные увидели, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому же еще, как противник святой церкви и Священной Римской империи, рискует попасть в тюрьму, они с грустью в душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их главными государственными установлениями, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить среди людей, и жить так, как живут они. И вот его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, который понял с полуслова свою роль и взялся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту непримиримую душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды – тщеславие, честолюбие, безразлично-спокойное отношение к религии, политике и морали. Не хмурьтесь так, милая Порпорина! Мой почтенный дядя – простой и добрый человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества и излишних рассуждений примирять терпимость с религией, долг христианина – с обязанностями владетельного вельможи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион таких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт, мудр тот, кто идет вместе с веком и вместе с обществом. А кто стремится вернуться на две тысячи лет назад, тот безумец: никого не убедив, он только приводит в негодование людей своего круга.
Альберт путешествовал восемь лет. Он посетил Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Домой он вернулся через Венгрию, Южную Германию и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные, писал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, своему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия.
Вернувшись домой в начале прошлого года, он, после первых объятий и поцелуев, сразу же удалился, как мне рассказывали, в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов; затем вышел оттуда страшно бледный и отправился один в горы.
В это время аббат вел откровенную беседу с канониссой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и нравственном состоянии молодого графа. «Граф Альберт, – сказал он им, – уж не знаю, право, отчего – оттого ли, что путешествие сразу изменило его, оттого ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, – граф Альберт, говорю я, с первого дня нашей совместной поездки был таким же, каким вы увидите его сегодня: кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учтивым. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся – безумных трат, резких выходок, высокопарных речей, экзальтированного аскетизма, – мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не выразил желания самостоятельно распорядиться теми суммами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал его желания и, видя, что к нашей карете подходит нищий, спешил подать милостыню прежде, чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия оказался очень удачным: почти не видя нищеты и недугов, молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его пылкая набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, проводил время в лучшем обществе, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычное, так это именно чувство меры, осторожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь щедро наделенном красотой, знатностью и богатством».
Впрочем, в этом отчете не было ничего нового, – он являлся лишь подтверждением частых писем аббата к родным, – но они все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились лишь теперь, когда он подтвердил полное моральное перерождение моего кузена, видимо не опасаясь, что тот на глазах родственников немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго, и, когда наконец молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. Если в первую минуту свидания лицо его сияло нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько обратились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил с изумлением: «Право, я не нахожу ничего особенного в лице графа – у него все то же благородное, спокойное выражение, какое я привык видеть на протяжении тех восьми лет, что имел честь состоять при нем».
Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом.
«Когда мы расстались с Альбертом, – сказал он сестре, – на щеках его еще играл румянец юности, а внутреннее возбуждение часто – увы! – придавало блеск его глазам и живость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного солнца, немного похудевшим, вероятно от усталости, и более серьезным, как это и приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он выглядит гораздо лучше?»
«В его серьезности чувствуется грусть, – ответила моя добрая тетушка. – Я никогда в жизни не видела двадцативосьмилетнего молодого человека, который был бы таким вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам».
«Граф всегда был скуп на слова», – возразил аббат.
«Прежде это было не так, – сказала канонисса. – Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и такие дни, когда он воодушевлялся и говорил целыми часами».
«Я никогда не замечал, – возразил аббат, – чтобы он изменял той сдержанности, которую вы наблюдаете в нем теперь».
«Неужели он больше нравился вам, когда говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас? – спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. – Ох, эти женщины!»
«Да, но тогда он все-таки жил, – сказала она, – а теперь он производит впечатление выходца с того света, равнодушного ко всему земному».
«Таков характер молодого графа, – сказал аббат, – он человек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатлениями, да, говоря откровенно, и не поддается влиянию никаких внешних воздействий. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных; так уж он создан, и я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной предприимчивости».
«О! Я готова поклясться, что его истинный характер вовсе не таков!» – воскликнула канонисса.
«Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против столь редкого преимущества», – сказал аббат.
«В самом деле, сестрица, – сказал граф Христиан, – я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, безрассудно смел. Вернулся он к нам таким, каким ему подобает быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение окружающих».
«Но вернулся истертым, как старинная книга, – проговорила тетушка, – а может быть, ожесточенным и презирающим все, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад видеть нас, а мы-то ждали его с таким нетерпением!»
«Граф и сам с нетерпением стремился домой, – заметил аббат, – я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не выказывал. Он ведь так необщителен. По природе своей он очень сдержанный человек».
«Наоборот, по природе он очень экспансивен, – горячо возразила канонисса. – Подчас он бывал вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала».
«По отношению ко мне ему никогда ничего не приходилось заглаживать», – сказал аббат.
«Поверьте, сестрица, так гораздо лучше», – настаивал мой дядя.
«Увы! – воскликнула канонисса. – Неужели всегда у него будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?»
«Это гордое, благородное выражение, приличествующее человеку его круга», – сказал аббат.
«Нет! Это просто каменное лицо! – воскликнула канонисса. – Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не добрую и нежную, какой я ее знала, а ледяную и неподвижную, такую, какой она нарисована на портрете в дубовой раме».
«Повторяю вашему сиятельству, – настаивал аббат, – что таково было обычное выражение лица графа Альберта на протяжении этих восьми лет».
«Увы! Значит, вот уже восемь ужасных лет, как он никому не улыбнулся! – воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетушка. – За те два часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой. Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже выбранить, как бывало. Быть может, и теперь, как прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на шею!»
«Сохрани вас Бог от такой неосторожности, дорогая сестра, – проговорил граф Христиан, заставляя плачущую тетушку отвернуться от Альберта. – Не поддавайтесь материнской слабости, – продолжал он, – мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение, господин аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную душу. Смотрите не испортите все, что он сделал, причудами своей ребячливой нежности».
Канонисса согласилась с этими доводами и постаралась примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к ней привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату: «Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним как с больным ребенком, а не как с мужчиной, аббат погубил его».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































