Текст книги "Дневник братьев Гонкур"
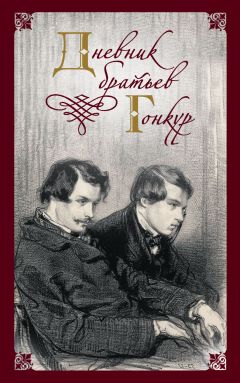
Автор книги: Жюль Гонкур
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
И теперь, услышав все это, я вдруг начинаю вникать в то, что она выстрадала за эти десять лет: страх перед анонимными письмами, могущими дойти до нас, и перед обвинениями поставщиков; постоянный трепет из-за денег, требуемых от нее – которых у нее частенько не было; стыд, переживаемый гордым созданием, совращенным этим мерзким кварталом Сен-Жорж[36]36
В квартале Сен-Жорж селились в середине XIX века куртизанки, любовницы почтенных буржуа.
[Закрыть], стыд сношений с людьми, которых она презирала, и горькое осознание преждевременной старости – этого неизбежного следствия пьянства;
покушения на самоубийство – я оттащил ее раз от окна, из которого она было совсем вывалилась; наконец, все эти слезы, казавшиеся нам беспричинными; и всё это, смешанное с очень глубокой, сердечной привязанностью к нам, преданностью, похожей на горячку…
В этой женщине энергия характера, сила воли, искусство скрытности достигли высшей степени. Да, да, все ее ужасные секреты были скрыты и замкнуты от наших глаз, от нашего слуха, от наших способностей к наблюдению – даже во время ее истерических припадков она испускала одни лишь стоны.
И отчего же она умерла? От того, что восемь месяцев тому назад, зимою, под дождем, вышла ночью подкараулить любовника, прогнавшего ее, чтобы узнать, какая женщина ее заменила: всю ночь простояла Роза под окном нижнего этажа и вернулась домой промокшая до костей, со смертельным плевритом!
Бедное создание! Мы от души простили ее, и великая жалость наполняет наши сердца по мере того, как нам открываются ее страдания… Но отныне и на всю жизнь мы прониклись недоверием к женскому полу. Нам стало страшно при мысли о двойном дне любой женской души, о чудовищной, гениальной способности женщины лгать.
28 октября, вторник. Эдуард [Лефевр] увозит меня в Клермон осматривать женскую тюрьму.
Заключенные большей частью выглядят здоровыми, лица у них пухлые, цвет лица несколько желтоватый, они своим видом напоминают и монахинь, и выздоравливающих. У всех или почти у всех упрямые квадратные лбы, лбы ожесточенных, угрюмых крестьянок. Я не нашел ни одного красивого или интересного лица. Весь этот мир женщин с впалыми глазами ожесточен, сосредоточен и хранит под неподвижными чертами массу накопленных мыслей и чувств. Все они, когда проходишь мимо, остаются склоненными над своей работой, с замкнутыми физиономиями. Будто стена между вашим взором и ими. Лица их ничего не говорят, не выражают: чувствуешь, что они словно притворяются мертвыми. Вот вы прошли и обернулись. Взоры медленно подымаются вслед вам, и вы спиной чувствуете, как все эти тяжелые взгляды впиваются в вас и наблюдают за вами со злобным любопытством.
Начальник рассказал мне про хитрости этих женщин, обреченных на молчание[37]37
С 1853 года одиночное заключение было заменено во Франции исправительной системой: заключенные отбывали трудовую повинность в общих помещениях, но без права разговаривать друг с другом.
[Закрыть], хитрости, посредством которых они переписываются между собою. Так одна из них отправила любовное послание, вырезав отдельные буквы из молитвенника и нашив их на тряпку…
13 декабря, суббота. Я получил от принцессы Матильды, вместе с милым письмецом по поводу нашей книги, приглашение к обеду. Нас вводят в бельэтаж, в круглую гостиную с панно из пунцового штофа и декорированными зеркалами резного стекла в изящных рамах.
Гаварни, Шенневьер[38]38
Шарль-Филипп де Шенневьер-Пуантель (1820–1899) – искусствовед и писатель.
[Закрыть] и Ньеверкерк[39]39
Альфред-Эмельен Неверкерк (1811–1892) – скульптор, любовник принцессы.
[Закрыть] уже здесь. Появляется и принцесса, сопровождаемая своей чтицей, госпожой де Фли.
Садимся за стол. Нас только семеро. Если бы не посуда, помеченная императорским гербом, и не важность и безучастность лакеев, настоящих лакеев знатного княжеского дома, нельзя было бы и подумать, что находишься у «высочества», так много в этом милом доме свободы духа и слова. Эта гостиная – настоящий салон ХІX века, и хозяйка ее – совершеннейший тип современной женщины.
Женщина любезная, как ее улыбка, милейшая на свете улыбка, щедрая улыбка красивых итальянских уст; она – сама естественность, которая заставляет вас чувствовать себя как дома, непринужденно и живо выражает всё, что только приходит ей в голову, божественна своей простотой. Сегодня она находится среди мужчин и отдается веселью без малейшей задней мысли. Она поистине очаровательна.
Принцесса жалуется нам, мило и остроумно, на то, что умственный уровень современных женщин странным образом опустился в сравнении с эпохой, описанной нами; на то, что она не знает женщин, которые интересовались бы искусством или новостями литературы и имели увлечения, пусть и не «мужские», но возвышенные и редкие. Большая часть дам такова, что с ними не о чем говорить. «Ведь вот если сюда к нам зайдет женщина, придется переменить разговор, вы сразу же увидите. Да, женщин развитых я готова принимать у себя. Рашель, конечно, Рашель я согласилась бы принять[40]40
Элиза Рашель, известная театральная актриса и хозяйка салона, к тому времени уже умерла.
[Закрыть], и госпожу Жорж Санд я пригласила бы с большим удовольствием!..»
1863
23 февраля. Обед в ресторане Маньи. Шарль Эдмон приводит к нам Тургенева, этого иностранного писателя, одаренного столь нежным талантом, автора «Записок охотника» и «Русского Гамлета»[41]41
Речь идет, по-видимому, о статье Тургенева «Гамлет и Дон Кихот».
[Закрыть].
Это милый колосс, кроткий великан с седыми волосами, он похож на доброго духа горы или леса. Он прекрасен, величаво прекрасен, почтенно прекрасен, с этой его синевой неба в глазах и певучестью русского акцента, напоминающей не то ребенка, не то негра.
Растроганный, приятно удивленный сделанной ему овацией, Тургенев сообщает нам любопытные вещи о русской литературе. Она вся, по его словам, начиная с романа и кончая театром, занята изучением действительности. Он говорит нам, что русская публика много читает журналы, и, краснея, признается нам, что он и десять других писателей получают по шестиста франков с листа. Но зато книга там еле оплачивается, не приносит более четырех тысяч франков…
При имени Гейне, произнесенном Тургеневым в то время, как мы громко выражаем наш восторг немецким поэтом, Сент-Бёв, утверждающий, что отлично его знал, восклицает, что это был негодный плут. Но при общем шумном протесте он умолкает, закрывает лицо обеими руками и остается в такой позе все время, пока длится наш дифирамб.
1 марта. Сегодня последнее воскресенье с Флобером, он уезжает в Круассе, чтобы там зарыться в работу.
Приходит господин, тощий, худой, угрюмый, с жидкой бородкой, с глазами, спрятанными под очки; но лицо его, несколько бесцветное, оживляется при разговоре, и взгляд становится приветливым, когда он вас слушает. Речь у него спокойная, а разговаривая, он как бы роняет слова, широко открывая рот с длинными, как у старой англичанки, зубами. Это Тэн, живое воплощение современной критики, критики одновременно весьма ученой, весьма остроумной и весьма часто неверной до последних пределов. В нем все еще заметен профессор, читающий лекцию[42]42
В разные годы Тэн преподавал философию и историю искусств.
[Закрыть]. Следы учительства неистребимы, но его спасает большая простота, замечательная любезность обхождения, внимательность благовоспитанного человека, учтиво отдающегося в распоряжение других.
Так как мы говорили о том, что, судя по вчерашнему замечанию Тургенева, в России популярен только один писатель – Диккенс, и что с 1830 года наша литература в России уже не имеет прежнего влияния, а оно всё больше переходит к американским и английским романам, Тэн сообщает нам, что уверен: в будущем литературное влияние Франции еще уменьшится; что и правда, начиная с XVIII века, Франция имела во всех отраслях знаний людей замечательных, превосходный фронт, но – только и всего, ибо войска по-прежнему нет. (Более ошибочного предсказания никогда не бывало, ибо ни в какое время французская книга, французский роман не расходились в таком числе экземпляров, как спустя всего несколько лет. Впрочем, как будет видно в следующих частях нашего дневника, философы словно обладают способностью делать неисполняющиеся предсказания.) Одним словом, все та же история: Париж и провинция…
14 марта, суббота. Обед в ресторане Маньи. Сегодня с нами снова обедал Тэн со своим убегающим взором, со своей легкой, образной речью, уснащенной историческими и научными сведениями, со своим слегка тщедушным изяществом – одним словом, с той внешностью светского человека, которая пристает к молодым учителям, занимавшимся воспитанием детей в знатных домах.
Он беседует об отсутствии умственного движения в нашей провинции в сравнении с литературными кружками английских графств и немецких городов; о полнокровии все всасывающего, все привлекающего, всесильного Парижа; о будущем Франции, которая при таких условиях должна дойти до кровоизлияния в мозг.
– Париж производит на меня впечатление Александрии в последний период ее существования, – говорит Тэн. – Правда, у ее ног лежала долина Нила, но это была уже мертвая долина.
По поводу похвалы Англии, вновь высказанной Тэном, я слышу, как Сент-Бёв говорит, что ему противно быть французом.
– Но быть парижанином не значит быть французом, это значит лишь быть парижанином!
– Но все-таки вы француз, то есть вы бессильны, вы – ничто. Это страна, где на каждом шагу полицейские… Мне хотелось бы быть англичанином. Англичанин хоть что-нибудь из себя представляет. Впрочем, во мне есть немного этой крови. Я из Булони, вы знаете? Бабка моя была англичанка!
Но вот начинаются бесконечные прения о религии, прения, порожденные брожением здорового и разгоряченного пищеварения. И вот Тэн уже толкует о преимуществах и удобствах протестантской религии для умов развитых, благодаря широте ее учения, благодаря тому толкованию, которое каждый, смотря по своим наклонностям, может вложить в свою веру.
– В сущности, – заканчивает он, – все это – дело чувства. Я убежден, что натуры музыкальные более привержены протестантизму, а натуры, склонные к изобразительному искусству, – католицизму.
11 мая. Наш день у Маньи. Мы в полном сборе. У нас двое новеньких: Теофиль Готье и Огюст Нефцер – известный журналист, сотрудник и редактор многих изданий.
Разговор касается Бальзака и останавливается на нем. Сент-Бёв нападает на великого романиста:
– Бальзак не правдив, это человек гениальный, если хотите, но он чудовище!
– Да мы все чудовища, – откликается Готье.
– Тогда кто же еще рисует наше время? Где описано наше общество? В какой книге, если не у Бальзака?..
– Всё фантазия, всё выдумки! – восклицает раздраженный Сент-Бёв.
– Боже мой, – замечает Ренан, который сидит рядом со мной, – я нахожу даже госпожу Жорж Санд гораздо более правдивой, чем Бальзак.
– Не может быть!
– Да, да, у нее страсти общие.
– Да и что за слог у Бальзака! – подхватывает Сент-Бёв. – Как будто скрученный, витой, как канат.
– Господа, – продолжает свое Ренан, – госпожу Жорж Санд будут читать и через триста лет.
– Как бы не так! Ее забудут, как уже забыли госпожу де Жанлис.
– Бальзак уже порядочно устарел, – рискует вставить свое Сен-Виктор, – да и очень сложен.
– А его Юло д'Эрви?! Это человечно! Это прекрасно! – почти кричит Нефцер.
– Прекрасное – просто, – продолжает Сен-Виктор. – Нет ничего более прекрасного, чем чувства Гомера. Это останется вечно юным. Ведь Андромаха интереснее госпожи Марнеф![43]43
Как и Юло д'Эрви, одно из действующих лиц романа Бальзака «Кузина Бетта».
[Закрыть]
– Не для меня! – откликается Эдмон.
– Как не для вас? Гомер…
– Ваш Гомер рисует лишь картину физических страданий, – говорит Готье. – Описывать нравственные страдания куда труднее. И хотите, чтобы я вам сказал всё? Распоследний психологический роман волнует меня больше, чем весь ваш Гомер… Да, я охотнее читаю «Адольфа»[44]44
Роман Бенжамена Констана «Адольф» – один из самых заметных романов французского романтизма.
[Закрыть], чем «Илиаду».
– Хоть из окна бросайся после таких речей! – уже ревет Сен-Виктор.
Попрали его божество, оплевали его святыню. Он кричит, он топает ногами. Он покраснел, точно дали пощечину его отцу.
Общий сумбур, во время которого Сент-Бёв набожно крестится и шепчет:
– Но, господа, неужели и собака, собака Уллиса…
А я говорю Ренану, сидящему по соседству:
– Можно спорить о папе, ругать что угодно… Но Гомера!.. Странное дело – религия в литературе!
Наконец все утихают. Сен-Виктор пожимает руку Эдмону, и обед продолжается.
Но вот Ренан принимается нас уверять, что старается очистить свою книгу от газетного языка, писать настоящим языком XVII века, языком, окончательно установившимся и приспособленным к выражению всех чувств.
– Напрасно, вы этого не достигнете, – быстро возражает Готье. – Я вам покажу в ваших книгах четыреста слов, не существовавших в XVII веке. У вас новые мысли, не так ли? Ну так новым мыслям нужны и новые слова. А Сен-Симон, разве он писал языком своего времени? А госпожа де Севинье?
И громкое слово Готье поглощает все возражения. Он продолжает:
– Да, может быть, им и достаточно было своих слов – для того времени, пожалуй. Они ничего не знали: немного латыни и никакого понятия о греческом. Ни слова об искусстве. Ни слова истории! Ни слова археологии! Не они ли назвали Рафаэля Миньяром своего века?! Не пересказать вам словами XVII века даже ту статью, которую я во вторник напишу о Бодри![45]45
Пьер Миньяр (1612–1695) – живописец академического направления времен Людовика XIV, а Поль Бодри (1828–1886) – представитель того же направления, но спустя два века.
[Закрыть] Язык Мольера? Да нет ничего более отвратительного! Его стихи – сплошной насморк… А кто еще? Может быть, Расин? У него есть всего два прекрасных стиха, только два!..
7 июня. После очередного горячего спора у Маньи я выхожу с сердцем, стучащим в груди, с пересохшим горлом и языком. И прихожу, наконец, к следующему убеждению: всякий политический спор сводится к одному – я лучше вас! А всякий литературный – у меня больше вкуса, чем у вас! Всякий художественный – я лучше вас вижу! Всякий музыкальный – у меня слух лучше вашего! А ведь, однако, ужасно, что при каждом споре мы двое остаемся особняком, у нас нет последователей. Может быть, поэтому нас и двое, может быть, поэтому Бог и сотворил нас такими.
24 июля, Гретц близ Фонтенбло.
Мы здесь в деревенской гостинице для художников, по 3 франка 50 су в день; живем в комнатах, выбеленных известью, спим на перинах, пьем здешнее вино, едим яичницу.
Товарищи наши – один из братьев Палицци и молодой вельможа из Сент-Омер, занимающийся живописью любительски.
29 июля. Здесь с каждым днем возрастает в нас дурацкая веселость, при которой как будто радуются все органы и все ощущения. Чувствуешь солнце внутри себя, и в саду, под сенью яблонь, лежа на соломе, испытываешь сладкое и счастливое одурение, как при шуме воды, падающей из шлюза, шуме, долетающем до лодки, в которой ты плывешь. Это прелестное состояние оцепенелой мысли, блуждающего взгляда, беспредельной мечты, утекающих дней, грез, следящих за порханием белых бабочек в капусте.
4 августа. Семь часов вечера. Небо бледно-голубое, почти зеленое, как будто в нем расплавлена бирюза. По этому фону ходят тихо, гармоническим и медленным шествием, маленькие облачка, мягкие и пышные, нежно-фиолетового цвета – как дымок, освещенный закатом, а сверху они розовые, как вершины глетчеров, яркие и прозрачные.
Передо мной, на противоположном берегу, линия деревьев в листве, желтеющей и еще теплой от солнца, мягко рисуется в том блеске умирающих дней, в тех золотистых тонах, которые одевают землю перед сумерками.
14 сентября. Обед у Маньи. Сегодня битва из-за «Истории» Тьера, и, по правде сказать, его почти единодушно объявляют бездарным историком. Один Сент-Бёв его защищает. Такой милый человек! Такой остроумный! Так много у него влияния. Он вам описывает, каким образом очаровывает палату, как соблазняет депутата. Таковы приемы Сент-Бёва, насколько я мог заметить.
Сент-Бёв ушел. Мы сидим за ликером, который он всегда готовит: смесь кюрасо с ромом.
– А propos, Готье, вы были в Ноане, у Жорж Санд? Весело там?
– Как в монастыре моравских братьев. Я приехал вечером. От железной дороги идти далеко, и чемодан мой спрятали в кусты. Я прошел фермой среди собак, которые меня страшно напугали. Накормили меня обедом: пища хороша, но слишком много дичи и цыплят – не в моем духе. Были Маршаль, живописец, госпожа Каламатта[46]46
Лина Каламатта, дочь гравера Луиджи Каламатты, была женой сына Жорж Санд, Мориса.
[Закрыть] и Александр Дюма-сын…
– А какова жизнь в Ноане?
– Завтракают в десять часов. Как только пробьют часы и стрелка показывает десять, все садятся за стол. Госпожа Санд выходит с видом сомнамбулы и дремлет все время завтрака. Потом выходят в сад. Играют в кошонет, это ее оживляет[47]47
Здесь: петанк.
[Закрыть]. Она садится и начинает разговаривать. В это время обыкновенно говорят об особенностях произношения: например, как выговаривать ailleurs или meilleur. Когда же болтовня становится шаловливой, предметом шуток служит навоз.
– Ба!
– Но зато ни словечка об отношениях мужчины и женщины. Думаю, что при малейшем намеке вас бы спровадили… В три часа госпожа Санд поднимается к себе и работает до шести. Обедают, но обедают довольно скоро, чтобы дать пообедать и Мари Кайо. Это служанка дома, взятая в окрестностях, чтобы участвовать в пьесах театра. После обеда госпожа Санд молча раскладывает пасьянс до полночи…
На второй день, уж простите, я сказал, что если не будут говорить о литературе, я уеду. Литература! Они все как будто вернулись с того света!.. Надо вам сказать, что в настоящее время они там все заняты одним-единственным делом, а именно – минералогией. У каждого свой молоток, без молотка не выходят. Итак, я объявил, что Руссо – самый плохой из французских писателей, и мы проспорили с госпожой Санд до часа ночи…
Однако Мансо недурно приспособил Ноан для ее писательства. Она не может присесть ни в какой комнате, чтобы там ни оказалось перьев, синих чернил, папиросной бумаги, турецкого табака и даже разлинованной бумаги. Вам ведь всем известно, что она в полночь вновь принимается за работу и просиживает часов до четырех. Наконец… Знаете, что однажды случилось с нею? Нечто чудовищное! Она однажды закончила роман в час ночи – и принялась за другой, в ту же ночь! Писать – это для госпожи Санд органическая функция.
Впрочем, у нее всё очень удобно устроено. Прислуга, например, бессловесная. В коридоре стоит ящик в два отделения: в одно складываются письма, предназначенные для почты, в другое – письма для прочтения дома, и сюда вы пишете все, что вам нужно, с обозначением фамилии и комнаты. Мне понадобился гребень. Я написал: «Готье, такая-то комната», и просьбу. На следующий день, в шесть часов, мне подали тридцать гребней на выбор.
27 сентября. Мы возвращаемся из деревни к обеду у Маньи. Говорят об Альфреде Виньи, недавнем покойнике, и Сент-Бёв закидывает его могилу анекдотами[48]48
Альфред Виктор де Виньи (1797–1863) – модный романист, представитель аристократического, консервативного романтизма.
[Закрыть]. Когда я слышу, как Сент-Бёв своими шуточками терзает покойника, мне кажется, будто я вижу, как муравьи овладевают трупом; в десять минут он вам обчистит всю славу и от знаменитого человека остается чистенький скелет.
– Боже мой! – произносит он с умилительным жестом. – Кто знает, принадлежал ли он действительно к дворянству… Родни его никто не видал. Это был дворянин 1814 года, в то время не особо разбирали. В переписке Гаррика встречается некий де Виньи, который просит у него денег, очень благородно. Любопытно узнать, не от него ли произошел наш де Виньи. Он был прежде всего ангел. Виньи всегда был ангелом. Никто никогда не видел у него бифштекса. Когда вы от него уходили в семь часов вечера, чтобы наконец пообедать, он говорил: «Как, уже?» Он не понимал действительности, она для него не существовала. У него встречались славные словечки. Когда он закончил свою речь в Академии, один приятель заметил ему, что речь была немного длинна. «А ведь я не устал!» – воскликнул Виньи. Если же он кого-нибудь представлял к награде, то… губил его.
29 октября, четверг. Флобер встречает нас на Руанском вокзале. С ним брат его, главный хирург при Руанском госпитале, высокий, худой брюнет с профилем, вырезанным наподобие лунного серпа, с длинным туловищем, высохшим и вместе с тем гибким, как лиана.
Фиакр увозит нас в Круассе. Красивый дом в стиле Людовика XIV возвышается на берегу Сены, которая кажется здесь похожей на озеро.
Вот мы в рабочем кабинете, где царит труд настойчивый и беспрерывный – свидетель многих больших работ, отсюда вышли в свое время «Бовари» и «Саламбо».
Два окна смотрят на Сену, видно широкую реку с движущимися по ней судами. Три других окна выходят в сад, где великолепная аллея грабов как будто подпирает холм, круто возвышающийся за домом. Дубовые книжные шкафы с витыми колонками, помещенные между этими тремя окнами, соединяются с большой библиотекой, занимающей всю глубину комнаты.
Белые деревянные панели, на камине отцовские часы из желтого мрамора, увенчанные бронзовым бюстом Гиппократа. Около камина – плохая акварель, портрет томной, болезненного вида англичанки, с которой Флобер был знаком в молодости, в Париже, да еще крышки от коробок с индийскими рисунками, вставленные в рамки, как акварели, и офорт Калло «Искушение святого Антония»; все эти образы – явные советники таланта.
Между двумя окнами, выходящими на Сену, стоит квадратный постамент, на нем белый мраморный бюст работы Прадье, бюст сестры Флобера, умершей совсем молодой: строгие, чистые линии лица, обрамленного двумя длинными локонами, напоминают греческие лица в кипсеке[49]49
Кипсек (устар., от англ. keep содержать и sake вещь) – роскошное издание с гравюрами и картинками.
[Закрыть].
Яркий ситец старинного и несколько восточного рисунка крупными красными цветами завешивает двери и окна. В одном углу тахта, обитая турецкой материей и заваленная подушками. В середине комнаты рабочий стол, большой круглый стол под зеленой скатертью: именно сидя за ним писатель опускает перо в чернильницу в форме жабы.
Там и сям – на камине, на столе, на полках, вешалках и просто на стенах – восточные безделушки: амулеты, покрытые зеленой патиной Египта, стрелы дикарей, музыкальные инструменты первобытных народов, медные блюда, стеклянные ожерелья, деревянная скамеечка, на которую африканцы кладут голову во время сна и на которой они сидят или режут мясо, наконец, две ступни мумии, привезенные Флобером из грота Симеона, – странные пресс-папье, выделяющиеся среди брошюр своей темной бронзой и застывшей жизнью мускулов.
Этот интерьер – сам человек, его вкусы и таланты: оттенок восточного варварства отражается в артистической натуре.
30 октября. Флобер живет здесь с племянницей, дочерью той дамы, бюст которой был высечен рукой Прадье. Мать его, рожденная в 1794 году и одаренная живучестью людей того времени, сохраняет под чертами старухи остатки прежней красоты в соединении со строгой важностью. Суровый провинциальный дом – и молодая девушка, живущая между трудами дяди и молчаливостью бабки, дарит гостей ласковыми словами, веселыми взглядами голубых глаз и даже милой гримаской сожаления, когда около восьми часов бабушка уводит внучку к себе, чтобы лечь спать.
1 ноября. Мы весь день просидели дома. Это нравится ненавидящему моцион Флоберу, которого мать все равно усиленно упрашивает сойти хотя бы в сад. Она рассказывает, что ей случалось, отлучившись в Руан на несколько часов, заставать по возвращении сына на том же месте, в том же положении, так что она почти пугалась его неподвижности. Он не выезжает. Живет в своем труде в своем рабочем кабинете. Ни лошади, ни лодки…
Целый день он читал нам громовым голосом и с мелодраматическими эффектами свой первый роман, написанный еще в детстве, в четвертом классе. На обложке название – «Фрагменты в некоем стиле». Сюжет: молодой человек теряет невинность с идеальной девкой. В молодом человеке много флоберовского – и его разочарований, и его невозможных стремлений, и его меланхолии, и его мизантропии, и его ненависти к толпе… Вся композиция, исключая разговоры, действительно очень детские, необыкновенно сильная, если вспомнить возраст Флобера. В мелких подробностях пейзажа уже чувствуется тонкая, очаровательная наблюдательность автора «Госпожи Бовари». Под первым описанием осени в начале романа он мог бы подписаться хоть сейчас.
Чтобы отдохнуть, Флобер перед обедом стал рыться в своих вещах: во всяком старье и сувенирах, привезенных издалека. Он с наслаждением перебирает все принадлежности восточного маскарада. Вот он переодевается и показывает великолепную голову турка под чалмой, с энергичными чертами, оживленным цветом лица, длинными висячими усами… Из глубины своих пестрых лохмотьев он вытаскивает наконец, препотешно вздыхая, старые и сморщенные кожаные рейтузы и разглядывает их с умилением змеи, созерцающей свою старую кожу!
Разыскивая свой старый роман, Флобер нашел целую кучу любопытных бумаг, которые начал зачитывать нам прямо тут же! Тут и собственноручная исповедь мужеложника Шолле, убившего своего любовника из ревности и гильотинированного в Гавре, – исповедь, исполненная интимных неистово-страстных подробностей. Тут и письмо проститутки, предлагающей содержателю всю мерзость своей нежности. Тут и автобиография несчастного, который всего трех лет от роду делается горбатым, потом заболевает разъедающим лишаем, который шарлатаны прижигают крепкой водкой, потом становится хромым, потом калекой – незлобивая и потому еще более скорбная повесть мученика рока.
И погружаясь в эту бездну жестоких истин, мы говорим о прекрасной книге для философов и моралистов, которую можно было бы извлечь из всего этого под общим заглавием «Секретный архив человечества».
Мы только на минутку вышли в сад, ночью, перед сном.
2 ноября. Мы попросили Флобера почитать кое-что из его путевых записок.
Он развертывает перед нами свои труды, свои форсированные переходы по восемнадцати часов верхом, дни, проведенные без воды, ночи, отравленные насекомыми, беспрерывные лишения, более мучительные, чем ежедневно угрожающая гибель; а сверх всего еще и страшная дизентерия… Целый день он читает нам свои записки, и к концу этого дня, проведенного в одной комнате, мы чувствуем себя утомленными всеми этими далекими странствованиями и незнакомыми пейзажами.
В перерывах – трубки, которые у Флобера быстро сгорают; и литературные споры и тезисы, вполне противоположные характеру его таланта; и мнения, высказанные только для рисовки, для шику; и теории, довольно сложные и темные, о том, что из локального, местного нельзя создать подлинную красоту. Но при определении прекрасного он теряется и путается и довольно остроумно отделывается фразой: «Прекрасное, прекрасное… это то, что волнует меня смутно!»
Пробило двенадцать. Флобер, закончив свое путешествие и возвратившись через Грецию, хочет читать еще, хочет еще разговаривать и говорит нам, что в это время он только начинает просыпаться и не лег бы до шести часов утра, если бы нам не захотелось спать.









































