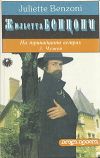Текст книги "Изгнанник"

Автор книги: Жюльетта Бенцони
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РЕБЕНОК, ПРИШЕДШИЙ ИЗДАЛЕКА
с конца 1791 по 1794
Глава X
ТАЙНЫЕ МЫСЛИ ЖОЗЕФА ЭНГУЛЯ
Для Тринадцати Ветров наконец наступили времена, когда вернулся хозяин, правда, искалеченный. Вопреки стараниям Потантена, Клеманс, Доге и других, которые честно старались выполнять свои обязанности, чувствовалось отсутствие единой власти, которая объединяла их всех. Агнес, охваченная безумной ревностью, и особенно под влиянием Адель, совершенно не заботилась о доме, более того, отдав бразды правления своей новоявленной фаворитке, она как бы позволила распространить повсюду атмосферу недовольства и раздражения. К тому же лишенная веселья, буйных игр и радостных забав Элизабет, эта атмосфера в доме медленно сгущалась и, наконец, стала просто невыносимой.
Устроившись в своей библиотеке, где ему, по его просьбе, поставили кровать, Гийом, первые два дня особенно серьезно ничем не занимаясь, заново привыкал к дому, ощущая постоянно его очарование. Он вновь знакомился с предметами, обстановкой, украшениями, привычками, людьми, наконец, которых он раньше любил, вдыхал полной грудью свежий воздух, наполнявший комнату через раскрытые окна из сада и приносивший аромат цветущих ирисов, лилий, роз и боярышника. Но те запахи, которые своим происхождением были обязаны конюшне, в эти первые дни он старался не замечать. Воспоминания об Али, прекрасном жеребце эбеновой масти, которого он так сильно любил, о его друге, погибшем по ошибке проклятого браконьера, пока еще были для него слишком мучительны. Только много позже он смог рассказать обо всем случившемся Доге и другим конюхам. Но пока один только вид решетчатых дубовых перегородок, отделяющих стойло каждого из прекрасных обитателей конюшни, вызывало тоску в его сердце. К тому же Гийом не хотел думать о прошлом. Впереди было много работы, ведь нужно было взять на себя, как и прежде, управление делами на ферме, которые за долгие месяцы безвластия пришли в упадок…
Уединившись в компании Потантена, своего доверенного человека еще с юношеских лет, проведенных в Индии, он проверил состояние финансовых дел. Кстати, оно оказалось гораздо плачевнее, нежели могла предположить даже Роза де Варанвиль, когда она предупреждала Агнес об опасностях, связанных с последствиями исчезновения хозяина. Обе женщины игнорировали их, но настоящая драма заключалась в том, что верный мажордом тоже пренебрег своими обязанностями. Он единственный мог разобраться в столь сложном управлении делами Тремэна: от скромных бумажных фабрик и маслобоен на берегах Сэры до известного тайника, устроенного Гийомом и им самим некоторое время спустя после того, как дом был построен. Тайник располагался за одной из деревянных панелей туалетной комнаты, примыкавшей к кабинету хозяина. Ключ от него находился в маленькой серебряной шкатулке, спрятанной под паркетной доской в этой комнате. Там находилось то, что являлось кладом Жана Валета: коллекция прекрасных самоцветов, изумруды, рубины, сапфиры и еще три восхитительных розовых алмаза, которые в большом количестве набоб Али подарил негоцианту из Порто-Ново, оказавшему ему в свое время неоценимые услуги.
Именно благодаря этой коллекции неограненных драгоценных камней Тремэн, вернувшись во Францию, смог приобрести маленький домик на берегу Рансы недалеко от Сен-Сервана, где добродушный Потантен бдительно их охранял до тех пор, пока не познакомился с Клеманс Белек.
Воспользовавшись также некоторыми другими камня-ми и золотом из упомянутой коллекции, он построил Тринадцать Ветров и организовал некоторые предприятия, в том числе верфь для военных кораблей в Сен-Васте, рудник в Картрэ, военная оснастка двух галер, которые служили для транспортировки продуктов из колонии. Наконец, оставшаяся часть богатства, завещанного Жаном Валетом своему приемному сыну, была доверена финансисту Лекульте дю Молею, человеку, который был старше Гийома лет на десять. После своего возвращения во Францию он уговорил Гийома участвовать в его финансовых делах, и тот согласился, так как вполне доверял его деловой хватке.
В самом деле, Жак-Жан Лекульте (впрочем, все называли его месье дю Молей) безраздельно господствовал над французским банком с тех пор, как имена Сен-Джеймс и Ля Борд сошли со сцены. Не будучи тесно связан с двором и являясь ярым приверженцем новых идей, он установил прочные связи с членами Учредительного собрания, с которыми весело проводил время либо в своем роскошном дворце, расположенном на углу бульвара и улицы Ришелье, либо в загородном доме, – Мальмезоне, собственником которого он являлся.
Дю Молей всегда был одним из первых в Париже среди пестрого племени членов важных банковских фамилий, судовладельцев и руанских судей. Во времена деловой активности в отношениях с Европой Жан Валет мог оценить их деловую сметливость и усердие в работе. Все они, также как и Лекульте, в недалеком прошлом звались не иначе, как Ля Норай, де Комо, де Шантле, де Верклив, теперь же они старались ходить по мостовой вместе со всеми, но в своем кругу терпеть не могли и даже считали преступлением, если в них находили хоть туманное сходство с Атридами… К тому же все они были очень богаты.
Сказать, что Гийом был переполнен дружеским расположением по отношению к этому толстенькому человеку, пожалуй, немного неуклюжему, было нельзя. Любитель вкусно поесть и хорошо выпить, к тому же и грубиян, дю Молей очень не нравился Агнес. И это несмотря на то, что, когда он женился на своей кузине Женевьеве-Софии де Ля Норай, которая раньше была его любовницей, знаменитой Дюгазон, она стала главенствовать в их семье, а она-то была истинной роялисткой. Но он был талантливым финансистом, умеющим вести дела необычайно гибко. Так, с 1789 года он предложил Гийому прервать отношения с Индийской компанией – накануне она была спасена от банкротства Калином, но знаменитая ночь 4 августа должна была лишить ее всех привилегий. Кроме этого, он с самого начала волнений руководил размещением капитала в Голландии, России и скандинавских королевствах.
– Новые хозяева соответствуют тому, что я ожидаю от правительства, – как-то объяснял он Тремэну. – Боюсь только, что некоторые их действия могут привести к разрушениям и нищете. Но я не собираюсь оставлять им то, чем мы оба с тобой обладаем.
Как с этим не согласиться? Доверие было полным между ними, поэтому они не часто переписывались. Однако за время исчезновения Гийома от него пришло два письма, и Потантен решил, что лучше будет на них ответить.
– Я ограничился тем, что написал: ваше длительное отсутствие связано с секретными делами, назначение которых сохраняется в тайне, и посоветовал месье дю Молею решать вопросы по его усмотрению, соблюдая при этом ваши интересы. Рассчитывая, разумеется, на ваше полное к нему доверие.
– Ты не мог бы действовать лучше, – подтвердил Гийом, – у этих финансовых акул в самом деле иногда можно , встретить такие чувства, которые позволяют оказать им доверие. Особенно если они богаты, но… как бы ты вышел из положения, если бы меня не нашли, если бы я умер?
– Я даже никогда не позволял себе думать об этом, – простодушно ответил Потантен. – Я ни на минуту не сомневался в вашем возвращении… И эта уверенность наводила меня на кое-какие мысли. Я думал о том, что бы я стал делать, окажись я на вашем месте. Пожалуй, я бы отказался от некоторых предприятий, которые вам принадлежат в нашей местности. В округе пока спокойно, но тревожная атмосфера сгущается с каждым днем. Банда в Валони (к ней принадлежит и ваш кузен Адриан) все больше наглеет. Она развращает умы завсегдатаев кабаков, присваивает себе право делать обыски и внедряется во все деревни и городишки в округе…
– На каком основании? Валонь утратила свое значение как столица провинции и уступила это право Шербургу, когда в прошлом году Котантен стал департаментом Ла-Манша.
– Это так Речь идет о том, чтобы собрать все имеющиеся силы. Более всего настораживает Ле Карпантье, командующий первым батальоном национальной гвардии. Он опирается на народные массы и потому делает на этом основании все, что хочет. Они завладели уже всем западным побережьем и мечтают о том, чтобы распространить, свое влияние до Гранвиля. Он и его приспешник Бюто больше не ограничиваются Валонью. Что касается Адриана Амеля, то не слишком хороша была мысль позволить ему устроиться в Ридовиле, куда заходят многие из наших береговых судов. Мне рассказывали, что он всячески старается смутить умы матросов опасными россказнями, настраивая их против знати и против… богатых.
– Ах, так?! Ты прав, это была моя ошибка, теперь я это понял. Мне пора, пожалуй, свести счеты с этой дрянью… и с его сестрицей. Ты знаешь, кстати, где она сейчас?
– В Валони, конечно. Говорят, что Бюто и Ле Карпантье делят ее между собой и что она ведет там веселую жизнь.
– Ну, ладно, пусть пока повеселится. Но как только я смогу подняться на ноги, я обязательно разыщу ее. А сейчас я последую твоему совету и отделаюсь прежде всего от мельниц, которые я решил подарить тем, кто на них работает. Завтра же ты поедешь к нотариусу месье Лебарону и пригласишь его к нам. А за это время я напишу несколько писем в Париж, Шербург и Гранвиль…
И Гийом погрузился в работу с ожесточением человека, который вынужден был не по своей воле долгое время бездействовать. За всеми бесконечными делами – ведением переписки, чтением, беседами с теми, кто наносил визиты, а также с доктором Аннеброном, который приезжал вместе с Анн-Мари Леусуа регулярно через день, чтобы следить за процессом выздоровления и осуществить все необходимые процедуры, – время шло незаметно. Безусловно, Тремэн старался как можно больше времени посвящать и своим любимым детишкам – он был бесконечно рад вновь обрести их!
Присутствие детей приводило его в восторг. С самого утра Элизабет прибегала, иногда даже еще босиком, посмотреть, как бреется ее папа. Он всегда сам выполнял эту немаловажную процедуру, и подобное занятие всегда восхищало маленькую девочку. Она устраивалась поудобнее в большом эбеновом кресле, с обивкой из черной кости; Гийом сам любил его, потому что когда-то оно принадлежало Жану Валету. Кресло пододвигали ближе к его походной кровати, и Элизабет, засунув ноги под массивные подлокотники в виде головы слона и подперев кулачками подбородок, устраивалась в нем, как в ложе театра, сосредоточенно наблюдая за движениями отца. Разумеется, она получала и важное преимущество первой поцеловать его в обе щеки, такие гладкие свежие после бритья. Отец и дочь теперь ласкались и нежничали непрестанно. Или по крайней мере до того момента, когда и Адам, еще недостаточно самостоятельный в свои четырнадцать месяцев, чтобы преодолеть лестницу, появлялся в дверях на руках Жанны. Конечно же, ему в тысячу раз интереснее было бы притопать своими ножками! Но с тех пор как он начал ходить, кормилица жила в постоянном страхе, что он упадет и что-нибудь себе сломает, а потому чаще носила его на руках вопреки его все нарастающим протестам. Это приближение слышалось издалека, но как только он оказывался на руках у Гийома, он успокаивался как по волшебству и сразу становился серьезным, внимательным, сосредоточенным. Он почему-то полюбил ощупывать лицо своего отца и делал это с торжественностью эксперта, которому представилась редкая удача изучить какую-нибудь античную статую. Великодушная Элизабет соглашалась с этим и уступала ему место, Она очень любила своего братишку и сознавала ответственность за него. Ничего подобного не было в ее чувствах к Александру. Тот был ее кавалер, приятель по играм и забавам. Со времени ее длительного пребывания в Варанвиле, где весь дом и сад все еще вспоминали их подвиги и долгие беседы, он стал восприниматься как будущий муж, тот, которому в один прекрасный день придется подчиниться, следуя древнему обычаю, сохранившемуся еще с варварских времен. Конечно, в темноволосой головке Александра было гораздо больше рассудительности и здравого смысла, чем под русыми локонами Элизабет, тем не менее девочка полагала, что она создана для того, чтобы повелевать. И она упражнялась в этом без зазрения совести, прекрасно зная, что стоит ей запечатлеть поцелуй на щеке своего друга, как он тут же бросится выполнять ее прихоти.
Какими бы они ни были, Гийом обожал своих «маленьких рыжиков»: Адама, такого кругленького и розового, с огромными голубыми глазами, которые напоминали Гийому глаза его собственной матери Матильды, и особенно Элизабет, обладающую ослепительной грациозностью, гораздо более привлекательную, чем обыкновенные толстушки-милашки ее возраста. Ее серые глаза изменялись в зависимости от настроения: иногда они были блестящие, иногда темные и мрачные. Ее маленькое подвижное личико, черты которого немного напоминали Гийома, правда, гораздо более утонченные, но почти такие же высокомерные, искрились живостью ума и хитростью, но случалось оно становилось серьезным, задумчивым и принимало выражение достоинства, не характерное обычно для такого юного возраста, особенно когда ее мать делала ей внушение.
Отношения Агнес с дочерью с некоторых пор стали более прохладными, чем с сыном – он не был обременен теми же заботами, которые мучили его сестру. Обычно она казалась безразличной к тому, что на самом деле задевало ее за живое. Чтобы подчинить, окончательно преодолеть этот своевольный и мятежный характер, надо было его сломать. Агнес, зная, что Гийом категорически противиться этому, не решалась, отдавая предпочтение ласке в надежде, что дочь вскоре забудет мрачные дни последней зимы. Тем не менее эта подчеркнутая официальность и натянутость их отношений поразила Гийома:
– Разве ты больше не любишь свою маму?
– Да нет же, – непринужденно ответила Элизабет, – я люблю ее, особенно с тех пор, как вас нашли…
Гийом предпочел дальше не расспрашивать. Он не сомневался, что после его исчезновения отношения между матерью и дочерью испортились, иначе Розе не было смысла забирать ребенка, но Гийом в данный момент не стремился выяснить подробности. Возможно, позже он поговорит об этом с мадам де Варанвиль или даже с самой Элизабет. Агнес и он старались сохранять необходимую в данной ситуации видимость возобновления гармонических отношений, так неожиданно и резко разорванных. С первого взгляда можно было подумать, что все идет, как и раньше; Агнес, с рукоделием в руках сидя у изголовья своего мужа, проводила долгие часы, как и полагается заботливой супруге. Накрывали им. обычно в библиотеке, и церемония принятия пищи протекала обычно в кажущемся согласии. Они охотно беседовали, особенно если при этом за столом еще один прибор был предназначен для кого-нибудь из друзей, что было, кстати, нередко. Часто приезжал Феликс, один или вместе с Розой. Мадемуазель Леусуа завтракала с ними через день, иногда Гийом пытался задержать и доктора, но этого ему никогда не удавалось, как бы он ни настаивал. Обычно Пьер Аннеброн извинялся, ссылаясь на большое количество больных, которых ему необходимо срочно посмотреть. Агнес поддерживала приглашение, впрочем, не слишком настаивая и хорошо понимая, что гостеприимство ее мужа мучительно для любовника.
Пьер, переходя попеременно от райского блаженства к мукам ада, уже не понимал, счастлив ли он, или несчастен. Его страсть к супруге Гийома и его дружеское расположение к нему самому вращались по замкнутому кругу, так как он не имел мужества порвать с одним или с другой. Ему приходилось все время краснеть, когда рука Гийома сжимала его руку в рукопожатии, и бороться с безумным желанием убежать как можно дальше. Но лишь обнаженные руки Агнес обвивались вокруг его шеи, он был готов с удовольствием задушить ее мужа, если бы тому случайно пришлось в этот момент перед ним появиться. Кстати, каждый раз, когда он решался поговорить наконец серьезно и пробормотать что-то вроде того, что пора прекратить это безумство, молодая женщина поцелуем закрывала ему рот, не позволяя объясняться дальше» – еще будет время подумать об этом, когда Гийом опять сможет ходить…
А пока, решив наслаждаться еще долгое время любовью, которую она вкушала с наслаждением тем более страстным, чем более изощренной становилась эта любовь, Агнес обнаружила в себе большую потребность в деятельности. Еще недавно она, казалось, похоронила себя в Тринадцати Ветрах, а теперь вдруг начала проявлять интерес к простым людям из окрестных деревень, оказывая им милосердие, необходимое якобы небесам, за то, что были услышаны ее молитвы о возвращении ей горячо любимого супруга. Ей также приходилось отдавать визиты своей соседке, мадам де Ронделер, в поместье Эскарбосвиль или госпоже д'Урвиль. Мало-помалу все привыкли встречать ее кабриолет на маленьких проселочных дорогах. Ею восхищались. Ее даже обожествляли…
И никому не пришла в голову мысль обратить внимание на то, что маршруты мадам Тремэн легко вписывались в четырехугольник, ограниченный Ла Пернелем, Виселем, Пепэнвастом и Фановилем. И тем более никто не мог себе представить, что иногда – приблизительно раз в неделю, – кабриолет с его прекрасным кучером, как всегда скромно одетым, что вполне подходит тому, кто делает добрые дела, углубляется в густой лес, где высокие струйные деревья стояли в окружении приземистых пышных кустарников; затем по самой заросшей тропинке он выезжает к руинам старой башни, от которой осталось только что-то вроде пещеры, и что там на постели из папоротника владелица Тринадцати Ветров и доктор из Сен-Васта занимаются тем самым милосердием, которое в том случае считается нужным, если начинается с себя. Разумеется, Пьер приходил по другой тропинке.
После этих встреч, ставших еще более страстными, потому что ей всегда приходилось торопиться, Агнес уходила сияющая, оживленная, и хотя в глазах была усталость, но это ее красота, обычно холодная и надменная, становилась мягче. Иногда она даже излучала тот мягкий свет, какой обычно исходит от счастливых женщин, особенно когда чувствовала себя удовлетворенной любовью, вкусив наслаждение со своим неутомимым любовником. Предаваясь с ним этой страсти, она удовлетворяла самые изысканные свои желания, становясь с каждым разом все более требовательной, но и внутренне ликовала от тайной мести, видя по возвращении своего супруга, прикованного к постели. Благодаря этим украденным часам ей удавалось успешно противостоять мощному притяжению, которое всегда исходило от Гийома. Он же, не имея выхода своему чувству, пытался воспользоваться этим влиянием. Агнес ощущала, до какой степени она осталась ему подвластна: стоило ему сделать ей комплимент или задержать ее руку у своих губ чуть дольше положенного, ее сердце начинало учащенно биться… Как-то раз вечером она вошла к нему за несколько минут до ужина, и Гийом сразу заметил и поразился исходившему от нее сиянию. Одетая просто, по-домашнему – свободное красное платье из тафты, бархатная лента такого же оттенка поддерживала ее пышно взбитые черные волосы, без каких-либо украшений, за исключением золотого обручального кольца на бледной руке, – она была обворожительна.
– Вы сегодня великолепны! – воскликнул Гийом.– Глядя на вас можно подумать, что вы очень счастливы! В его глазах вспыхнуло яркое пламя страсти, которое так хорошо было ей знакомо. И это заставило ее задрожать от радости. Мысль о том, что когда-нибудь придет день и ей удастся вычеркнуть англичанку из его памяти, обожгла ее. Если бы он мог воспылать к ней прежней страстью, как было бы ей приятно заставить его ждать, надеяться, страдать! – А почему бы мне и в самом деле не быть счастливой? Вам с каждым днем все лучше, и уже завтра вы сможете избавиться от этих ужасных орудий пытки… Не отвечая, он взял ее руку в свою, поцеловал и прижал к своей щеке.– Я страшусь этого испытания… но меня согревает мысль, что вы будете рядом со мной….
– Неужели я еще что-то значу в ваших глазах?
– Только не говорите, что вы этого не замечаете! С каждым днем вы значите для меня все больше и больше! С тех пор как я вернулся, я смотрю на вас и восхищаюсь вами. И к этому чувству примешивается другое, похожее на… угрызения совести. Вы дарите мне свою улыбку, как будто ничего не случилось в прошлом…
– Вы произнесли очень точное слово, Гийом: прошлое! От вас зависит, чтобы оно исчезло…
– Не только от меня…
Повернув слегка голову и увидев царапину на ее запястье, он прикоснулся к ней губами и стал нежно целовать руку, поднимаясь все выше к мягкой ямке на изгибе локтя. Агнес закрыла глаза и осторожно освободила руку. Еще было рано, слишком рано давать ему повод думать, что он прощен. «Прежде чем он вновь сможет обладать ею, ему еще предстоит на коленях умолять ее об этом… если допустить, что это упражнение будет ему по силам?» – размышляла она. Гийом между тем был искренен. Те нежные чувства, которые поднимались в нем, когда рядом с ним находилась Агнес, заглушали немного боль его отречения. Такую новую, странную и непредсказуемую Агнес он полюбил теперь более страстно и горячо, возможно, при этом он смешивал воедино вожделение своего тела и порывы души, но он обнаружил, что она еще может заставить трепетать его сердце, а для будущего его семьи это могло стать надежным укреплением. Он улыбнулся:
– Я вас обидел?
– Нет… Только сейчас вы должны думать исключительно о себе, вам нужно беречь себя!
Неожиданно Агнес услышала его смех, впервые, за многие месяцы, – и воспоминания нахлынули на нее. Гийом часто смеялся так после часов любви или даже тогда, когда они занимались ею, потому что для него это всегда было радостью в отличие от Пьера. Страсть доктора была замешена на благоговении, и поэтому смех он счел бы за святотатство.
Чтобы справиться с охватившей ее слабостью, она спросила немного едко:
– Что я сказала смешного?
– Ничего, милая. Я только подумал, что, если бы вы взялись ухаживать за мной, вам пришлось бы сменить ваше платье на платье нашей дорогой Анн-Мари. В этом – вы больше похожи на прекрасный плод, который достиг своей наивысшей спелости. Как было бы сладко снять с него кожуру и вкусить! – добавил он с обворожительной улыбкой. На следующий день Гийому было уже не до смеха, потому что доктор Аннеброн приехал специально, чтобы снять кожуру с него самого. Если он и почувствовал огромное облегчение, когда были удалены пластыри, бинты, шины, подвешенный груз и другие орудия пыток, то сам вид его ног после этого – немощные мускулы, дряблая бледная кожа – погрузил его в горькие размышления. Он поднял на доктора скептический взгляд:
– Не очень-то приятно видеть это! Ты думаешь, я смогу когда-нибудь на них передвигаться?
– Во-первых, все отлично! Швы зажили превосходно! Во-вторых, все выглядит так, что можно с уверенностью сказать: серебряные пластины, которые поддерживают твои кости, прижились. В-третьих, мы собираемся заново научить тебя ходить, и мы заставим тебя это сделать – мадемуазель Леусуа и я. Чтобы облегчить тебе это, определенные упражнения и массаж будут весьма полезны. Разумеется, дебют никогда не бывает приятным. Потантен, не могли бы вы мне помочь, нам нужно его поднять!
Первые шаги Гийом сделал, опираясь на их надежные плечи, но, как и говорил доктор, это было более, чем неприятно. Еще более неприятно стало тогда, когда под мышки ему подставили костыли. Гийом с ненавистью смотрел на свои огромные ноги, как будто это были части тела, принадлежащие не ему, а кому-то другому, поэтому, вернувшись в свою кровать, он испытал облегчение, даже блаженство.
– Да, не блестяще!
– Ты находишь? Неблагодарный! Тебе надо бы пасть на колени передо мной за то, что я спас твои ноги!– И я бы этого хотел, – простонал Гийом.
– Не делай такую мину! – рассмеялся Аннеброн. – Тебе неслыханно повезло: ты умеешь восстанавливать свои кости, как рак – свои клешни! Это природный дар!
– Ты думаешь? Но я, вероятно, останусь хромым, не так ли?
– Совсем чуть-чуть! На левом сапоге сделать каблук повыше, и никто ничего не заметит…
– Я не люблю жульничать.
– Тогда– трость! Это делает походку величественной! Короче говоря, Гийом, ты будешь ходить почти как обычно. Тебе, наверное, будет трудно бегать, и во время дождя ты будешь испытывать ноющую боль, но…
– Что «но»? – сквозь зубы процедил Гийом. – Что там еще может быть?
Доктор продолжил незаконченную мысль:
– Но если под тобой будет лошадь, ты быстро забудешь об этих маленьких неудобствах…
Лицо больного вспыхнуло, словно луч солнца внезапно озарил его:
– Надо было сразу об этом сказать, скотина!.. Слава тебе, Господи! И тебе – слава, Пьер Аннеброн! Ты – великий человек и лучший друг, особенно для искалеченного вроде меня!
Поглощенный нахлынувшей на него радостью, он не заметил, что Пьер изменился в лице. Удовлетворение достигнутым успехом в таком сложном случае, опьянение победой заставили его позабыть на время о том, что он больше не имеет права на такое высокое звание, как друг. Назвав его так, Тремэн вернул его снова к печальной действительности.
– Я здесь для того, чтобы лечить твои ноги, – сказал он сурово.– Было бы нехорошо, если бы я обманул в этом твои ожидания!.. А теперь я проведу еще кое-какое необходимое лечение и поеду.
– Как? Ты не пообедаешь с нами? Нам нужно отпраздновать победу!
– Нет, к сожалению! Мне нужно отправиться в Эгремон.
Там – серьезный больной. А ты как больной больше меня не интересуешь…
В течение всего времени, пока Аннеброн был занят с Гийомом, он ни разу не посмотрел на Агнес, стоявшую у камина, прислонившись к нему спиной. Закончив накладывать мазь и перебинтовав, но уже не так туго, искалеченные ноги пациента, Аннеброн попрощался с молодой женщиной, по-прежнему не глядя ей в глаза, еле слышно простился с Гийомом и вышел из библиотеки, сопровождаемый Потантеном. Паркет гостиной заскрипел под его шагами.
– Какой странный человек, – заметил Тремэн. – Бывают моменты, когда я спрашиваю себя: он доволен или огорчен тем, что так хорошо вылечил меня? – Да, он выглядит довольно странно. Может быть, он и сам об этом не задумывался? – предположила Агнес. – Может быть! В любом случае, теперь моя очередь доказать ему, что он не зря поработал…
Однажды ночью Гийом вытащил и положил себе на колени миниатюрный письменный набор, купленный Потантеном в Валони. Он достал маленький ключик, открыл крышку набора и вытащил оттуда лист бумаги, новое остро заточенное перо и, написав в уголке дату, стал записывать. В наборе уже лежали две-три тетради под заголовком: «Ежедневные записки Гийома Тремэна». С тех пор как он вернулся домой, хозяин Тринадцати Ветров начал вести своего рода дневник, в котором описывал текущие дела, свои планы, принятые решения, сопровождая их некоторыми комментариями. Некий судовой журнал, где, впрочем, находилось место для описания милых шалостей его детей и событий, происходящих в доме. О себе самом – совсем немного, разве что короткая справка о состоянии здоровья. И ни слова о своих отношениях с женой. И еще меньше о том, что касалось Мари-Дус. История их любви записана в их памяти, так же как и в сердцах: она принадлежит только им двоим.
Заметив, что уже наступает утро, Гийом, откинувшись на подушки, надолго задумался, сидя неподвижно и прислушиваясь к новым ощущениям своего тела, которое стало легче, чем накануне, но казалось еще неуютным, чужим. За долгое время вынужденного бездействия оно уже привыкло к инертности, почти такой же, как у камня, и вновь обретенная возможность двигаться заставляла кровь, а возможно, и нервы, напоминать о себе мучительным образом. Заново привыкать к нормальному образу жизни – эта идея была великолепной! Но Тремэн прекрасно осознавал, что без надежды увидеть когда-нибудь ту, которую он любил, его состояние было бы хуже. Давая обещание жене, он действовал так потому, что прощался со своей молодостью и вступал в пору зрелости, оставляя на будущее то, чем следовало заниматься…
Полусгоревшее полено вспыхнуло в камине и рассыпалось дождем искр. Гийом раздраженно вытер с щеки неуместную слезу и закрыл глаза. Но не для того, чтобы заснуть, – сон не приходил к нему в эту ночь, – а для того, чтобы лучше почувствовать ощутимую плотность мышц, живой бег крови, биение сердца и тяжесть своего тела, а также прочность камней, из которых был выстроен его дом… К утру он, однако, заснул.
Не без опасений, но довольно решительно Гийом перешел после пробуждения к тому, что он назвал «восстановлением». Первое, с чего необходимо было начать, – это одевание. Он больше не мог переносить домашний халат, поэтому с радостью взял в руки полотняную куртку на фасон плантаторской одежды, которую предпочитал всем другим. Наступали жаркие дни, и это было оправданно. Одевшись, он заново приступил к внимательному осмотру своих нижних конечностей. Самое сложное было побороть ощущение, что он больше не имеет возможности им доверять и что они теперь слишком слабы, чтобы выдержать вес его тела.
– У меня такое впечатление, что у меня ватные ноги, – доверился он Потантену. – Мне все время кажется, что они вот-вот подо мной подогнутся…
В первый же раз выйдя на улицу, Гийом прямиком направился к конюшне. Заранее предупрежденный Потантеном Дате ожидал его там во всеоружии. Панели из навощенного дуба в прекрасных стойлах, седла и уздечки никогда так не блестели. Лошади были вычищены наилучшим образом, их гривы расчесаны, а песок в манеже казался нежным, как бархат. Все двери были распахнуты, за исключением той, за которой раньше было место Али. Конь благородных кровей, он заслуживал и отдельной могилы, но вместо этого на задвижке двери был прикреплен букет цветов, перевязанный черной лентой. Растроганный, Тремэн обнял Дагэ, который плакал, не пытаясь скрыть свои чувства. Потом он приступил к осмотру лошадей: в его просторной конюшне было около дюжины животных, а среди них и тягловые, и верховые лошади. Гийом останавливался ненадолго около каждой, называл ее по имени, похлопывал по шелковистой коже и щедро угощал кусочком сахара и горбушкой хлеба – следовало отпраздновать возвращение хозяина. Однако у стойла, где стоял молодой конь темной масти, он задержался подольше: это был Сахиб, сын Али, который появился на свет в день крещения Адама. Гийом восхищенно смотрел на него несколько минут. Он был очень похож на своего отца, от которого унаследовал грациозность, огненный взгляд и надменность.
– Я думаю, мы только друг друга и дожидаемся, – заключил Гийом, повернувшись к главному конюху. – Он все больше и больше мне нравится…
– Я с вами согласен, хозяин. Он, конечно, лучший из всех. Но все-таки я не советую вам сразу на него садиться: он еще упрямится. Чтобы вам встать на ноги, возьмите лучше Цезаря, который хорошо вас знает. Лучше не торопиться, чтоб не наделать глупостей.