Текст книги "Дом на болотах"
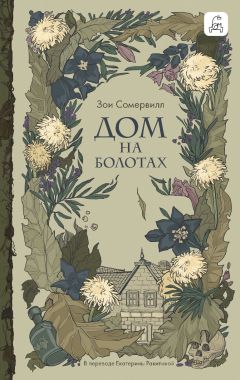
Автор книги: Зои Сомервилл
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Они поженились на скорую руку в регистрационной конторе Мэрилебон, из гостей были только Клем и приятель Тони Себ. В качестве свадебного платья Клем отдала ей одно из своих, длинное, горчично-желтое, которое уже относила один сезон. Не белое. Как можно, в ее-то положении? Все это казалось ей приключением, бунтом. Она написала родителям, сообщила, и все. Все случилось так быстро, что не было времени подумать, – Тони был обещанием жизни, которой, как ей казалось, она хотела, роскошной и свободной. После свадьбы выпивали в грязноватом баре, но ее мутило, и она рано ушла. Тони ввалился на следующее утро, упал с ней рядом и уснул, от него несло бренди и сигаретами. Ее затошнило. Она ощутила, как желудок подкатил к горлу, и метнулась в ванную. Осела на линолеум и смотрела, как стекает по стенкам унитаза вода. На пальце у нее было дешевое кольцо, временное, как сказал Тони. И это ее жизнь.
Теперь у нее кольцо классом повыше. Не фамильная драгоценность, как он ей обещал (она предполагала, что его сестра закатила из-за этого скандал), но крупный брильянт в золоте с Бонд-стрит. Мэлори подняла брильянт к слабому свету, чтобы тот засверкал в полутемной спальне.
Его родители ее явно не одобрили – они были из простого района, – но она старалась об этом не думать. Отчасти все и было так здорово именно потому, что они оба порвали с тем, как их воспитывали, разве нет? Ее родители встречались с Тони всего пару раз. Мать перед ним заискивала, на нее произвели впечатление его машина, одежда, его четкий выговор. Отец про себя не одобрял, называл его «показушником». И, хотя она уговаривала себя, что это не имеет значения и теперь ее семья – это Тони, было обидно. Она перестала им звонить, не могла вынести его разочарование. Когда появилась Фрэнни, отец уже умер, свалился в своем обожаемом саду с сердечным приступом. Он так и не простил ей Тони. Это было хуже всего – унижение от сознания своей ошибки. Он с самого начала был прав насчет Тони.
В ту жуткую ночь в Лондоне, перед своим уходом, он показал свое истинное лицо. И она тоже. Он назвал ее сукой. А она что сделала? Дала ему пощечину? Выругалась? Орала, кричала? Нет. Она плакала, разваливалась на куски, не могла себя защитить.
– Не начинай, – сказал он.
– Не можешь же ты меня бросить, – сказала она.
Он не ответил, просто взял шляпу и ушел. Ей было так стыдно, словно на ней позорный колпак.
Снаружи ухнула сова, и Мэлори пришлось поджать ноги от сквозняка. Окно было непроглядно-черным. Снаружи, в темноте, могло таиться что угодно. Их все видят, их всего двое, они застряли здесь в одиночестве, и из защитников у них только маленькая собачка. Бога ради, там никого нет, строго сказала себе Мэлори и вернулась к книжке.
Она начала думать, что на этих страницах не найдется ничего, что объясняло бы, почему мать дала ей фотографию этого дома. Но потребность читать пересиливала все. Она с треском раскрыла вторую книжку. Та была исписана, как и первая, тем же наклонным неразборчивым почерком.
Вторая записная книжка
15
Думаю, эту часть своей истории я буду писать с удовольствием. Она напомнит мне, что когда-то я была совсем другим человеком, и, хотя теперь я обитаю в месте, похожем на замок с мерлонами и башнями, есть другое, схожее с ним, далеко на побережье Норфолка – однажды оно казалось сказочным дворцом.
Мы с отцом шли в Усадьбу под большим зонтом. Дождь кончился, но серое небо темнело и висело низко. Дорогой мы не говорили, но мне было все равно. Темные деревья, раскачивавшиеся на ветру, казалось, торопили нас, и я убежала так далеко вперед, что отец сокрушался, что я потеряю шляпку.
Дом освещали тысячи свечей в канделябрах и сияющие электрические огни, из гостиной доносилась веселая танцевальная музыка. Их дворецкий (они привезли слуг из Лондона) забрал мое старое черное бархатное пальто, которое мне было уже сильно мало. Я сразу же почувствовала себя глупо, потому что единственным моим нарядным платьем было то, что отдала Хильди, темно-синее шерстяное с отложным воротником, но оно на мне не смотрелось. На Хильди, думала я, оно бы выглядело шикарно, в интеллектуальном, «синечулочном» стиле, дополненное одной из ее маленьких шляпок, но меня оно превращало в неуклюжего ребенкапереростка. Дома, на болоте, оно казалось нарядным, даже элегантным, но здесь стало видно, что оно никуда не годится.
Хильди стояла в углу комнаты в длинном шелковистом платье кремового цвета, с ней флиртовал мужчина средних лет с роскошными усами и редеющими волосами. Вид у нее был скучающий и блестящий. Как всегда. Я помахала, она шевельнула пальцами в мою сторону и подняла и без того сильно изогнутые брови еще выше.
– Дорогая, выглядишь изумительно, – сказала она совершенно неубедительно. – Извините, Джеральд, я должна снабдить это бедное дитя напитком.
Она освободилась от мокрогубого усатого мужчины и, взяв меня за локоть, повела к одному из одетых в смокинг официантов, которых они, наверное, наняли в помощь своим слугам (где они их нашли? В Норфолке?! Я в жизни ничего подобного не видела), и взяла у него два бокала шампанского. Я раньше не пила шампанское – чуть не захлебнулась, пузыри пошли носом, – но вкус мне скорее понравился, и скоро оно кончилось.
– Господи, – вздохнула Хильди, – какой же он утомительный. Говорит только о своих лошадях.
– Кажется, ты ему нравишься, – сказала я.
– Он в меня влюблен, всегда был, – ответила она. – Бедный Джеральд!
Потом она взглянула на меня, как будто только что увидела.
– Ты в этом платье похожа на школьницу, которую отпустили на день, – сказала она, глядя на меня свысока.
– Оно твое.
– Я знаю, глупенькая. И понимаю, что нужно было дать тебе что-нибудь более подходящее для вечера.
– Кто все эти люди? – спросила я, окидывая взглядом комнату, мужчин в смокингах и женщин в платьях с открытыми спинами.
Папины лондонские друзья. Есть военные, есть политики. Вот этот, – она указала на противоположный конец комнаты, – женат на Диане Митфорд. Она самодовольная и старая, но ее считают редкой красавицей. Ты наверняка о ней слышала. Митфорды все такие бездельники. Гиннесс скучный, но ужасно богат. Я слышала, она влюблена в кого-то другого, но никто не знает в кого. Ужасно романтично.
Я посмотрела по сторонам на безупречно вылепленные головы, попыталась найти красавицу. Была одна женщина с золотыми волосами и поразительными синими глазами, царившая над всеми, но Хильди уже перешла дальше.
– Вон та, – говорила она, указывая на видную женщину в зеленой шляпке-клош, – была знаменитой суфражисткой.
В углу комнаты кто-то играл на арфе. Разносили канапе, и я попробовала все до единого. Копченый лосось, фаршированные яйца и помидоры, я съела все.
– Боже, Рози, тебя что, не кормят? – сказала Хильди. – Прожорливый ты поросенок.
– Хрю-хрю, – ответила я, угощаясь тостом с куриной печенью.
Я не хотела ей говорить, что никогда в жизни не ела ничего подобного. Дома у нас готовили только жирные пироги и вареные овощи.
– Все это время я не сводила глаз с Фрэнклина, но он стоял рядом с отцом, и с ним бесконечно кто-то разговаривал. Вряд ли я могла к нему подобраться. Боже, – внезапно произнесла Хильди, понизив голос до шепота, – бежим, это мама.
И правда, по комнате плыла стройная леди Лафферти. Бежать было некуда.
– Милые, – сказала леди Лафферти, – как вы тут?
– Чудно, мама, – понуро ответила Хильди.
– А ты, Розмари, дорогая, у тебя все хорошо? Боюсь, кому-то, кто не привык к подобным вещам, это скромное собрание может показаться претенциозным.
– Мне все нравится, спасибо, – сказала я самым вежливым тоном.
– Я заметила, что мы не часто видим тебя в церкви, дорогая.
– Мама!
Леди Лафферти выпрямилась, но сохранила на изысканном лице терпеливую улыбку.
– Мой отец не очень расположен к священнику.
– Полковник тоже, Розмари, но Господь предпочел бы видеть тебя в церкви, несмотря ни на что.
– Да, леди Лафферти, – сказала я в то же время, как Хильди произнесла:
– Не думаю, что у Господа есть мнение по этому поводу, мама.
– Хильда Мэй, – сурово оборвала ее мать, бросив на меня жалостливый взгляд.
Она прикоснулась длинными пальцами к моей щеке, оценивая меня, так же как Фрэнклин в тот день на пляже, и я поняла, что прежде на меня никто толком не смотрел и не прикасался ко мне, как они.
– Розмари, дорогая, у тебя такое прекрасное имя, как название целебной травы. И ты такая искренняя. Не позволяй моей дочери тебя изменить, дорогая.
И она оставила нас, погладив меня по голове. К нам подошла устрашающего вида женщина.
– Что вы думаете о положении с безработицей?
Я уставилась на нее. Она была высокая, с иссиня-черными стрижеными волосами, в строгом, шикарном костюме, а на лацкане жакета у нее красовалась брошь в виде скорпиона.
– Не знаю, – сказала я.
– Нет, конечно, нет, – отозвалась она, – вы еще совсем дитя.
– Но такое милое, – насмешливо сказала Хильди и ущипнула меня за щеку.
Мне начинало казаться, что все решили надо мной подшутить, но в чем шутка, понять не могла. Эти люди были всем, о чем я мечтала в своей жизни, но они каким-то образом понимали, что я не одна из них. Я была диковинкой.
Мой бокал все наполнялся и наполнялся шампанским, а живот – пузырьками. Хильди смеялась над одной из пожилых дам, решительно задиравшей нос, – она явно считала себя очень важной персоной. Я начала уставать и хотела присесть, но потом возле меня, как кролик из шляпы фокусника, появился Фрэнк.
– Осторожней, Рози, ты напилась. Почему бы тебе не пойти со мной, пока кто-нибудь не заметил?
Он взял меня за руку, и его прикосновение было похоже на раскаленное клеймо.
– Со мной все хорошо! – сказала я, но у меня кружилась голова.
Я увидела, как Фрэнк с сестрой переглянулись, и попыталась высвободить руку, но он крепко ухватил меня за локоть и повел из гостиной по длинному коридору в оранжерею в глубине дома, где росли десятки экзотических папоротников и кактусов. Я повалилась в плетеное кресло.
– Ты злой, – сказала я, но была рада, что он меня оттуда увел.
Он закурил, встал надо мной.
– Ты просто перебрала, вот и все. Нельзя же, чтобы ты ставила отца в неловкое положение. Не при всех этих скучных стариках.
– Ты вроде бы не скучал.
– Я просто играл роль, Рози. Ты к этому не привыкла. – Он сел рядом со мной, положил руку мне на ногу и принялся ее гладить. – Поэтому ты мне и нравишься. Ты неиспорченная.
– Правда? – спросила я.
Я сознавала, что у меня срывается голос. Он был так близко. От него сильно пахло одеколоном, какой, как мне казалось, должны носить аравийские принцы. Я подозревала, что он слышит, как у меня колотится сердце, оно так билось, что было больно.
– Сейчас да, правда, – сказал он. – Сейчас ты именно такая, какой должна быть.
Он поднял руку, провел по моим косам, которые в кои-то веки были уложены на голове, потом сорвал оранжерейную лилию, росшую в горшке, и воткнул ее мне в волосы.
Я не вполне понимала, что он имеет в виду. Меня-то совсем не радовало, какая я. Я хотела быть такой, как Хильди, знать жизнь, путешествовать, как Лафферти, по всему миру без сомнений и страха. Но рядом со мной был красивый, безупречно уверенный в себе мальчик – уже мужчина, ему исполнилось восемнадцать, – и я ему нравилась, я. Я закрыла глаза, дожидаясь, чтобы он меня поцеловал, и он, разумеется, поцеловал – совсем легко, словно коснулся шкуркой персика. И на мгновение там, в этом огромном старом доме, где за стеной шла вечеринка, я стала счастливее, чем когда-либо в жизни. Не думаю, что я в тот восхитительный миг понимала, что проведу остаток зимы, страдая по Фрэнку.
16
Должна предупредить, эта часть рассказа может показаться вульгарной, даже шокирующей. Я не нарочно. Это может прозвучать высокопарно, но я чувствую, что мой долг – рассказать правду. В таких местах это случается. Чтение будет странное, даже неприятное, но, надеюсь, ты дочитаешь.
Фрэнклина я снова увидела не раньше, чем появились подснежники.
В день, когда приехали Лафферти, Джейни увидела, как я бегу по дорожке, и крикнула:
– Ты, я погляжу, всем довольна, Роза.
– Они вернулись, – сказала я, – Лафферти вернулись.
И тут, казалось, вся тропинка распустилась и ожила, и птицы хором запели только для меня.
– Она нахмурилась. Ты береги себя, детка, – сказала она. Я остановилась, уперлась руками в бока.
– Я не ребенок, Джейни.
– И да, и нет. Вот то-то меня и пугает.
Я крепко ее обняла и прижалась к ней, вдохнула ее особенный запах: болотная грязь, соль и отвар шиповника.
Зимой они много недель не приезжали в Норфолк, и я совсем впала в уныние. Отцу я надоела до крайности, он сказал, что мне придется отправиться в школу, если я не перестану дуться. Я знала, что это пустые угрозы. Печатный станок почти не приносил денег, если верить ворчанию Фейрбразер. Я не получила ни одного письма от Фрэнка, только от Хильди, она рассказывала о представлениях, которые видела, о людях, с которыми встречалась, о вечеринках, на которые ходила. Письма были усыпаны именами, как сверкающими драгоценностями: художник Огастес Джон, Гарольд Николсон, величественная леди Астор, блистательные сестры Митфорд, особенно Диана Митфорд, теперь Гиннесс, шокировавшая всех тем, что стала любовницей Освальда Мосли. Год назад я знать не знала, кто эти люди, они ничего для меня не значили, но благодаря письмам Хильди они стали казаться кем-то вроде персонажей из книжки с картинками, нарисованных ярко и броско. Я начала понимать, что Хильди, у которой не было титула, презирала это общество и смеялась над ним, но в то же время стремилась стать одной из них. Она вскользь упоминала Фрэнклина, но они, судя по всему, не могли приехать, потому что с «новой партией Освальда» все «с ума посходили». Я не понимала, почему это означает, что они не могут приехать в Норфолк.
Но когда они наконец вернулись в Старую Усадьбу, все стало как прежде. Мы все время проводили вместе, Хильди, Фрэнк и я, заводили музыку на их граммофоне: веселые песни, джаз и медленные мелодии, записи из Америки; у певцов были имена вроде Оззи, и Луис, и Скип, и голоса, истекавшие патокой и медом. Фрэнк кружил меня по гостиной, так что, полузакрыв глаза, я чувствовала себя одной из ярких женщин, прекрасных, вечно танцующих, смеющихся и радостных. Когда их не было, я подолгу гуляла, замерзая, на болотах, представляя, как придет лето, которое будет еще более блестящим воплощением прошлого. Я слышала музыку в птичьем пении вокруг меня – оркестр играл в воздухе и струился сквозь тростник на болотах. Я мурлыкала слова, которые смутно помнила: мечтай обо мне… милый и чудный… миска вишни. Я чувствовала, что приходит весна, чувствовала кожей и сердцем. Мне было почти шестнадцать, и я ощущала, как во мне расцветает из глубины жизнь, открывается навстречу солнцу.
Как-то в субботу утром Хильди с матерью уехали повидать подругу, которая жила возле Кингс-Линн, – виконтессу, ни больше ни меньше. Фрэнк сказал мне, что сочинил что-то про охоту и ему позволили не ехать. Полковник в тот раз остался в Лондоне. Судя по всему, он был нужен мистеру Мосли, чтобы организовать митинги партии. Я все это знала, потому что Фрэнк тут же примчался в Дом на Болотах на велосипеде и позвонил в дверь. Я потом радовалась, что сама открыла ему, хотя должна была бы понимать, что такой, как Фрэнк, придумал бы какой-нибудь предлог.
– Фрэнк? Ты почему здесь? – спросила я, но он ухватил меня и захлопнул за собой дверь, сказав: «Тс-с».
– Твой отец дома? – спросил он, но я его заверила, что отец в печатне в Кромере и вернется только последним поездом.
С того лета с Лафферти отец встречался по всей стране с разными политиками. Каждый раз, возвращаясь домой, он говорил мне, что встреча прошла «весьма благоприятно», но я очень смутно представляла себе, кто все эти люди и почему он с ними встречается, просто знала, что они имеют какое-то отношение к отцу Фрэнка, полковнику, и не любят ужасных Рэмзи Макдональда и Стэнли Болдуина. Еще я знала, что это как-то связано с людьми, которых мы видели осенью на званом ужине в Усадьбе, – лондонцами в красивых костюмах – и новой партией мистера Мосли. Я предполагала, что отец надеялся получить от них какие-то деньги. Он говорил, что в них будущее нашей страны.
Тут Фрэнк расслабился, и мы приятно провели час за чаепитием и болтовней. Он рассказывал мне последние новости из Лондона, рассказывал про фильм по оперетте Ноэла Кауарда «Горечь и сладость», который, как он заявил, в подметки не годился оригиналу, про другие фарсы и мюзиклы, которые смотрел, и про всякие мелочи лондонской жизни. Все это казалось очень далеким и роскошным, но я почти все забыла, потому что, когда дело шло к полудню, Фрэнк сообщил, что умирает с голоду. Мы собрали в кухне все для пикника и отправились на болота.
– Я в настроении взглянуть в небеса, крошка Рози, – сказал он, прикладывая руки к моим щекам, так что у меня зазвенело в голове.
– Я не крошка, – ответила я пресекающимся голосом.
Он взглянул на меня сверху вниз.
Нет, – сказал он. – Ты становишься совсем взрослой. Мы ушли из пустого дома, вслед нам смотрели только окна, двинулись по Грин-Уэй в сторону болот. Он держал меня под руку. Я все время росла и «округлялась», как неодобрительно говорила Фейрбразер, хмуро глядя на мою натянувшуюся блузку. Я осознавала каждое движение своего тела, когда шла рядом с Фрэнком. Голова моя доходила ему до плеча, он легко придерживал меня за руку. Когда мы дошли до болота, он взял меня за руку в перчатке, подтянул к краю и стал расстегивать ботинки.
– И ты тоже, – сказал он, улыбаясь.
– Но мы же замерзнем, Фрэнк, – ответила я.
– Ты же не трусиха, Рози? – сказал он, с вызовом глядя на меня.
Я могла только подчиниться. И вот, пожалуйста, мы запихали чулки в ботинки и шагнули в холодную хлюпающую болотную грязь. Он увел меня далеко вдоль ручья, туда, где был кусочек суши. Его укрывали заросли болотной травы, за которой можно было спрятаться так, что никто не увидит. Мы пробежали по песчаному холмику и со смехом упали на той стороне. Вышло солнце, было почти тепло – как в первый день весны. И я удивилась, хотя не имела на это права, когда он сразу же притянул меня к себе и стал целовать, по-настоящему, в губы. Он не впервые меня целовал, но в этот раз все было по-другому. Наши ступни покрывала сохнущая грязь, наши голые ноги переплелись, я почувствовала, как под брюками у него набухает, и гадала, что мне делать. Он все трогал меня за выросшую грудь, водил пальцами, вжимался туда головой и издавал стонущие звуки. Потом он сунул руку в брюки, и, казалось, его охватил какой-то спастический припадок, пока наконец он не закинул голову и не завыл в ясное голубое небо у нас над головами. Все это время он одной рукой держал меня за талию, крепко впиваясь мне в ребра. Он упал на дюну, тяжело дыша, с красным лицом, в каком-то непонятном восторге.
Какое-то время мы молчали, просто лежали на спине, глядя в небо, и я ждала, что он сделает. Я надеялась, что не снова то же самое, но мне хотелось, чтобы что-то произошло. Нам так мало рассказывали и я так недолго училась в школе, что только смутно понимала, что он делал, – я знала, что это как-то связано с желанием, но в то же время это было что-то совершенно из другого мира. Я начала замерзать, но мне не хотелось нарушать это чувство – что мы с Фрэнком одни в целом мире. Он придвинул голову ко мне и зашептал мне на ухо, так что стало щекотно:
– Ты меня любишь, Рози?
– Да, – ответила я, едва дыша. Хорошо, – сказал он, – потому что я не знаю, сколько еще смогу это вытерпеть. Милая малышка Рози-Валентина. – И снова меня поцеловал, на этот раз медленно, ощупывая языком все изгибы моего рта.
Больше ничего не было, но, когда мы брели обратно вдоль ручья и грязь холодила мне ступни, а по ногам поднимались мурашки, я чувствовала, что жива, вся без остатка. В мире были только мы двое, Фрэнк и я.
В конце марта, в день, полный текучих облаков и внезапного солнца, Фрэнк остался в Усадьбе один. Леди Лафферти, как обычно, ушла в церковь, полковник отправился на прогулку верхом, а Хильди уехала кататься на машине с настойчивым Джеральдом.
Когда я шла в тот день, живот и пах мне кололи серебряные иголочки желания. Прислугу тоже отпустили на выходные – в доме были только Фрэнк и кухарка, но она спала в кухне. Он ел апельсин, когда открыл дверь, – его запах вошел в мое тело, как какое-то сладкое вино. Фрэнк оторвал дольку и поднес ее к моим губам. Я открыла рот, чувствуя себя глупо, как птенец, которого кормит мать, и Фрэнк сунул ее внутрь. По моему подбородку потек сок, я поморщилась от кислоты. Фрэнк рассмеялся:
Готов поспорить, ты нечасто их ешь, да? Я покачала головой, не в силах ничего сказать: рот у меня был полон апельсина.
Джейни как-то мне сказала, что, если мужчина хочет девушку, он должен взять апельсин, наколоть кожуру иголкой и проспать ночь, держа его под мышкой. На следующий день он должен сделать так, чтобы девушка, которую он любит, съела апельсин. Помню, я подумала, что звучит это совершенно ужасно, но, стоя в огромном вестибюле Старой Усадьбы, не могла не вспомнить это из-за апельсина во рту и не представить, как его зачарованный сок стекает мне внутрь, заставляя меня любить Фрэнка.
Он взял меня за руку, и я пошла за ним по главной лестнице. Я прежде была только в комнате Хильди, у Фрэнка никогда, но я знала, куда мы идем. Я точно не знала зачем, знала только, что он мне уже не первую неделю повторял, что наша любовь (наша любовь!) естественна и любое ее выражение тоже естественно. Я не была настолько наивна, чтобы не знать, чем мужчины и женщины занимаются в супружеских постелях. Я знала, как делают детей, – сам священник об этом говорил. Но до тех пор я не совсем понимала, что имел в виду Фрэнк.
Когда все произошло – это длилось недолго, – было больно, у меня пошла кровь. Фрэнк с отвращением посмотрел на красные пятна на простыне, и из-за этого глаза мои наполнились слезами. Он обнял меня, сказал, чтобы я перестала плакать, и вытер мне глаза белым краем простыни. Но потом сказал, что мне лучше быстренько привести себя в порядок, и, когда я, взяв белье, вышла из комнаты, собрал постель и скатал ее комком, словно не мог вынести вида моей крови. Наверху у них была огромная ванная, которую велел оборудовать полковник, я всегда считала ее роскошной, но в тот день там гуляли сквозняки. Я села на унитаз, и внизу так защипало, что у меня опять полились слезы, но я вытерла их, вытерлась сама, там, внизу, было липко и больно. Вся комната, с этими медными кранами, гнутыми ножками ванны и шторами в оборках, казалось, упрекала меня за чудовищность моего тела, ей были отвратительны все эти телесные дела, эта нелепость.
Когда я вернулась в комнату Фрэнка, он жизнерадостно курил на кровати, откинувшись на подушки.
– Иди сюда, милая Рози, – сказал он, раскрывая объятия, и мне так нужно было утешение, что я пошла.
Я свернулась под его рукой, он погладил меня по голове. Мне хотелось что-нибудь сказать, попросить его больше так не делать, но он поцеловал меня в голову.
Ну вот, было не так и плохо, правда? Теперь ты моя девочка. Несмотря на боль в паху, мне стало так хорошо оттого, что он это сказал. Я была кому-то нужна. Я была чьей-то.
Дома я укуталась, положив в постель грелку, стала слушать, как скребутся на чердаке надо мной крысы, и разрешила Уте угнездиться со мной на кровати. Я не знала, что думать. После всего, увидев мои красные глаза, Фрэнк сказал, что мне начнет нравиться, когда я привыкну, но тогда мне не понравилось, мне совсем не понравилось, и я жалела, что рядом нет матери, чтобы что-то мне посоветовать. Но я хотела Фрэнка больше всего на свете, и это было важнее, чем любое неудобство, какое я могла ощущать. В голове у меня играли слова песни, песни, которую мы крутили всю весну. «Телом и душой я сдаюсь». Наверное, думала я, это и делают ради любви. Сдаются.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































