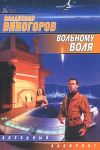Текст книги "Любожид"

Автор книги: Эдуард Тополь
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Эдуард Тополь
Любожид
И ныне у меня столько же силы, сколько было тогда, чтобы воевать и выходить и входить…
Иисус Навин, 14, II
Еврейство, как таковое, есть сила, которая требует себе подчинения и фактически его добивается в самых разнообразных положениях, и слабейшие среди других народов этому не в силах противодействовать.
Протоиерей Сергий Булгаков
Заметьте, я вовсе не хочу сказать, что быть евреем – такая уж удача. В конце концов, у евреев тоже есть проблемы…
Ромен Гари
Пролог
Была темная осенняя ночь 1978 года от Рождества Христова и канун 61-й годовщины рождения коммунистического колосса по имени СССР. Поезд-экспресс «Москва – Вена – Париж» шел к западной границе Советской империи. Пять часов назад он покинул Москву, столицу метрополии, и на следующий день прибывал в пограничный город Брест. Там пассажиры-иностранцы предъявляли паспорта таможенникам и после беглой проверки багажа могли, не покидая своих мест, ехать дальше – по вассальным подсоветским Польше и Чехословакии в еще свободную от коммунистов Австрию. Кроме иностранцев, такой же привилегией свободного проезда через границу обладали советские дипломаты, а также армейские офицеры и генералы, которые возвращались из отпуска в кремлевские дивизии, расквартированные в Венгрии, Германии, Чехословакии и в других европейских странах. Их румяные лица, хозяйский апломб и норковые шубы их жен лучше всего свидетельствовали о том, что за 60 лет коммунисты осуществили тысячелетнюю мечту всех российских князей и императоров – Москва стала не только Третьим Римом, но и превзошла в своем могуществе все имперские столицы, известные человечеству: в ее подчинении было больше ста народов Европы, Азии, Африки и даже Южной Америки. А ее дипломаты и офицеры колесили по всему миру и диктовали ему кремлевские условия выживания. При виде их особых заграничных паспортов даже суровые советские таможенники вытягивались по стойке «смирно» и брали под козырек: «Доброго пути, товарищ!»
Но остальных пассажиров этого ночного экспресса ждала иная, отличная от офицеров и дипломатов участь. Хотя они тоже ехали на Запад, они обязаны были покинуть вагоны, выгрузить из них своих детей, все свои чемоданы и прочую кладь и стать в очередь на таможенный досмотр – изнурительно-придирчивую проверку документов и багажа.
Эта очередь располагалась на привокзальной площади и была гигантской, как цыганский табор.
Однако поезд «Москва – Вена – Париж» не ждал, конечно, своих изначальных, московских пассажиров. Освободившиеся от них вагоны заполнялись теми, кто занял эту очередь несколько дней назад и уже прошел таможенный досмотр. И состав двигался дальше. Очередные 200 или 300 мужчин, женщин и детей переставали быть гражданами великого Советского Союза. За их спинами оставалась толпа завистников в брестской очереди и еще 270 миллионов людей, не имеющих права даже купить билеты на поезда и самолеты, уходящие за границы державы.
Но кто же были те люди, которые покидали империю – с детьми, родителями и несколькими чемоданами ручной клади? Почему те же таможенники, которые были так вежливы с дипломатами и генералами, издевались над этими людьми, оскорбляли их и отбирали у них драгоценности, деньги, картины, музыкальные инструменты, детское питание, лекарства и даже семейные фотографии? И почему, зная, что их ждут эти издевательства, эти люди все равно спешили сюда со всей страны, бросая свои квартиры, работу, мебель и посуду? И почему, когда поезд перевозил их – ограбленных и нищих – через границу, они плакали и танцевали от радости?
Эти люди носили имя маленького кочевого народа, они называли себя «евреи». Впрочем, помимо этого имени у них были и другие – те, которые им придумали другие народы: в России их звали жиды, в Америке – kikes, в Испании – marrams, в Японии – yudaya…
Глава 1
Первый зов
Наукой установлено и является научной истиной исчезновение древнееврейского народа, его полное растворение среди других пародов… Процесс этнического разделения древнееврейского народа закончился полным исчезновением этого народа, растворившегося в массе народов Ближнего Востока, Передней Азии, Африки и Европы.
Евгений Евсеев, «Фашизм под голубой звездой», Москва, 1971
Метафизическая, духовно-плотская полярность напоила мир половым томлением, жаждой соединения… Половая полярность есть основной закон жизни и, может быть, основа мира. Это лучше понимали древние, а мы отвратительно бессильны и вырождаемся все больше и больше.
Николай Бердяев, «Метафизика пола и любви», 1907
Лев Рубинчик был энергичным евреем с провинциальным детдомовским образованием и столичным честолюбием. К сорока годам он имел жену, государственную квартиру, двух детей и репутацию бойкого газетчика, которого под псевдонимом «Лев Рубин» печатали даже крупные московские журналы. Рискованная борьба евреев за эмиграцию обошла его стороной, это был процесс, который зачинали несколько сотен отчаянных сионистов, а Рубинчик не принадлежал к их числу. Да он и не считал себя евреем в полном смысле этого слова – он был атеистом, не знал еврейского языка, укоротил свою фамилию до ее русского звучания и пил водку не хуже любого сибиряка. И вообще он был, как он сам говорил, «допущен к корыту». Это означало, что власти позволили ему – еврею по рождению – получить высшее образование, работу в столичной газете, квартиру из двух комнат (и кухни) и возможность когда-нибудь продвинуться до уровня заместителя главного редактора. Выше – на должность главных редакторов, директоров или управляющих – евреи в СССР, как правило, не поднимались.
Строй, основанный на доктрине немецкого еврея Маркса и при помощи русских евреев Троцкого, Зиновьева, Свердлова и других, унаследовал от царской империи государственный антисемитизм и негласную процентную норму допуска евреев к руководящим постам. При этом антисемитизм рос год от года, а процентная норма снижалась, но…
Не служебная карьера заполняла мечты Рубинчика. Книга! Серьезная, мощная, как он себе говорил, Книга, которая станет вровень с фронтовой журналистикой Хемингуэя, Стейнбека и Гроссмана, – вот что виделось Рубинчику в его честолюбивых снах. Он был уверен, что именно сейчас, к сорока годам, ему по плечу нечто большее, чем газетные статьи и очерки. Но пройдет еще немало времени, пока он найдет тему для этой книги. Будут уезжать через Брест и Чоп десятки знакомых и тысячи незнакомых ему евреев, будут улетать из Шереметьевского аэропорта дальние и близкие приятели, но Рубинчик будет избегать не только их проводов, а даже разговоров об эмиграции.
Так мусульмане избегают входить в православную церковь, и так религиозные евреи не просто избегают свинины, но и разговоров о ней.
Впрочем, в этом отстранении был и другой, более практичный смысл. Ведь каждый, кто общался с уезжающими «отщепенцами» и «предателями Родины», немедленно попадал в категорию «сомнительных», «ненадежных» и «политически неустойчивых». А это означало конец карьеры. Не арест, нет, но постоянную подозрительность начальства, лишение допусков и льгот, а попросту говоря – изгнание от корыта. Из корыта сытой жизни коммунисты позволяли хлебать только абсолютно верноподданным.
Но однажды, ранней весной 1978 года, в жизни Рубинчика случилось событие, надломившее будничное течение его судьбы.
В тот вечер вместе с пьяной компанией приятелей-журналистов, отмечавшей день рождения всеобщего редакционного любимца фотокорреспондента Красильникова, Рубинчик колесил по ночной Москве в поисках водки. По русской традиции хорошей мужской компании всегда не хватает именно одной, последней, бутылки, а в пуритански-регламентированной столице СССР даже так называемые ночные бары закрывались в полночь. Единственным местом продажи спиртного после полуночи был бар в международном аэропорту Шереметьево.
Так в поисках водки Рубинчик и его друзья оказались в Шереметьево, и, пересекая полупустынный в ночное время зал аэровокзала, Рубинчик увидел слева в полутьме странное скопление плохо одетых людей с грудой дешевых фибровых чемоданов, баулов и ящиков. Даже во хмелю Рубинчик с профессиональной наблюдательностью отметил, что такая публика больше свойственна вокзалам глубинки Империи, какому-нибудь Иркутску или Бухаре, а не столичному международному аэропорту. Куда могут лететь эти люди, в какие Парижи?
– Как это куда? – изумилась его приятельница-журналистка. – В Израиль! Это же твои евреи…
Твои евреи! Не столько два этих слова, сколько интонация, с которой они были сказаны, хлестнули Рубинчика, как пощечина. И хотя его и эту журналистку связывали не только служебно-приятельские отношения, но и возбуждающие до озноба флюиды интима и флирта, Рубинчик грубо рванул ее за рукав модной меховой дубленки.
– Что ты сказала?
– А что я сказала? – изумленно струсила она. – Я сказала, что это евреи, которые летят в Израиль…
– Да ладно вам, перестаньте! – И друзья потянули их в глубину зала, к бару.
Но Рубинчик с пьяной резкостью вырвал свое плечо, хлестнул свою приятельницу грязным словом «с-с-сука!» и решительным шагом пошел к «своим евреям». Конечно, в этом еще не было ничего, кроме пьяного позерства перед русской компанией. Но по мере того как он приближался к той сотне людей, сидевших и лежавших на своих вещах и прямо на полу и отгороженных веревкой от остального, цивильного зала, какое-то давнее, напрочь забытое детское видение всплыло в его памяти – рывком, как всплывает из морской глубины мяч, освобожденный из прогнивших сетей.
И Рубинчик протрезвел разом, мгновенно.
Потому что именно так, как раскачивался сейчас в молитве этот седобородый и пейсатый старик с библейскими глазами и в засаленном бухарском халате, точно так раскачивался другой старик – давно, очень давно, в другой жизни. Еще секунду Рубинчик мысленно всматривался в того, из другой жизни, старика, не веря своей памяти и всей картине, которая вдруг возникла и прояснилась в нем, как проясняется изображение на включенном телеэкране. Но еще и до наступления полной резкости Рубинчик памятью сердца узнал старика. Это был его, Рубинчика, дедушка. Всю свою сознательную жизнь Рубинчик безуспешно пытался вспомнить или выяснить хоть что-то из своего додетдомовского детства. Но ему было всего два или три года, когда сумятица эвакуационной неразберихи подхватила его неизвестно где и потащила по детдомам и пересыльным пунктам. И там, в санитарных и пассажирских вагонах, на каких-то переполненных детьми речных баржах, плывущих сквозь пожары, бомбежки и голодуху первого года войны, затерялось все – и документы (если они были), и довоенные воспоминания о семье и родителях. Конечно, как только у Рубинчика появилось редакционное удостоверение, он ринулся искать свое прошлое, пользуясь красной «корочкой» журналиста как паролем «Сезам, откройся!». Но дальше записи 1949 года в архиве саратовского детдома идти ему было некуда, поскольку там значилось:
Данные, записанные со слов ребенка:
Имя – Лев
Имя отца – Михаил (неточно, возможно – Марк, Моисей)
Имя матери – Фира (неточно, возможно – Фрида)
Дата рождения – не помнит (по анатомическим данным – 1938–1939 годы)
Место рождения – не помнит
Сведения о других родственниках – не помнит
Особые приметы: крайняя плоть пениса обрезана, на уровне правого подреберья пигментное пятно величиной с копеечную монету.
Данных о времени поступления в Саратовский детприемник № 42 не имеется.
Когда у Рубинчика появились свои дети, он наблюдал за каждым их шагом не только с естественным трепетом еврейского отца, но и со скрытым интересом исследователя. Он хотел по своим детям определить, в каком возрасте он мог не знать или забыть свой адрес, день рождения, имена родственников. Да и собственная фамилия – так ли прочно она держится в детской памяти? Или Рубинчик – это прозвище, которое кто-то прилепил ему, ребенку, за его еврейский нос?
Но кроме «обрезанной крайней плоти» и пигментного пятна на правом подреберье, у него не было никаких уверенных данных о своем происхождении. И все его детство и юность были отравлены возмущением: почему только за то, что кто-то отрезал ему, младенцу, кусочек плоти, он должен страдать? За что ему, мальчишке, пацаны мазали губы салом? За что его били до крови, звали «жиденком» и «пархатым», не приняли в детдомовскую футбольную команду?
Разве это он распял Христа?
Он не помнил своих родителей, но злился на них – зачем они так наказали его?
И вдруг – эта вспышка памяти в полумраке ночного Шереметьевского аэровокзала. Этот раскачивающийся библейский старик и рядом с ним – фибровые чемоданы. Да! Да! Боже мой, именно такие были тогда чемоданы! И точно так, как вот эта юная, круглолицая, с ямочками на щеках еврейка кормит грудью ребенка, точно так другая – молодая, красивая, родная – кормила тогда грудью кого-то. Господи, задохнулся Рубинчик, мама? Это же его мама – рядом с дедушкой, на чемодане! Но кого она кормит грудью? Его самого? Нет, не может быть! Он старше, он видит эту картину со стороны и снизу – маму на фибровом чемодане, с ребенком у груди, дедушку, раскачивающегося в молитве, а рядом еще какого-то высокого мальчика в серой кепке. Брата?
Задержав дыхание, замерев даже сердцем, Рубинчик стал всматриваться в этот мираж и осторожно расширять экран своей памяти. За раскачивающейся фигурой деда обозначился железнодорожный перрон с людьми, чемоданами, мешками. А над ними – высокое летнее небо с белыми облаками, похожими на летящих слонов, китов и лягушек. А из-за красивого облака-кита неслышно вынырнули два сияющих крыльями самолетика и в стремительном, завораживающем пике стали спускаться – все ближе, ближе, ближе к перрону. Он, ребенок, радостно показал на них рукой, но кто-то – дедушка? мама? – тут же вскрикнул, закричал… А первый и такой красивый самолет уже обронил на перрон свистящую в полете бомбу…
Бомба проломила и взорвала дальний конец платформы. Но дедушка, мама и все остальные погибли не от взрыва этой бомбы и не от ее осколков. Теперь, тридцать семь лет спустя, Рубинчик снова увидел тех, кто уцелел после взрыва, и как их прошила пулеметная очередь второго самолета, который шел сразу за первым. Только дедушка, уже практически мертвый, с окровавленной бородой, успел ползком дотащить его, малыша, до края перрона и столкнуть вниз, под бетонную платформу – за миг до второго пике «мессершмитта»…
Теперь, стоя в двух метрах от этих евреев-эмигрантов, Рубинчик вдруг почувствовал, как внутри него соединились два провода, разорванных временем. На том, утонувшем в прошлом конце провода были сороковые годы, дедушка, мама с младенцем, старший брат в серой кепке и толпа беженцев под огнем «мессершмитта». А на этом – евреи-эмигранты 1978 года с такими же фибровыми чемоданами и с той же, наверно, молитвой в устах старого бухарского еврея…
И мощная искра как судорога прошла по сознанию Льва Рубинчика. Он еще не знал, что это за искра, он еще не понял всего, что случилось с ним в эту минуту, потому что уже вернулись к нему его приятели с двумя бутылками водки и бутылкой шампанского и именинник Вовка Красильщиков обнял его за плечи и повел к машине.
Но и уходя с друзьями, Рубинчик все оглядывался на этот, в полумраке вокзала, еврейский табор, так похожий на роковой перрон его детства.
* * *
Через два дня, среди ночи, Рубинчик проснулся от того, что во сне увидел свою Книгу. Седобородый старик, сразу похожий и на бухарского еврея с библейскими глазами, и на его, Рубинчика, дедушку, и на еще кого-то, неузнаваемого, держал в руках его будущую Книгу, листал ее, и Рубинчик даже во сне отчетливо ощутил все, что в этой книге было – будет! – написано.
Он проснулся и в ужасе подумал: «Как же я напишу эту Книгу, если я не уеду?» Даже думать об эмиграции нелепо – кому на Западе нужен журналист, не знающий никакого языка, кроме русского! А жена? Дочь ракетостроителя и в тридцать три года уже и.о. профессора Московской консерватории – да в ней еще меньше еврейства, чем в нем! Но даже если бы Неля и захотела эмигрировать, ее отец не выпустит их, не подпишет ей «разрешение оставить родителей» – иначе он тут же потеряет работу, все свои престижные регалии и должности! Нет, ни о какой эмиграции не может быть и речи! Не говоря уже о Танечке в Новосибирске с ее такой большой и теплой грудью, Катюше в Ижевске, Зое в Дудинке и Вареньке из Мытищинского городского суда – Вареньке, с которой, кажется, все приближается к сладостному роману. У себя в редакции и вообще в Москве Рубинчик не заводил романов, однако, стоило ему выехать в очередную командировку, стоило только сесть в самолет, как в нем просыпался какой-то мистический, хищный, веселый и мощный азарт охотника. Но не на всякую дичь, нет. В нем не было той всеядности и готовности трахнуть первую попавшуюся бабу, как это свойственно почти всем мужьям, вырвавшимся из постели пусть даже любимой, но уже такой знакомой жены. Ему не нужна была любая свежатина, и вообще дело было не в сексуальном голоде. Дело было в чем-то ином, чему он не мог да и не искал названия. Просто в тот момент, когда он садился в аэрофлотский автобус на Ленинградском проспекте, чтобы ехать в аэропорт Домодедово или Быково, мощный выброс адреналина в кровь каким-то странным образом перегруппировывал улежавшиеся на своих московских орбитах атомы и электроны его тела, вздрючивал их, расщеплял в них новые киловатты энергии, распрямлял Рубинчику плечи, менял посадку головы, прибавлял раскованности и остроумия и наполнял его взгляд самоуверенной дерзостью. И с этой минуты начиналась охота.
Огромная страна лежала перед ним, и он чувствовал себя как инопланетянин при высадке на новую планету или как всадник из орды Чингисхана перед вторжением в Сибирь. Однако среди авиапассажиров, а точнее, среди авиапассажирок Рубинчику почти никогда не попадалось то, что он искал. И не потому, что среди них не было красивых женщин. Были. И если они встречались, он легко находил предлог для дорожного флирта, который при удачном стечении обстоятельств (скажем, совпадении места командировки) мог завершиться блиц-романом в гостиничном номере.
И все-таки не этот тип женщин интересовал Рубинчика во время его вольной охоты. Опытный путешественник, которому приходилось ездить в командировки по два-три раза в месяц, он знал, что не только он на охоте и «в полевых условиях». Отрываясь от своих домов, семей, матерей, мужей, любовников и работы или учебы, отлетая или уезжая от ежедневной рутины, миллионы женщин, которые летели в самолетах, плыли на теплоходах и катили в поездах по железным дорогам этой гигантской страны, тоже ослабляли стягивающий их дома каркас самоограничений и тоже искали чего-то нового, свежего, дорожно-романтичного и неподконтрольного. И та, кто еще вчера в Ростове, Харькове или Ленинграде была «синим чулком», недоступным комсомольским боссом, истовой аспиранткой, холодной жрицей науки или верной женой, в дороге могла легко, вдруг, даже к своему собственному полуизумлению, проснуться не в своем гостиничном номере, на узкой полке не своего купе или даже просто на траве привокзального парка, куда она пошла со случайным попутчиком «подышать воздухом» между посадкой и взлетом.
Но строго говоря, все это было даже не дорожным приключением, а дорожным блядством.
Рубинчик не брезговал им при случае, особенно если попадалась хорошая фигурка. Но он относился к этому мимолетному сексу как к разминке перед главной охотой, как к тому, что на Западе называют appetiser, – закуске, возбуждающей аппетит к основному блюду.
Потому что те, кого он искал, не летали в командировки, не плыли на речных теплоходах и не ехали в мягких или купированных вагонах поездов дальнего следования. Тот тип женщин, которых искал и за которыми охотился Рубинчик, даже невозможно втиснуть в такие расхожие категории, как командированные или, скажем, блондинки. Не эти качества определяли его поиск. Да он и сам не мог точно сказать, что же он ищет. Но каждый раз, когда где-нибудь в сибирской, вятской или мурманской глуши, в рабочем поселке лесорубов, или в конторе какого-нибудь геологического треста, или в итээровском общежитии его ищущий взгляд натыкался наконец на ту, которая заставляла замереть его охотничье сердце, он обнаруживал, что и эта, новая, роднится со всеми предыдущими одним непременным качеством.
Это всегда были русские женщины с вытянутым станом, затаенно печальными серыми или синими глазами и тем удлиненным лицом, высокими надбровными дугами и тонкой прозрачной кожей, которых можно увидеть в Эрмитаже на картинах Рокотова, Левицкого и Боровиковского.
Конечно, Рубинчик почти никогда не находил копию княгини Шуйской или Лопухиной, хотя и эти образцы не передают в точности тот идеал, который по необъяснимой причине жил в еврейском подсознании Рубинчика. Но если объединить лик иконной Богоматери Владимирской с глазами какой-нибудь древнерусской или норвежской воительницы-княжны или хотя бы с суровой жертвенностью в глазах женских портретов Петрова-Водкина, то, может быть, это будет близко к тому идеалу, иметь который было для Рубинчика навязчивым и почти маниакальным вожделением.
Такие женские типы еще можно встретить в глубокой русской провинции, хотя все реже и реже. Косметика, мода в одежде и в прическах, кровосмесительство, прокатившееся по русской породе волнами татаро-монгольского ига, турецким пленом, польским и французским вторжением, беспутством собственных бояр, немецкой оккупацией, раскулачиванием, подсоветской миграцией и современным массовым алкоголизмом, – все это замутило, испортило и растворило нордическую, но оригинально смягченную в половецких кровях красоту русских женщин, которая еще несколько веков назад настолько пленяла всех без исключения европейских монархов, что они вели русских невест к свадебным алтарям и сажали рядом с собой на престолы в Англии, Норвегии, Франции, Венгрии – да по всей Европе!
Теперь, в наше время, стандарт русской красоты сместился к копированию на русский манер западных кинокрасоток, и только очень редко, случайно, как выигрышное сочетание цифр в лотерейном билете, судьба вдруг сводит в одном материнском лоне старый и утраченный в веках набор хромосом. И тогда где-нибудь в провинциальной глуши Сибири, Пензы или Мытищ тихо, в заурядной семье растет, сама того не зная, юная копия былинной Ярославны, сказочной Василисы или скифской Ольги. По неосознанной для себя и странной для окружающих причине она сторонится гулевых подруг, заводских танцулек с обязательным лапаньем фиксатыми сверстниками за грудь и за все прочие места, ранней дефлорации в кустах районного парка культуры и модного пристрастия пятнадцатилетних к вину, сигаретам и похабели в разговоре. К шестнадцати годам она уже безнадежно «отстала» от своих подруг, она отдаляется от них в уединенную и тревожащую родителей мечтательность, чтение книг, вязанье и учебу в каком-нибудь техникуме, а в 22 года ее, как «старую деву», почти насильно выдают замуж. И, так и не отличенный от других простолюдинок, этот тайный цветок русской расы быстро увядает женой какого-нибудь прапорщика в глухом военном городке, грубеет с мужем-алкоголиком, среди детей, грязного белья и стервозности заводской «хрущобы» или хиреет сам по себе от неясной и нереализованной своей предназначенности – хиреет до беспросветной русской меланхолии, панели Курского вокзала и женской тюрьмы.
Но Рубинчику было достаточно одного взгляда, чтобы среди тысяч женских лиц, которые встречались ему в дороге, в рабочих поселках, деревнях, на заводах и в геологических партиях, выделить и опознать ту, в которой первозданная, исконная русость еще не была заштрихована провинциальным бытом, или изгажена поселковым блядством, или замордована мужем-алкоголиком. И когда это случалось, когда он – наконец! – натыкался на то, что он сам называл про себя «иконная княжна», все замирало в нем на миг – пульс, мысли, дыхание. Это длилось недолго – долю секунды, но он ощущал это как инфаркт. А затем сердце спохватывалось и швыряло по ослабевшим венам такое количество жаркой крови, что желание иметь эту древнерусскую красоту пронизывало Рубинчику не только низ живота, пах, гениталии и ноги, но даже волосы на груди. Все в нем вздымалось, вставало, как монгольский всадник в стременах и как шерсть на звере, узревшем добычу.
Поразительно, что эти его избранницы никогда не оказывали ему сопротивления и даже не требовали предварительного флирта, длительного обольщения или хотя бы ужина в ресторане на манер московских женщин. Что-то иное, какой-то неизвестный и не переводимый на слова способ общения возникал между Рубинчиком и такой «иконной дивой», возникал сразу, в тот первый момент, когда глаза их встречались. Такое же чувство мгновенного внеречевого общения Рубинчик испытал однажды в тайге при случайной встрече с важенкой – юной оленихой, повернувшей к нему голову на таежной тропе. Они замерли оба – и Рубинчик, и важенка. Пять метров отделяли их друг от друга, ровно пять метров, не больше, и они смотрели друг другу в глаза – в упор и со спокойным вниманием. Рубинчик даже затылком почувствовал, как важенка, вглядываясь в него, постигает его своими огромными темными глазами, влажными, как свежий каштан. Он собрал всю свою волю, чтобы тоже проникнуть в глаза и душу этого грациозного и нежного зверя, застывшего на высоких и тонких ногах. И ему показалось, что – да, есть контакт! Там, за влажной роговицей этих сливоподобных глаз, он ощущает нечто широкое, темное, теплое и густое, как кровь, которое только ждет его знака, чтобы впустить его еще глубже, дальше или просто пойти за ним по таежной тропе. Казалось, сделай он правильный жест или знак – и важенка шагнет к нему, мягко и доверчиво ткнется губами в шею и станет покорной рабыней, невестой, лесной любовницей.
Но там, в тайге, он не знал секретного знака, которого так терпеливо и долго – может быть, целых пять или даже семь минут – ждала от него таежная красотка. И от досады вздохнул, сделал какое-то мелкое движение не то рукой, не то кадыком на шее – и в тот же миг важенка нырнула в еловую чащу, рапидно перебирая в полуполете своими тонкими ногами лесной балерины и презрительно задрав коротенький упругий хвостик.
Оставшись на тропе, Рубинчик почувствовал себя неотесанным мужланом на балу жизни, отвергнутым таежной принцессой за незнание лесной мазурки.
Однако здесь, среди людей, Рубинчику не нужны были ни секретные коды, ни магические жесты, ни слова. Как одним-единственным взглядом он узревал русскую диву в жутком коконе ее нелепого провинциального платья, толстых трикотажных колготках и резиновых ботах, так и эта дива сама, с первого взгляда опознавала его каким-то иным, до сей минуты даже ей самой неизвестным подсознанием и какой-то другой, генной, памятью, и широкая, просторная глубина, густая и теплая, как кровь, открывалась перед Рубинчиком в ее глазах.
Конечно, он знакомился с девушкой, говорил какие-то дежурные слова, но ясно видел, что она только слушает его голос и вместе с этим голосом вбирает в себя его самого, пьет его, как наркотик…
Рубинчик никогда не мог объяснить себе этого эффекта. То есть почему его самого влекло к русским женщинам – этому можно найти тысячу резонов: от воспитания на русской культуре до комплекса ущемленного в правах маленького еврея в море славянского антисемитизма. Но что они – древнерусские княжны, половецкие принцессы, донские Ярославны и онежские Василисы – видели в нем, невысоком еврее с жесткой черной шевелюрой, крупным еврейским носом, маленькими карими глазами и густой шерстью, выбивающейся из открытого треугольника воротника апаш? Почему после нескольких малозначительных слов знакомства они покорно, как завороженные важенки, сами приходили к нему в гостиничный номер – открыто! на глазах у всего своего города или поселка! – и словно даже не видя, какими глазами смотрят на них гостиничные администраторши и дежурные по этажу?
Этого Рубинчик никогда не понимал и каждый раз, когда такое случалось, был уверен, что на этот раз наверняка ошибся и кадрил простую провинциальную давалку. Но когда очередная Таня или Алена уходила по его приказу в душ и возвращалась оттуда босиком и завернутая в потертое гостиничное полотенце, он сразу видел, что здесь не пахнет не только блядством, но вообще каким-нибудь сексуальным опытом. В ее походке, фигуре, вытянутой шее и в глазах было нечто рапидное, завороженное и мистически покорное его воле, слову, жесту, мысли, а самое главное – его вожделению. И, медленно открывая это гостиничное полотенце, прикрывающее ее тонкое белое тело, грудь и еще невыпуклые бледные крохотные соски, Рубинчик уже видел, что да, он не ошибся и на этот раз: она – девственница.
Он совращал их, конечно. Но только если понимать под совращением дефлорацию, и ничего, кроме этого чисто медицинского акта. Потому что во всех остальных значениях этого слова – лишить женской чести, сбить с правильного пути, – то какое тут к черту совращение! Он не трахал их и не ломал целку. А проводил их по узкому мостику от девичества в женственность – проводил с почти отцовской осторожностью, терпеливостью и нежностью, а затем приобщал их к истинной и высокой женской чести быть в постели не расщепленным надвое поленом, а Жрицей.
Так в ночном тумане опытный бакенщик сначала одной интуицией находит темный буек маяка, потом на ощупь разбирает фонарь, доливает масло, заправляет фитиль, зажигает, наконец, огонь, и вдруг – свет этого маяка слепит глаза ему самому.
Свет истинной женственности, который Рубинчик зажигал в такую ночь где-нибудь в Ижевске, Вологде или Игарке, был подобен возвращению к жизни старинной иконы, когда после осторожной и трепетной расчистки на вас вдруг вспыхнут из глубины веков живые и магические глаза.
Этот миг Рубинчик готовил особенно тщательно и даже церемониально. В стране, где сексуальное образование предоставлено темным подъездам, похабным анекдотам и настенным рисункам в общественных туалетах, где нет ни одной книги на тему о том, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ, и где даже слово «гинеколог» стесняются произнести вслух, – в этой стране миллионы юных женщин знают о сексе не больше, чем их домашние животные. Лечь на спину, раздвинуть ноги и поддать – вот все, чему учат своих невест и что требуют от своих жен девяносто процентов русских мужчин. Нужно ли удивляться массовой фригидности русских женщин?
В море беспросветного сексуального невежества Рубинчик зажигал святые лампады чувственности и первый наслаждался их трепетным пламенем.
– Сейчас, дорогая. Не спеши и не бойся. Забудь все, что тебе говорили об этом подруги, и забудь все грязные слова, которые пишут про это в подъездах. Мы сделаем это совершенно иначе. Так, чтобы ты помнила об этом всю жизнь как о самом святом дне своей жизни, как о рождественском празднике. Сделай глоток шампанского. Вот так. И еще глоток. И еще. А теперь дай твои губы. Нет, не так. Впусти мой язык и слушай свое тело. Забудь обо мне и слушай только себя…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?