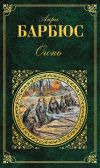Текст книги "Капут"

Автор книги: Курцио Малапарте
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Почему вы зовете меня маркизом? Я – синьор Сартори.
Мне импонировал этот спокойный толстяк, отказывавшийся в тот вечер от титула, на который он не имел права, но которым с удовольствием позволял себя величать. В минуты опасности неаполитанцы способны на самые серьезные жертвы.
– Не подадите ли мне еще один бинт, дорогой маркиз? – обратился я к нему, чтобы компенсировать его жертву.
Мы присели на пороге: Сартори на стул, я на ступеньку. В окружавшем консульство саду густо росли акации и сосны. Разбуженные сполохами пожарища птицы шевелились на ветках, хлопая крыльями в тишине.
– Им страшно, и они не поют, – сказал Сартори, посмотрев на кроны и показывая рукой на темное пятно на стене дома, добавил: – Посмотрите на стену, на ней кровяное пятно. Один бедняга спрятался здесь, ворвались жандармы и размазали его по стене ружейными прикладами. Потом утащили его с собой. Это был хозяин этого дома, благородный человек.
Он зажег еще одну сигарету и медленно повернулся ко мне:
– Я был один, – сказал он, – что я мог поделать? Я протестовал, пригрозил, что напишу Муссолини. Они рассмеялись мне в лицо.
– Они рассмеялись в лицо Муссолини, не вам.
– Не издевайтесь, Малапарте. Я злился, а когда я злой… – сказал он с обычным своим спокойным видом. Потом затянулся и добавил: – Я со вчерашнего дня прошу полковника Лупу поставить солдатский пикет для охраны консульства. Мне ответили, что в этом нет необходимости.
– И благодарите Бога! С людьми полковника Лупу лучше не иметь ничего общего. Полковник Лупу – убийца.
– О да, убийца. А жаль, такой приятный человек!
Я рассмеялся и отвернулся, чтобы не видел Сартори. С улицы донеслись отчаянные крики, пистолетные выстрелы, потом мягкие глухие удары ружейных прикладов по головам.
– Они меня начинают всерьез раздражать, – сказал Сартори.
Он встал, по-неаполитански флегматично, спокойно пересек двор, открыл калитку и сказал:
– Идите сюда, входите.
Я вышел на средину улицы и стал заталкивать в калитку обезумевших от страха людей. Жандарм схватил меня за руку и получил сильный удар ногой в живот.
– Вы правильно сделали, – спокойно сказал Сартори, – негодяй того заслужил.
Нужно было не на шутку рассердить его, чтобы заставить так крепко выразиться. «Негодяй» было очень грубым для него словом.
Мы сидели всю ночь на пороге и курили. Иногда выходили наружу и заталкивали оборванных и окровавленных людей во двор консульства. Так собралось около сотни.
– Надо дать этим страдальцам попить и поесть, – сказал я Сартори, когда, оказав раненым помощь, мы вернулись на порог.
Сартори посмотрел на меня злым взглядом.
– У меня были кое-какие припасы, но жандармы ворвались и забрали все. Ладно.
– ’O vero?[116]116
Правда?
[Закрыть] – спросил я по-неаполитански.
– ’O vero, – ответил Сартори и вздохнул.
Было приятно находиться с этим человеком, я чувствовал себя в безопасности рядом со спокойным неаполитанцем, который дрожал от страха, ужаса и сострадания, но только внутренне – внешне он воспринимал все не моргнув глазом.
– Сартори, – сказал я, – мы боремся с варварами за цивилизацию.
– ’O vero? – сказал Сартори.
– ’O vero, – сказал я.
Рассвет пробивал затянутое тучами небо. Дым пожарища стоял над деревьями и домами. Было прохладно.
– Сартори, – сказал я, – когда Муссолини узнает, что они ворвались в консульство в Яссах, он им такое устроит, что небо с овчинку покажется.
– Не издевайтесь, Малапарте, – сказал Сартори. – Муссолини лает, но не кусает. Он вышвырнет меня за то, что я дал приют бедным евреям.
– ’O vero?
– ’O vero, Малапарте.
Сартори встал и предложил мне пойти отдохнуть.
– Вы устали, Малапарте. Пожалуй, все уже кончилось. Кто умер, тот мертв. Ничего не поделаешь.
– Я не устал, Сартори. Идите спать вы, я покараулю.
– Отдохните хоть час, доставьте мне такое удовольствие, – сказал Сартори, усаживаясь на стул.
Идя через кладбище, я увидал двух румынских солдат в неверном свете, они сидели на могиле и молча жевали хлеб.
– Добрый день, dòmnule capitan, – сказали они.
– Добрый день, – ответил я.
Мертвая женщина лежала между могил. За забором скулил пес. Я бросился в кровать и закрыл глаза. Мне было нехорошо. Ничего не поделаешь. La dracu, подумал я. Это страшно – ничего не мочь сделать.
Я тихо засыпал и сквозь открытое окно видел уже освещенное рассветом небо, подсвеченное бледными отблесками пожарищ; шагающий по небу человек с огромным белым зонтом смотрел вниз.
– Спокойного сна, – сказал мне летящий в небе человек, кивнул головой и улыбнулся.
– Спасибо, приятной прогулки, – ответил я.
Через пару часов я проснулся. Было светлое утро, вымытый, свежий после ночной бури воздух сверкал на предметах как прозрачный лак. Я выглянул в окно и посмотрел на улицу Лэпушняну. На улице лежали людские тела с признаками разложения. Тротуары были загромождены мертвыми, наваленными друг на друга людьми. Несколько сот трупов были сложены в кучу на кладбище. Стаи собак обнюхивали мертвых с испуганным, робким видом потерявших хозяина тварей, они ходили среди мертвых уважительно и осторожно, опасаясь наступить на окровавленное лицо или окоченевшую руку. Отряды евреев под присмотром жандармов и вооруженных автоматами солдат оттаскивали трупы с середины дороги и складывали их под стеной, чтобы дать проехать машинам. Проезжали груженные мертвецами немецкие и румынские грузовики. Мертвый ребенок сидел на тротуаре, опершись спиной о стену обувной мастерской, откинув голову на плечо.
Я отпрянул назад, закрыл окно, сел на кровати и стал медленно одеваться. Несколько раз мне пришлось лечь на спину, чтобы сдержать позывы к рвоте. Мне вдруг показалось, что я слышу звук радостных голосов, смех, веселые восклицания и ответные приветы. Я сделал усилие и выглянул в окно. На улице было много людей. Солдаты и жандармы, мужчины и женщины, стаи цыган с вьющимися кольцами волосами, они обменивались между собой веселыми возгласами, ходили по улице и раздевали мертвых: приподнимали, переворачивали, перекидывали их с одного бока на другой, чтобы снять пиджак, брюки, нижнее белье, наступали ногой на живот, чтобы сорвать обувь; кто-то еще спешил принять участие в захвате трофеев, а кто-то уже удалялся с охапкой одежды. Веселое гульбище, праздничное действо, рынок и праздник одновременно. Нагие мертвые оставались лежать в непристойных позах.
Я скатился по лестнице, пробежал через кладбище, стараясь не наступить на разбросанные мертвые тела, и на выходе столкнулся с несколькими жандармами, пришедшими мародерствовать. Я набросился на них с пинками.
– Грязные подонки! – кричал я. – Недоноски! Ублюдки!
Один удивленно посмотрел на меня, взял из кучи несколько тряпок, две или три пары обуви и протянул мне со словами:
– Не сердитесь, dòmnule capitan, здесь хватит всем.
Под веселый звон бубенчиков на площадь Унирии со стороны улицы Лэпушняну влетело ландо княгини Стурдзы. Чинный кастрат Григорий в просторном зеленом кафтане сидел на облучке и помахивал плетью над спинами бегущих рысью белых молдавских лошадей с развевающейся длинной гривой. Сидя на высоких подушках, неподвижная и торжественная княгиня Стурдза гордо смотрела вперед, держа в руке красного шелка зонтик с кружевной бахромой. Гордый и недоступный, под сенью серого фетра шляпы, весь в белом рядом с ней сидел князь Стурдза, левой рукой он прижимал к груди книжицу в красном переплете.
– Добрый день, княгиня Стурдза, – говорили мародеры, отрываясь от веселого занятия и склоняясь в глубоком поклоне.
В голубом платье, в широкополой шляпке из флорентийской соломки, княгиня Стурдза поворачивала голову направо и налево и сухо кивала; князь коротким жестом приподнимал серый фетр, улыбался и сдержанно кивал тоже.
– Добрый день, doamna княгиня.
Под веселый перезвон бубенцов карета проехала между нагромождениями нагих мертвых и рядами униженно склонившихся с ворохами грязной добычи мародеров; добрые белые лошади под алой плетью чинно сидящего на облучке важного кастрата шли резвой рысью.
VII
Польский крикет
– Так сколько евреев погибло той ночью в Яссах? – иронично спросил Франк, протянул ноги к камину и ласково улыбнулся.
Остальные заулыбались тоже и сочувственно посмотрели на меня. Огонь потрескивал в камине, заледеневшие снежинки бились в оконные стекла как белые бабочки. Леденящий северный ветер налетал сильными порывами, свистел в развалинах соседнего здания отеля «Англетер», нес поземку по огромной Саксонской площади. Я поднялся, подошел к окну и сквозь мутные стекла стал смотреть на залитую луной площадь. Фигуры солдат двигались по тротуару у гостиницы «Европейская». Внизу, там, где еще двадцать лет назад стоял кафедральный православный собор, разрушенный поляками согласно мрачным предсказаниям монаха, снег стелил свою девственную простыню. Я повернулся к Франку и тоже мягко улыбнулся.
– Официальная статистика вице-президента румынского Совета министров сообщила о пятистах убитых, – ответил я, – но полковник Лупу информировал о семи тысячах растерзанных евреев, и тоже официально.
– Впечатляющая цифра, – сказал Франк, – но сделано все было неловко. Так не делается.
– Нет, так не делается, – сказал губернатор Варшавы Фишер и неодобрительно качнул головой.
– Это нецивилизованный метод, – сказал с отвращением губернатор Кракова Вехтер, один из убийц Дольфуса.
– Румыны – варварский народ, – презрительно сказал Франк.
– Ja, es hat keine Kultur[117]117
Да, это люди низкой культуры (нем.).
[Закрыть], – сказал Фишер, покачав головой.
– Хотя мое сердце и не такое чувствительное, как ваше, – сказал Франк, – я понимаю и разделяю ваш ужас от резни в Яссах. Я осуждаю погромы как человек, как немец и как генерал-губернатор Польши.
– Very kind of you[118]118
Очень любезно с вашей стороны (англ.).
[Закрыть], – сказал я и поклонился.
– Германия – страна высшей цивилизованности и отвергает определенные варварские методы, – сказал Франк, обращая к окружающим взгляд искреннего возмущения.
– Natürlich, – сказали все.
– Германия несет на восток высокую миссию цивилизации, – сказал Вехтер.
– Слово «погром» – не немецкое слово, – сказал Франк.
– Конечно же, это слово еврейское, – сказал я, улыбнувшись.
– Мне безразлично, еврейское это слово или нет, – сказал Франк, – но я знаю, что оно не входит и никогда не войдет в немецкий лексикон.
– Погром – славянская особенность, – сказал Вехтер.
– Мы, немцы, во всех вещах руководствуемся методикой и разумом, а не животными инстинктами, мы во всем действуем научно. Но когда это необходимо, только когда необходимо, – повторил Франк, чеканя слова и глядя пристально на меня, как бы желая запечатлеть их на моем лбу, – мы следуем искусству хирурга, а не мясника. Разве вы видели когда-нибудь, – добавил он, – резню евреев на улицах немецких городов? Ведь нет же? Разве что студенческие демонстрации, невинные выступления молодежи. И все-таки через какое-то время в Германии не останется ни одного еврея.
– Это только вопрос методологии и организации, – заметил Фишер.
– Уничтожение евреев, – продолжил Франк, – не в немецком стиле. Это глупое занятие, бесполезная трата времени и сил. Мы отправляем их в Польшу и изолируем в гетто. Там они вольны делать что хотят. В гетто польских городов евреи живут как в свободной республике.
– Да здравствует свободная республика в польских гетто! – сказал я, поднимая бокал шампанского «Мумм», грациозно поднесенный мне фрау Фишер. Слегка кружилась голова, чувствовалась приятная расслабленность.
– Vivat! – воскликнули все хором и подняли бокалы. Выпив, все посмотрели на меня.
– Mein lieber Малапарте, – Франк положил мне руку на плечо в знак дружеского расположения, – немецкий народ оказался жертвой грязной клеветы. Немцы – не убийцы. Надеюсь, когда вы вернетесь в Италию, вы расскажете обо всем, что видели в Польше. Долг честного и объективного человека – говорить правду. Так и вы можете со спокойной совестью говорить, что немцы создают в Польше мирное, трудолюбивое сообщество, почти семью. Посмотрите вокруг: вы в простом и честном, подлинно немецком доме. Вот и Польша теперь – это порядочный немецкий дом. Вот, посмотрите, – с этими словами он повел рукой вокруг.
Я обернулся и посмотрел. Фрау Фишер достала из ящика стола картонную коробку, из коробки – большой клубок шерстяной пряжи, две спицы, начатый носок и несколько мотков домашней шерсти. Как бы испросив легким поклоном согласия фрау Бригитты Франк, она водрузила на нос очки в железной оправе и принялась монотонно орудовать спицами. Фрау Бригитта Франк расправила моток шерсти и, надев его на запястья фрау Вехтер, стала сматывать пряжу в клубок, действуя руками быстро и грациозно. Фрау Вехтер сомкнула колени, подала грудь вперед и, согнув руки с мотком, стала водить его, помогая пряже сматываться без обрыва. Три женщины являли собой совершенную картину бюргерской идиллии. Генерал-губернатор Франк смотрел на улыбающихся вязальщиц сияющим взглядом приязни и гордости. Эмиль Гасснер и Кейт разреза́ли тем временем полуночный торт и разливали кофе в большие фарфоровые чашки. От выпитого вина, от этой бюргерской сцены, от неясного воздействия немецкого провинциального интерьера (позвякивание вязальных спиц, треск поленьев в камине, звук жующих ртов, звон фарфоровой посуды) легкий дискомфорт понемногу овладевал мной. Рука Франка на плече хоть и не тяготила, но подавляла мой дух. И постепенно, перебирая и осмысливая по одному все чувства, которые вызывал во мне Франк, я пытался прояснить и определить для себя смысл, подтекст и значение каждого его слова, жеста, каждого поступка, стараясь составить из собранных мной за те дни сведений об этой личности ее духовный портрет, и все более убеждался, что это не тот человек, которого можно оценить быстро.
Дискомфорт, который я всегда ощущал в его присутствии, рождался именно от крайней сложности его натуры, в нем уникальным образом сочетались жестокий ум, утонченность и вульгарность, грубый цинизм и изысканная чувствительность. Конечно, в нем было нечто темное и сокрытое, что не поддавалось моему анализу – царство зла, непостижимая преисподняя, откуда изредка вырывался неуловимый тусклый блеск, неожиданно освещавший это закрытое для понимания лицо, этот беспокойный и очаровательный, таинственный лик.
Мое давно сложившееся суждение о Франке было, вне всякого сомнения, неблагоприятным. Я знал об этом человеке достаточно, чтобы возненавидеть его. Но совесть не давала мне права придерживаться этого мнения. В сумме всех собранных о нем мнений и сведений, почерпнутых как из опыта других людей, так и из своего собственного, мне не хватало какой-то детали, которой я пренебрег и проявления которой ждал с минуты на минуту.
Я надеялся подстеречь во Франке жест, слово, спонтанное действие, могущее открыть его истинное лицо, его тайный образ. Это слово, жест, непроизвольное движение должны были неожиданно пробиться из темных тайников его души, из болезненной и в каком-то смысле преступной глубины его натуры, где, как я инстинктивно чувствовал, коренятся его жестокий ум, его изысканная музыкальность.
– Такова теперешняя Польша – порядочный немецкий дом, – повторил Франк, охватывая взглядом картину бюргерской семейной идиллии.
– Отчего же, – спросил я, – вам самому не посвятить досуг какому-нибудь женскому занятию? Ваше достоинство генерал-губернатора от этого нисколько не пострадало бы. Король Швеции Густав V тоже находит удовольствие в дамских рукоделиях. По вечерам в окружении родных и близких король Густав V вышивает.
– Ach so? – воскликнули дамы с недоверием и заинтересованным удивлением.
– А чем же еще заниматься королю нейтральной страны? – сказал со смехом Франк. – Если бы он был генерал-губернатором Польши, вы думаете, у него оставалось бы время для вышивания?
– Польский народ стал бы, без сомнения, счастливее, имея генерал-губернатора вышивальщика.
– Ха-ха-ха! Да это у вас просто навязчивая идея, – со смехом сказал Франк. – На днях вы хотели убедить меня, что Гитлер – женщина, сейчас вы хотите склонить меня к женским рукоделиям. Вы вправду думаете, что можно править Польшей спицами и вышивальной иглой? Vous êtes très malin, mon cher Malaparte[119]119
Вы большой хитрец, мой дорогой Малапарте (фр.).
[Закрыть].
– В некотором смысле, – сказал я, – вы тоже вышиваете. Ваша политика – это настоящая вышивка.
– Я не король Швеции, проводящий время, как монастырская затворница, – сказал Франк с подчеркнутой гордостью, – я вышиваю по канве новой Европы.
Он по-королевски неторопливо пересек зал, открыл дверь и вышел.
Я сел в кресло у окна, откуда мог видеть всю большую Саксонскую площадь, дома со снесенными крышами на задах гостиницы «Европейская», развалины дворца рядом с отелем «Бристоль» на углу выходящей к Висле улицы.
Это был один из пейзажей, на фоне которого проходила моя молодость, может, самый дорогой моему сердцу пейзаж; я не мог наслаждаться им в тот момент, находясь в том зале в таком обществе, и не испытывать странного смущения и печальной подавленности. Этот памятный и близкий мне пейзаж вставал перед глазами теперь, двадцать лет спустя, так же просто, как старая пожелтевшая фотография: варшавские дни и ночи далеких 1919 и 1920 годов возникали в памяти, наполненные тогдашними надеждами и чувствами.
(В мирных комнатах, пропахших ладаном, воском и водкой, в маленьком домике в переулке, что выходит на Театральную площадь, где жила со своими внучками канонисса Валевска, было слышно, как колокола сотен церквей Старого города звенели в морозном, зимнем и чистом воздухе; улыбки сияли на алых девичьих губах, тогда как собравшиеся перед камином канониссы старые douairières, вдовы, негромко беседовали, таинственные и лукавые. В Малиновом зале «Бристоля» молодые уланы замысловато прищелкивали каблуками в ритме мазурки, вращаясь в танце вокруг белокурых дам в светлых нарядах, стоявших в ряд и сверкавших девственным огнем в очах. Старая княгиня Чарторыйска с морщинистой шеей, семижды обернутой бесконечным жемчужным ожерельем, опускавшимся до живота, молча сидела рядом со старой маркизой Велопольской в малом дворце на аллее Уяздовской у окна с отраженными в стекле деревьями: отблеск лип расходился в теплом воздухе, окрашивая в зеленое тонкой работы персидские ковры, мебель эпохи Людовика XV, портреты и пейзажи французской и итальянской школы, выполненные во вкусе Трианона и Шёнбрунна[120]120
Трианон – два дворца Версальского комплекса, Шёнбрунн – летняя резиденция Габсбургов под Веной.
[Закрыть], старое шведское серебро, русскую эмаль времен Екатерины Великой. Графиня Адам Ржевуска, сама Боронат[121]121
Олимпия Боронат (1867–1934) – известная итальянская певица, колоратурное сопрано.
[Закрыть] с ее чудным голосом, стояла у клавесина в Белом зале посольства Итальянского Королевства во дворце Потоцких в Краковском предместье и пела радостные песни варшавянок времен Станислава Августа и грустные украинские напевы времен гетмана Хмельницкого и казацких восстаний; я сидел рядом с Ядвигой Ржевуской, она молча смотрела на меня, бледная и задумчивая. Гонки на санях под луной до самого Виланова. Вечера в Охотничьем клубе в теплом запахе токая, разговоры старых польских шляхтичей об охоте, лошадях и собаках, женщинах и путешествиях, о дуэлях и влюбленностях, беседы тройки Охотничьего клуба – графа Генриха Потоцкого, графа Замойского и графа Тарновского – о винах и портных, о балеринах, о Петербурге и Вене, о Лондоне и Париже. Долгие послеполуденные летние беседы в освежающей тени резиденции папского нунция с монсиньором Акилле Ратти, ставшим позже папой Пием XI, с секретарем апостольского посольства монсиньором Пеллегринетти, ставшим кардиналом; в пыльной жаре заката вдоль Вислы трещали советские пулеметы, а под окнами посольства цокали копытами лошади третьего уланского полка, скакавшего к предместью Прага навстречу красным казакам Буденного. Толпящиеся на тротуарах улицы Новы Свят люди пели:
Во главе полка гарцевала атлетичная княгиня Воронецка, крестная мать третьего уланского, с букетом роз в руках.
Моя ссора с лейтенантом Потулицким и длившаяся три дня попойка в честь нашего примирения. И пистолетный выстрел Марыльского в Дзержиньского через заполненный танцующими парами зал в доме княгини В* (все танцевали под «The broken doll», первый фокстрот, пришедший в Польшу в 1919-м), и простертый на полу в луже крови Дзержиньский с простреленной шеей, и княгиня В*, говорящая музыкантам: «Jouez donc, ce n’est rien»[124]124
Играйте же, ничего не случилось (фр.).
[Закрыть], и Марыльский с пистолетом в руке и с бледной улыбкой на лице, в окружении молодых, возбужденных танцем и видом крови женщин; месяцем позже Дзержиньский с еще бледным лицом и перебинтованным горлом под руку с Марыльским в баре отеля «Европейский». На балу в английском посольстве княгиня Ольга Радзивилл со светлыми вьющимися волосами, остриженными по-мальчишески коротко, смеющаяся в объятиях молодого секретаря английского посольства Кавендиша-Бентинка, похожего на Руперта Брука, что заставляло вспомнить «молодого Аполлона» из знаменитой эпиграммы Миссис Корнфорд «magnificently unprepared for the long littleness of life»[125]125
Великолепно неподготовленного к продолжительному ничтожеству жизни (англ.).
[Закрыть]; и Изабелла Радзивилл, высокая, худая и смуглая, с длинными черными шелковистыми волосами и с полными ночи глазами, стоящая в оконной нише с молодым английским генералом, одноглазым, как Нельсон, с изуродованной, как у Нельсона, рукой, он говорил с ней негромким голосом и увлекающе смеялся чувственным ласкающим смехом. О, то было, конечно же, видение, любезный сердцу призрак далекой варшавской ночи – английский генерал Картон де Виарт, одноглазый и с увечной рукой, летом 1940-го он командовал британскими войсками, высадившимися в Норвегии. Я тоже, конечно же, был призраком, неверным призраком далекого и, наверное, счастливого времени, ушедшего и все-таки, пожалуй, счастливого.)
Я тоже был неспокойной и грустной тенью у того окна, в том пейзаже моих юных лет. В глубинах моей памяти оживали милые сердцу образы того далекого и чистого времени, оживали и ласково улыбались. Я закрыл глаза, вглядываясь в бледные образы, слушая дорогие мне голоса, слегка увядшие со временем, как вдруг божественная музыка коснулась моего уха. Это были первые ноты прелюдии Шопена. В соседней комнате (было видно сквозь приоткрытую дверь) Франк сидел за фортепиано мадам Бек, склонив голову на грудь. Бледный потный лоб. Выражение глубокого страдания на гордом лице. Он тяжело дышал, покусывая нижнюю губу. Закрытые глаза, дрожащие веки. Он болен, подумал я. Мне сразу не понравилась эта мысль.
Все молча слушали затаив дыхание. Звуки прелюдии, такие чистые, такие легкие, летели в теплом воздухе, как пропагандистские листовки, сброшенные с самолета. На каждой ноте большие алые буквы кричали: «Да здравствует Польша!» Я смотрел сквозь оконное стекло на медленно опускающиеся на пустынную под луной Саксонскую площадь снежинки, на каждой большими алыми буквами было написано: «Да здравствует Польша!» Эти слова из таких же алых букв я читал больше двадцати лет назад на нотах Шопена, на чистых и легких нотах, вылетавших из-под хрупких и белых, бесценных рук Председателя польского Совета министров Игнация Падеревского, сидевшего за фортепиано в большом Красном зале Варшавского королевского дворца. То были дни возрождения Польши: польская шляхта и дипломатический корпус часто собирались по вечерам в королевском дворце вокруг фортепиано Председателя Совета. Милый образ Шопена витал среди нас, дрожь пробегала по обнаженным плечам и рукам молодых женщин. Бессмертный ангельский голос Шопена, как далекий голос весенней грозы, покрывал страшный призыв к мятежам и убийствам. Чистые легкие ноты летели над мертвенно-бледными одичавшими толпами, как листовки с самолета, пока последние аккорды не смолкали, и Падеревский медленно поднимал спадавшие на клавиатуру пышные светлые волосы и поворачивал к нам влажное от слез лицо.
А теперь во дворце Брюль, в нескольких шагах от развалин королевского дворца, в нагретом, дымном воздухе немецкого бюргерского интерьера чистые, зовущие к радости ноты Шопена отправлялись в полет из-под белых нежных рук Франка, из-под немецких рук генерал-губернатора Польши; чувство стыда и неприятия жгло мне лоб.
– Ах, он играет, как ангел! – пробормотала фрау Бригитта Франк.
В этот миг музыка смолкла, и на пороге появился Франк. Фрау Бригитта порывисто встала, отбросила клубок, подошла и поцеловала его пальцы. Протягивая руки для полного религиозного экстаза и почтительности поцелуя, генерал-губернатор придал лицу суровое выражение религиозной отрешенности, как если бы сходил в тот момент по ступеням алтаря после отправления мистического жертвоприношения; так, можно было ожидать, что фрау Бригитта преклонит в обожании колени. Но фрау Бригитта схватила руки Франка, подняла их и, повернувшись к нам, произнесла с триумфом:
– Смотрите, вот руки ангела!
Я посмотрел на руки Франка, они были маленькие, хрупкие и очень белые. Приятно удивляло то, что на них не было ни одного кровавого пятна. Несколько дней я не встречал ни генерал-губернатора Франка, ни губернатора Варшавы Фишера: вместе с неожиданно приехавшим из Берлина Гиммлером они были заняты анализом неустойчивости положения, складывавшегося в Польше вследствие поражений, которые немцы терпели в России (были первые числа февраля 1942-го). Личные отношения Гиммлера и Франка были заметно прохладными: Гиммлер презирал «театральность» и «интеллектуальную изысканность» Франка, последний обвинял Гиммлера в «мистической жестокости». Шли разговоры о больших переменах в высших нацистских кругах в Польше, казалось, положение Франка неустойчиво. Но когда Гиммлер оставил Варшаву и уехал в Берлин, стало ясно, что Франк выиграл партию: большие перемены ограничились заменой губернатора Кракова Вехтера близким родственником Гиммлера, штадтгауптманом Ченстохова, и переводом Вехтера на пост губернатора Львова.
Тем временем Вехтер вернулся в Краков вместе с Гасснером и бароном Фользеггером. Фрау Вехтер решила составить компанию фрау Бригитте Франк на несколько дней, на которые генерал-губернатор еще должен был задержаться в Варшаве. Я же в ожидании отправки на Смоленский фронт воспользовался присутствием Гиммлера (гестапо в те дни отвлеклось от обыденной работы, обеспокоенное серьезной ответственностью по охране священной особы Гиммлера) для незаметной доставки писем, посылок с провизией и денег, которые польские беженцы в Италии просили передать своим родным и друзьям в Варшаве. Передача полякам тайной корреспонденции, даже одного письма из-за границы, каралась смертью. Посему мне пришлось принять все меры предосторожности во избежание слежки гестапо, чтобы не подвергнуть опасности других и себя самого. Благодаря крайней осторожности и неоценимой помощи одного немецкого офицера (молодого человека высокой культуры и благородной души, с которым я познакомился во Флоренции несколькими годами раньше и с которым меня связывали узы сердечной дружбы), мне удалось выполнить эту деликатную, добровольно взятую на себя задачу. Игра была небезопасной, я взялся за нее со спортивным азартом и с абсолютной честностью (я всегда и при любых обстоятельствах уважал правила крикета, даже в отношении немцев) из человеческой солидарности и христианского сострадания, а также из желания посмеяться над Гиммлером и Франком и над их полицейским аппаратом. Я с увлечением отдался игре и выиграл, хотя если бы проиграл, то заплатил бы сполна. А выиграл я только потому, что немцы, которые всегда пренебрегали своими противниками, даже не могли представить, что я буду следовать правилам игры в крикет.
Я вновь встретился с Франком два дня спустя после отъезда Гиммлера, за завтраком, который он давал в честь боксера Макса Шмелинга в своей официальной резиденции во дворце Бельведер, бывшем резиденцией маршала Пилсудского до самой его смерти. В то утро я шел по аллее прекрасного парка XVII столетия (разбитого с несколько печальным изяществом и осенней отрешенностью одним из последних учеников Ленотра), аллея вела к парадному подъезду Бельведера, и мне казалось, что немецкие флаги, немецкие часовые, их шаги, голоса и жесты придавали некую холодность, жесткость и мертвенность старым благородным деревьям парка, музыкальной ладности созданной для праздничных утех Станислава Августа архитектуры и тишине закованных льдом фонтанов и прудов.
Больше двадцати лет назад, в те времена, когда я еще прохаживался под липами аллеи Уяздовской или Лазенок и видел белеющие среди листвы стены Бельведера, я чувствовал, будто мраморные ступени, статуи Аполлона и Дианы, белая лепнина фасада сделаны из материала тонкого и живого, почти из розовых телес. Теперь же при входе в Бельведер все казалось холодным, жестким и мертвым. Проходя через большие, полные яркого холодного света залы, одно время отданные скрипкам и клавесинам Люлли и Рамо и чистой небесной меланхолии Шопена, я услыхал вдалеке немецкие голоса и смех, в неуверенности остановился на пороге и заколебался, а стоит ли входить, когда голос Франка позвал меня, и он сам подошел с распростертыми объятиями и с горделивой сердечностью, которая всегда удивляла и глубоко беспокоила меня.
– Я пошлю его в нокаут в первом же раунде, рефери будете вы, Шмелинг, – сказал Франк, сжимая в руке охотничий нож.
В тот день за столом генерал-губернатора Польши во дворце Бельведер в Варшаве почетным гостем был не я, это место занимал знаменитый боксер Макс Шмелинг. Я был доволен его присутствием, оно отвлекало от меня внимание сотрапезников и давало мне возможность посвятить себя сладким воспоминаниям, видениям того далекого первого января 1920-го, когда я впервые вошел в этот зал для участия в ритуале представления дипломатического корпуса главе государства маршалу Пилсудскому. Старый маршал неподвижно стоял посреди зала, опершись рукой об эфес древней, сильно изогнутой на восточный манер сабли в кожаных ножнах с серебряными накладками; у маршала было бледное лицо с большими, светлыми, похожими на шрамы венами, пышные, как у князя Собеского, усы, широкий лоб с жесткими короткими волосами, подстриженными под каре. Прошло больше двадцати лет, а маршал Пилсудский еще стоял у меня перед глазами приблизительно на том месте, где теперь находился стол с дымящейся, едва снятой с вертела косулей, в чью аппетитную спину улыбающийся Франк намеревался вонзить широкое лезвие своего охотничьего ножа.
Макс Шмелинг сидел справа от фрау Бригитты Франк; внутренне собранный, он, слегка наклонив голову, по одному разглядывал сидящих взглядом робким и твердым одновременно. Роста он был чуть выше среднего, этот хорошего телосложения человек с округлыми плечами и почти элегантными манерами. Не скажешь, что под этим добротным костюмом из серой фланели, сшитым, вероятно, в Нью-Йорке или Вене, таится взрывная сила.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?