Текст книги "Неизвестный Пушкин. Записки 1825-1845 гг."
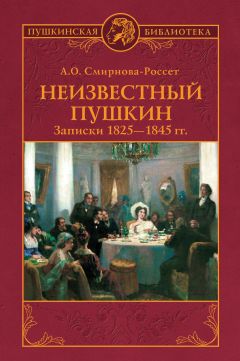
Автор книги: А. Смирнова-Россет
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Мне очень хотелось бы знать, поминают ли также пятерых декабристов? – сказал мне Пушкин.
Я спросила об этом Великого Князя Михаила Павловича, который отвечал мне: «Само собою разумеется, как и всех других». Я передала это Пушкину. Он признался мне, что он всегда служил панихиду по декабристам в день именин их, но что не хочет говорить об этом, так как уверен, что его обвинили бы в желании выставлять напоказ свою религиозность, а это надо делать втихомолку. Я похвалила его за скромность.
* * *
На днях Его Величество говорил Пушкину о Сперанском, которого Пушкин не любит. Государь, по восшествии на престол, вновь приблизил его, но ненадолго. Пушкин сказал Государю, что Сперанский был, конечно, человек умный, но с понятиями XVIII столетия и идеолог.
– Это совершенно верно, – ответил Его Величество, – я ошибся относительно него.
Сперанский был женат на англичанке и пропитался протестантскими воззрениями.
Государь и Пушкин говорили об адмирале Мордвинове, которого Государь очень уважает, это человек с характером. Говорили также об адмирале Чичагове[126]126
Он оставил записки. Он поссорился с Александром I, и его обвиняли в стремлении служить Наполеону.
[Закрыть], человеке умном, но не представляющем собою выдающегося характера, Великий Князь сказал Пушкину:
– Ни брат, ни я – мы никогда не были под обаянием Аракчеева. К сожалению, Император Александр Павлович слишком много доверялся ему. Я помню, что старик Державин относился к нему недоверчиво.
Державин был честнейший человек и был прекрасным министром юстиции. Он не особенно высоко ставил Сперанского как законоведа. Вернувшись из ревизии, вызванной жалобою виленских евреев, Державин имел продолжительный разговор с покойным Государем. Дело это, может быть, отчасти было причиной немилости к графу Сперанскому. Немилость Государя к нему приписывали Аракчееву, а также Магницкому. Покойный Государь был очень скрытен. Он никогда не откровенничал, но нет сомнения, что с этого времени расположение его к гр. Сперанскому стало ослабевать, несмотря на все усилия кн. А.Н. Голицына. Впрочем, немилости содействовала и история с хлыстами. Это странное дело. Я слышала, что говорил об этом доктор Рюль г-же Ховен. Он рассказывал, что у них собрания бывали в старом Михайловском дворце, у г-жи Буксгевден, матери Татариновой[127]127
Глава секты хлыстов, мать «корабля хлыстовской секты».
[Закрыть]. Попов, секретарь кн. Алекс. Ник. Голицына, посещал одно время эти собрания вместе со Сперанским. Пушкин говорит, что его учитель Пилецкий принадлежал к этой секте, как и художник Боровиковский. Для людей образованных это просто безумие! К этой же секте принадлежали, между прочим, несколько придворных лакеев, даже священник, диакон, придворные певчие и дьячки. У г-жи Ховен была горничная хлыстовка, и, когда закрыли молельню купца Ненастьева и дочери его, она точно обезумела от гнева и проклинала всех. Лакей Попова сообщил митрополиту Серафиму о том, что дочь Попова[128]128
Она отказывалась поступить в секту.
[Закрыть] сидела под замком у Татариновой. Я видела эту Попову в Смольном, так как Императрица ее там приютила; она была в ужасно нервном состоянии. Рюль рассказывал, каким образом открыли правду. Государь находился вечером у Марии Феодоровны, когда ему доложили о приезде митрополита, от которого он узнал то, что сообщал лакей. Послали за полицеймейстером Горголи. Арендт, Рюль и камер-юнкера Императрицы Марии Феодоровны отправились в карете с Горголи. Окружили дом, находящийся невдалеке от 7-й версты[129]129
По дороге между Петербургом и Петергофом.
[Закрыть], где дом умалишенных. Вошли и застали хлыстов на молитве. Две старшие дочери Попова были там. Спросили, где же младшая, и произвели в доме обыск. Она была заперта в погребе, полуживая от изнурения и до такой степени слабая, что опасались за ее жизнь. Ее отвезли в Смольный, где на другой день ее посетила Императрица. Она все рассказала, она ужасно боялась Татариновой. Говорят, что взгляд Татариновой приводил людей в оцепенение; Арендт и Рюль говорили, что она их магнетизировала. Она уверяла, что своим взглядом излечивала горбатых[130]130
Горбатые просили, чтобы их секли по горбу, что это их облегчает. Вероятно, г-жа Татаринова гипнотизировала тех, кто этому поддавался. Еще в 1836 году она совершала в Петербурге так называемые излечения горбатых. Ее выпустили из монастыря, но против нее было возбуждено новое дело, и ее опять заключили в монастырь.
[Закрыть].
* * *
Кошет[131]131
М-llе Кочетова осталась при дворе после кончины Марии Феодоровны. Ее очень уважали за прямоту. Она была большая оригиналка и независимых убеждений. Мария Феодоровна скончалась в ноябре 1828 года. До самого конца Императрица сохранила прекрасное здоровье и большую подвижность. Она была до того щедра, что даже делала долги для своих добрых дел, а сыновья ее уплачивали эти долги из собственных денег. Ее дети боготворили свою мать. С 1801 года, года кончины Павла I, она посвятила себя благотворительности. Россия ей многим обязана.
[Закрыть] провела у меня вечер и рассказывала о привидениях. Она утверждает, что существует всадник, который проскакивает в галоп по дворцовому двору в Царском Селе. Он появляется со времен Елизаветы Петровны и всегда предрекает какое-нибудь несчастье. Его конь падает у главной решетки. Его видят, слышат галоп, и вдруг он исчезает. Она клянется, что всадника видели накануне смерти Екатерины, Павла и покойного Государя. В Гатчине появляется человек с сабельною раною в груди. Х.Х. клянется, что видел его в коридорах. Императрица рассказывала мне историю «Белой женщины». Она из предков Гогенцоллернов, некая графиня Берта фон Орламюнде. Раз она явилась в Аморбахе молодой принцессе и сказала ей: «Guten Abend, Ihr Liebenden»[132]132
Обычное приветствие между принцессами царской крови до XIX столетия.
[Закрыть] («Добрый вечер. Ваше Высочество» [нем.]). Она предрекает смерть в доме Гогенцоллернов. В Петергофе существует гауптвахта, где появляются привидения. Вяземский уверяет, что там назначались свидания. Это та гауптвахта, откуда Екатерина отправилась в Петербург, когда арестовали Петра III в Ораниенбауме. В Ораниенбауме также была гауптвахта, где появлялось привидение, одетое в голштинский мундир. Там тоже было место свиданий. Кошет также верит в монаха, который появляется на террасе у «Самсона» в Петергофе; она уверяет, что этот монах явился покойному Государю перед его отъездом в Таганрог. Когда мы засмеялись, Кошет рассердилась. Тогда Пушкин сказал ей: «Я желал бы видеть Петра Великого, скачущего в светлую ночь верхом по Петрополю. Это было бы чудесно. Как он был бы величествен. Я постоянно об этом мечтаю с тех пор, как Виельгорский рассказал мне про сон Батурина[133]133
Этот Батурин видел в 1812 году сон. Это был какой-то иллюминат. Когда опасались, что французы вступят в Петербург, поговаривали о том, чтобы снять статую Петра Великого. Тогда Батурин сообщил Голицыну, что статуя проскакала ночью во дворец Государя, где заявила, что, пока она будет стоять на своем гранитном пьедестале, до тех пор столица будет в безопасности. Вследствие этого сна статую оставили на месте. Se non è vero, è ven trovato. Возможно, что это было зерном знаменитой сцены с сумасшедшим в «Медном всаднике». Во всяком случае, это интересный рассказ, характеризующий настроение умов в 1812 году. Так как Наполеон похитил венецианских коней и памятники искусства из Ватикана, то опасались за Петербург и из Эрмитажа вынесли драгоценности.
[Закрыть], в 1812 году. Голицын передал об этом покойному Государю. Вот это сон!» Одному Пушкину являются такие поэтические, величественные, поразительные видения и такие оригинальные мысли. Кошет перекрестилась и воскликнула: «Спаси меня Боже это увидеть. Как вы меня пугаете. Мы живем так близко от памятника, что мне ночью приснятся ужасы». Кошет была в большом ударе; она нам рассказала, что Ласунский помнит похороны Екатерины и как Павел Петрович велел принести из Александро-Невской Лавры гроб отца своего и также поставить на катафалке. Репнин сказал ему: «Сын казался более взбешенным, чем огорченным, и на всех смотрел свысока. Императрица Мария горько плакала, как и мы. Что за сердечная женщина была эта Екатерина. Вы знаете только о ее уме и о слабостях, а мы знали и сердце ее». Императрица-Мать сказала то же самое Кошет. Несчастный Павел был ненормален. Как только было ветрено, он уже волновался, и m-lle Нелидова поддерживала ему голову. Екатерина умела быть очень великодушной. Она была влюблена в Мамонова, а когда узнала, что он влюбился в княжну Щербатову, то повенчала их, назначив ей приданое. Она скорбела о Мамонове, но не мстила своей сопернице.
Мы рассказали Сверчку, что Великий Князь Михаил Павлович сжег «красные тетради» Императрицы-Матери – дневник, начатый ею еще в Монбельяре и веденный ею до самой смерти. Она приказала в своем завещании «сжечь все, не читая». Государь поручил это Великому Князю. Они не посмели вскрыть ни одной тетради. Это очень благородно! но какая жалость; там было все: путешествие графа и графини дю-Нор и пребывание у Людовика XVI. Равным образом были сожжены и письма короля, королевы, герцогини Ангулемской и королевы Луизы Прусской, так как Императрица отметила те письма, которые можно было прочесть и сохранить.
На днях Его Величество сказал Пушкину:
– Мне хотелось бы, чтобы Нидерландский король подарил мне дом Петра Великого в Саардаме.
– Если он подарит его Вашему Величеству, – ответил Искра, – я попрошусь в дворники.
Государь рассмеялся и сказал:
– Я согласен, а пока я поручаю тебе быть его историографом и разрешаю тебе заниматься в архивах.
Искра ничего лучшего не желает. Он в восторге[134]134
Моя мать сделала юмористическое замечание по этому поводу: Уваров, недовольный тем, что Государь назначил Пушкина на место Карамзина, жаловался Карамзиной, думая ей угодить. Она отвечала очень сухо: «Я в восторге; если бы Государь только знал, какое он доставляет мне удовольствие. Муж мой также одобрил бы его». Моя мать прибавляет: «Уваров полагает, что надо быть лысым, беззубым, пузатым и носить очки, чтобы быть ученым! Или же быть Уваровым, или по меньшей мере Устряловым».
[Закрыть].
* * *
У меня был гр. Моден. Говорили о пребывании Людовика XVIII в Митаве, и граф рассказал мне про герцогиню Ангулемскую следующий случай. Она вообще избегала всякого намека на свое заключение в Темпле и как можно реже говорила об этом. Двор находился в Сен-Клу (кажется, в 1819 году). Герцогиня встретилась в парке с садовником, он ей поклонился, герцогиня пристально взглянула на него и упала в обморок. Пришлось отнести ее в замок. Вечером она послала садовнику денег, а короля просила перевести его на другое место. Вид его слишком расстраивал ее, так как оказалось, что садовник прежде был одним из тюремных сторожей в Темпле и ему случалось мести пол в ее тюрьме. Он обходился с нею очень гуманно и вежливо, никогда не заговаривал с нею и когда встречался наедине, то снимал перед нею шапку; прочие никогда этого не делали и даже садились на единственный стул в ее камере. Герцогиня велела поблагодарить его за гуманное обхождение. Сколько должна была она перестрадать, чтобы после стольких лет взволноваться до такой степени! Великий Князь говорил мне, что Император Александр очень уважал герцога и герцогиню Ангулемских. Он не любил короля Людовика XVIII, бывшего страшным эгоистом, а гр. д’Артуа ему был симпатичен. Талейран внушал ему недоверие. У него был очень тонкий ум, но он был большой циник. В сущности, он предал всех, кому служил: Директорию, Наполеона и Бурбонов.
– Эти господа называются, – сказал мне Великий Князь, – политическими и практическими людьми, а я их зову иначе.
Говорили про г-жу Крюднер. Она познакомилась с Государем после Венского конгресса, в эпоху 100 дней, и видела его раз в Штутгарте, а затем в Гейдельберге. Они долго беседовали, и она последовала за ним в Париж. В 1815 году Меттерних, ненавидевший г-жу Крюднер и не любивший барона Штейна, сделал все возможное, чтобы перессорить их с Государем. Государь не любил Меттерниха и Кастельри, но относился с уважением к его преданности своему отечеству. Если бы не Россия и не посредничество Государя, они в 1815 году разорвали бы Францию на части. Одно время Государь был очарован Наполеоном, но недолго. Уже Император Павел хотел было заключить союз с генералом Бонапарте.
– C’était un diable d’homme (Это не человек, а дьявол [фр.]), – говорил Михаил Павлович, а Меттерних, боявшийся его, недолюбливал Бурбонов.
Веллингтона очень уважали; он был благороден во всем. На Венском конгрессе престарелый князь де Линь походил на привидение из прошлого столетия. Про Екатерину он говорил с благоговением, он не забыл своего пребывания в Петербурге. Поццо ди-Борго был откровенен, не будучи искренним; Блюхер был настоящим капралом и очень недалек. Поццо был даровит. В то время совсем напрасно не отдавали должного генералу Йорку[135]135
Его даже обвинили в измене, но впоследствии к нему отнеслись справедливо.
[Закрыть]. Английский регент сильно коробил Государя своими рискованными выражениями, он был дурно воспитан. В 1814 году Государь съездил в Мальмезон; он посетил несчастную Жозефину, а два дня спустя она скончалась от жабы. Положение принца Евгения было ужасно, его очень жалели в Вене, его жена была очаровательна, она отличалась чувством собственного достоинства и нравственными качествами.
Я много расспрашивала Великого Князя, потому что все это очень интересует Пушкина; он любит историю и просил меня записывать все, что услышу об исторических лицах и о подробностях, мало известных публике. Он находит, что Великий Князь очень остроумен от природы и что он, не задумываясь, одним словом умеет охарактеризовать человека и, без всякого недоброжелательства, быстро подмечает его слабую сторону.
Затем явился Ланжерон[136]136
Гр. Ланжерон был, после герцога Ришелье, одесским генерал-губернатором. Он до того был рассеян, что говорил моей матери при генерале Арнольди (ее отчиме): «Как жаль, дитя мое, что ваша матушка предпочла мне этого хромоногого черта, а то я был бы вашим отчимом». Ему хотелось жениться на моей бабушке. Генерал Арнольди представлял собой также своеобразный тип. Когда под Лейпцигом ему ядром оторвало ногу и она держалась только на одном мускуле, он еще около четверти часа просидел на лошади, истекая кровью; наконец он лишился чувств и пришел в себя уже после того, как у него отняли ногу до половины бедра. Тем не менее он участвовал в кампании 1828–1829 годов под начальством Дибича. Его обходное движение во главе артиллерии решило судьбу сражения при Кулефче, после чего турки, оттесненные к Адрианополю, подписали Адрианопольский мир. Он был большой поклонник дисциплины по отношению к своим родным детям и к пасынкам. Он наводил страх на солдат, хотя заботился об их пище и платье; он был безжалостен к поставщикам армии, если они воровали. Он даже приказывал бить их палками, и проворовавшегося солдата секли безжалостно. Он был известен своим вспыльчивым и жестоким нравом. Вместе с тем он ни с кем не стеснялся. Так, раз Государь Николай Павлович встретил его в Летнем саду и назвал его Захаржевским. Так звали генерала, у которого отняли ногу вследствие несчастного случая. Арнольди, ростом с Государя, сухой, лицом похожий на угрюмого льва, с громадными усищами, был полным ему контрастом. Государь перепутал имена, и Арнольди не двинулся. Увидя это, Государь подошел к нему и сказал, смеясь: «Я ошибся в имени, Арнольди, я назвал тебя Захаржевским, меня сбила с толку твоя деревянная нога; в настоящее время в Петербурге без ноги только ты, Бистром и он». Арнольди поклонился: «Бистром оставил свою ногу на поле сражения, я – при Лейпциге, Ваше Величество, а между мною и Захаржевским та разница, что я командую артиллерийскими парками, а Захаржевский подметает парк в Царском Селе!» – «Какой ворчун, – ответил ему Государь, – извини меня за рассеянность, я очень занят». «Ворчун» тогда успокоился.
[Закрыть], и мы с ним говорили о милом герцоге (Ришелье), который всегда всеми был любим и уважаем. Великий Князь говорит про него: «Это был рыцарь с благородным сердцем и прекрасною душою, и Россия обязана ему процветанием Одессы».
После этого он дразнил Ланжерона его рассеянностью и сказал ему:
– Признайтесь, что вы заперли Государя в вашем рабочем кабинете.
На это Ланжерон ответил:
– Увы, это правда; я уступил мою квартиру Его Величеству, а когда он разрешил мне удалиться, то по привычке уходя запирать кабинет, я повернул ключ, положил его себе в карман и повел гулять моих собак. Через час Государь позвонил. Дверь оказалась запертой; меня искали повсюду и наконец нашли на морском берегу. Я откровенно признался Его Величеству, что я про него совершенно забыл. С обычной добротой и милостью Государь сказал мне: «В другой раз, любезный Ланжерон, хоть доверьте мне ключ».
Говорят, что Император Александр умер от крымской лихорадки, которой он заболел, когда однажды вечером посетил могилу г-жи Крюднер. Она удалилась в Гаспару к своей приятельнице кн. Голицыной. Ее другой верный друг, кн. Мещерская, жила в Криасе. Государь посетил их, а когда возвращался в Гаспару, с ним сделался озноб. Вилье[137]137
Тогда не было хинина. Крымская лихорадка была мало известна. Сэр Джеймс Вилье был доктором при Александре I и хирургом в нашей армии в 1812 году.
[Закрыть] прописал ему хинную корку по совету этих дам, так как в Крыму все страдают лихорадками. Затем Государь очень утомился, и у него сделалась рожа, к чему он был склонен, как и моя мать. Мой отчим говорил мне, что, когда Государь приехал в Таганрог[138]138
Генерал Арнольди командовал артиллерией в Таганроге в 1825 году.
[Закрыть], у него сделался сильный припадок лихорадки и рожа возобновилась. Он не был особенно крепкого здоровья.
Я просила Ланжерона не говорить дурно о моем beau-père (отчиме [фр.]) в его присутствии; он зовет его «хромым чертом», это меня смущает.
Затем говорили о княгине Ливен[139]139
Кн. Ливен – воспитательница дочерей Императора Павла. Она тогда только что умерла. Ее сына звали Жан-Жаком, он был рыжим, и известная острота сочинена на его счет.
[Закрыть], и Великий Князь сказал:
– Я очень люблю Жан-Жака, он скучен, но зато олицетворенное прямодушие.
Рассеянный Ланжерон всегда точно с неба свалится; он обратился к Великому Князю и с негодованием спросил:
– Как, Ваше Высочество, вы любите Жан-Жака, вы находите его достойным уважения, находите в нем прямодушие? Он вовсе не скучный, вы, значит, не читали его «Confessions»! Достойный уважения, это уж слишком!
Великий Князь и Моден разразились хохотом, и Михаил Павлович спросил Ланжерона, о ком говорили.
– Кажется, о Жан-Жаке? – ответил Ланжерон с жеманным видом. – Я совсем не рассеян теперь.
– Да, – ответил Великий Князь, – о Жан-Жаке, но мой Жан-Жак хотя и рыжий (roux), и его даже находят глупым (sot), но все-таки он не Жан-Жак Руссо, а сын нашей доброй княгини Ливен, которая драла меня за уши в детстве и все-таки была обворожительна.
Ланжерон вздохнул:
– Да, ведь в самом деле вы говорили о княгине Ливен, я, кажется, думал о чем-то другом.
– О чем же вы думали? – спросил его Моден.
– Думал о том проклятом ключе; если бы я его потерял, пришлось бы звать слесаря, чтобы открыть дверь, и вся Одесса узнала бы, что я запер Государя. Я прослыл бы за дурака, все бы смеялись надо мной. К счастью, никто ничего не узнал[140]140
Ланжерон заблуждался: весь город знал про это. Он славился своею рассеянностью. У него была привычка говорить громко со своими собаками и рассуждать с ними о людях; он говорил им все, что приходило ему в голову. У него была страсть к мопсам, и он говорил с ними на русско-французском языке. Он рассказывал моей матери о своих браках. «Моя первая жена, – говорил он, – была m-lle de la Vaux Pallièrc. Я женился на ней, когда она была еще очень молода, четырнадцати лет; мы немного с ней виделись: я эмигрировал, а она умерла во Франции, но в собственной постели. После этого у меня родился сын от прелестной женщины, но не от жены; это Одран Ланжерон. Когда ваша дорогая матушка овдовела, я явился к ней, бросился даже перед ней на колени, а она мне сказала: „Встаньте, Ланжерон, если бы вы и десять лет простояли передо мной на коленях, вы бы и тогда меня не тронули!“ Да, это так. Тогда я встретил вторую m-me де Ланжерон. M-lle de la Vaux Pallièrc была незнатного происхождения, но вторая m-me де Ланжерон была безо всякого происхождения; это девица Бример. Я не знаю, какой черт дернул меня жениться на ней, она некрасива и глупа. Император Александр спросил меня: „Где вы отыскали ее, Ланжерон?“ Я ответил ему: „В Черном море, Государь. Впрочем, я видаюсь с ней как можно меньше“». Эксцентричность Ланжерона была известна.
[Закрыть].
* * *
Вчера вечером из Лондона приехал курьер и привез известие, что «reform bill» прошел в палате общин[141]141
«Парламентская реформа» 1832 года. (Примеч. переводчика изд. 1894 г.)
[Закрыть]. Государь послал за Нессельроде; они долго разговаривали.
Так как я должна была ехать на бал к Лаваль, Императрица позволила мне идти наверх в девять часов, чтобы одеться; она сказала, чтобы я пришла показаться, потому что я надевала подаренное ею платье из розового крепа, вышитого серебром. Государь сказал мне: «Если Пушкин будет на балу, объявите ему, что билль прошел, он думал, что не пройдет». Я приехала на бал очень поздно; в первой же комнате я встретила Пушкина и передала ему поручение Государя. Сверчок сейчас же побежал отыскивать леди Гейтсбери; она ярая тори. Пушкин объявил ей новость и иронически поздравил се. Она рассвирепела и крикнула ему: «Вы такой же ужасный радикал, как Байрон; все поэты радикалы». Это так понравилось Пушкину, что он смеялся до слез. Я танцевала мазурку с «ужасным радикалом».
Английский курьер еще не приехал[142]142
Он прибыл только на следующее утро.
[Закрыть]. Гейтсбери подошел ко мне и спросил меня, что говорил Государь о reform bill’е. Я ответила ему:
– Его Величество не говорит об этом с фрейлинами. Он разговаривал с гр. Нессельроде, а я не интересуюсь политикой.
– Неужели? – сказал Гейтсбери. – Это странно.
Леди Гейтсбери была так озабочена, что забыла разбранить Сесиль (мисс Акорт), танцевавшую мазурку с М., которого леди Гейтсбери, Бог знает за что, ненавидит[143]143
Моя мать была дружна с мисс Акорт, дочерью лорда Гейтсбери. М. – это граф Моргенстиерна, один шведский дипломат; он ухаживал за Сесиль, и леди Г. его возненавидела. Он был дружен с ганноверским дипломатом де Малорти, ставшим позже обер-гофмейстером короля Георга. Чтобы отомстить этим двум друзьям, леди Гейтсбери прозвала Малорти «mal rôti» (недожаренный [фр.]), а Моргенстиерна «mal bâti» (недоделанный [фр.]). Она была очень забавная и очень горячая. Пушкин любил ее поддразнить и разозлить. Лорд Гейтсбери был и умный, и очень оригинальный, как и многие из англичан. Пушкин с удовольствием встречался с дипломатами трех великих держав того времени: Англии, Франции и Австрии. Граф Фикельмон, m-r де Барант и англичане очень ценили Пушкина.
Здесь говорится о первом чтении реформ-билля, когда он прошел в палате общин большинством только одного голоса.
[Закрыть].
* * *
Маленький вечер, интимный и прелестный. Государь очень разговорчив, в отличном настроении и даже весел. Михаил Павлович сказал ему, что следствие над X. кончено; оказалось, что X. оклеветан, в полку не найдено ни беспорядков, ни казнокрадства. Великий Князь сам производил следствие. Офицеры, унтер-офицеры и старые солдаты были возмущены тем, что оклеветали их полковника. Один из старых солдат с шевронами сказал Великому Князю: «Нам завидуют, что у нас такой полковник, и хотят отнять его у нас».
Все это привело Государя в хорошее настроение. Великий Князь провел вечер у Императрицы; министров не было. Нессельроде пришел только на минуту, чтобы прочитать Его Величеству депешу, так как в этот вечер отсылают курьера в Вену и Нессельроде отправился, чтобы отпустить его. Государь пришел к Императрице в 9 часов. Войдя, он сказал ей:
– Сегодня вечером я в отпуску. Могу отдохнуть.
– Тем лучше, – ответила Императрица, – это так редко. Когда К. П., К.Т. и другие у вас, то остаются до самого ужина.
На вечере были: Жуковский, Сесиль Ф.[144]144
Моя мать почти всегда упоминает о присутствующих лицах. Сесиль, друг молодости Императрицы баронесса Фридерихс (рожденная графиня Туровская). Она приехала в Россию и вышла замуж за барона Фридерихса, одного из шталмейстеров двора. Его служба была очень хлопотливая, так как обер-шталмейстер бывает всегда старик и появляется только на больших церемониях, как и обер-шенк, обер-камергер, обер-церемониймейстер, обер-егермейстер. «Equerry» английского двора также многочисленны. В деревне приглашали по вечерам мало народу, только близких. Именно на таких вечерах велись долгие разговоры, особенно в деревне, тогда как в городе приглашалось по вечерам много народу.
[Закрыть] и Виельгорский, пришедший, чтобы читать; я дежурила. Другие фрейлины, родители которых живут не во дворце, ездят к ним, ездят и в театр гораздо чаще меня, так как театр вызывает у меня мигрень; я езжу только на очень хорошие пьесы, а главное, на хорошие оперы[145]145
М-me де Ховен смотрела заранее русские, французские и немецкие пьесы, чтобы судить, могут ли смотреть их молодые девушки, и сопровождала их в большую царскую ложу против сцены. Боковые ложи в бенуаре и в бельэтаже направо от сцены предназначались для царской фамилии. Налево от сцены – ложи министра двора и директора императорских театров (в бенуаре). Царская фамилия часто ездила в нижнюю ложу. Великие Князья и Великие Княгини ездили в эту ложу, а также и в среднюю.
[Закрыть]. Императрица так добра, что часто спрашивает у дежурной фрейлины: не желает ли она быть свободной вечером, и избавляет ее от вечернего дежурства, а я дежурю так охотно! Я всегда могу позже поехать к Карамзиным или сделать вечер у себя на «чердаке»[146]146
Фрейлины жили в третьем этаже, но так как комнаты во дворце очень высокие, то фрейлины говорили: «Мы живем на чердаке». По числу ступеней это равнялось 5-му этажу.
[Закрыть]. Императрица, отпуская меня, часто говорит: «Я полагаю, что вы с Жуковским едете к милым Карамзиным. Пожелайте от меня Екатерине Андреевне всего хорошего».
* * *
Вчера Его Величество заставил меня прочесть строфы из «Евгения Онегина», доверенные мне Пушкиным. Находят, что я читаю хорошо. Государь был доволен чтением, он терпеть не может напыщенности. Он спросил меня:
– Составляют ли эти стихи конец песни? Мне кажется, что последняя песня, которую я читал, была закончена.
– Это наброски, Ваше Величество, – ответила я, – Пушкин только хотел, чтобы вы прочли их на случай, если он напишет еще главу, куда они войдут. Он утверждает, что часто видит во сне стихи и что они одни только и хороши.
Государь улыбнулся:
– Скажите ему от меня, что я прошу его видеть таких снов побольше, так как для русской поэзии это прекрасные сны.
Тогда я сказала:
– Пушкин говорил мне, что русский язык алмаз и что он подходит ко всякого рода поэзии.
Государь опять улыбнулся:
– Алмаз для того, кто умеет его гранить.
Он оставил у себя стихи, чтобы перечитать их.
* * *
Императрица передала мне стихи Пушкина от Государя, уехавшего в Гатчину на чьи-то похороны. Она заставила меня перечитать эти стихи и объяснить то, что нехорошо понимала. Затем она сказала мне, что удивляется, как мало восхищаются талантом Пушкина, что в Германии Шиллер и Гёте прославились очень быстро, а русское общество слишком равнодушно к родной литературе. Она, которая так любит великих немецких поэтов и знает наизусть множество стихов Шиллера и Гёте, была поражена равнодушием окружающих ее людей к русским поэтам. Сесиль тоже была поражена этим, когда приехала в Петербург.
* * *
Сегодня вечером Государь был расположен рассказывать. Не было министров с бумагами, и он отдыхал. Нас было мало, я дежурила вместо Софи[147]147
M-llе Кутузова; она была очень плохого здоровья. Была еще Софи Молен и Софи Урусова, но здесь говорится о Кутузовой.
[Закрыть], – она больна. Жуковский, Сесиль и Виельгорский приглашались каждый вечер zum Tee und Suppe (на чай и ужин [нем.]).
Государь говорил с Жуковским о Веймаре. Он видел Гёте у Марии Павловны.
Императрица сказала ему:
– Черненькая говорила мне как-то, что хотела бы видеть вас вместе с Гёте.
– Почему? – спросил Государь.
– Скажите почему, – прибавила Императрица.
– Потому что у вас античная и классическая голова, – ответила я, – голова Юпитера, а у Гёте также античная и классическая голова; Пушкин говорил мне, что это очень редко встречается.
Государь засмеялся:
– Правда, у меня голова Юпитера? какого же: Громовержца, Капитолийского или Статора? их много!
– Когда Ваше Величество разгневаны, то Громовержца, – ответила я, – а вообще – Капитолийского.
Государь засмеялся еще больше:
– У Гёте в самом деле голова Юпитера Статора, прекрасная голова. Он произвел на меня сильное впечатление своим спокойствием, своим серьезным и безмятежным видом; он внушает почтение своим спокойствием и простыми манерами. Я был еще очень молод, когда увидал его, мне еще не о чем было разговаривать с ним, я слушал старших. Я никогда не слыхал от него ни одной банальной фразы. Он говорил обо всем с оригинальностью гениального человека, человека с собственными, а не заимствованными мыслями. В один из вечеров он рассказал нам о своем свидании с Наполеоном и прибавил, что он был изумлен, когда узнал, что Наполеон читал «Вертера» с удовольствием.
«По-моему, – сказал Гёте, – он должен был только читать „Илиаду“ и „Неистового Роланда“».
Затем Гёте рассказывал, что у Наполеона была классическая голова, что он походил на бюст молодого Августа, а Байрон был похож на греческого бога. У Гёте была копия портрета Байрона еще очень молодого. Он нам показывал его.
– Ваше Величество видели Байрона в Лондоне в 1814 году? – спросил Жуковский.
– Мне его показали в парке; он сидел на скамье. Он поразил меня своей красотой, особенно своими глазами, лбом и ртом. Я прошел мимо скамьи, он встал и поклонился мне. Затем я видел, как он пошел, ужасно хромая, но он был так хорошо сложен, за исключением хромой ноги, что, даже прихрамывая, не был неграциозен. Говорят, он очень страдал от этой ноги. Байрон ненавидел регента, а так как этот принц внушал и мне такое же отвращение, как и моему брату, то Байрон стал мне еще симпатичнее, хотя я и не одобрял его образа жизни. Но и все общество того времени не заслуживало одобрения. Регент не любил никого, даже дочь.
– Расскажите им про тот вечер, когда у вашей сестры говорили о «Вертере», – сказала Императрица.
Государь улыбнулся и согласился.
– Я вижу, что это интересует Вечную Принцессу Жуковского, – сказал он. – Гёте спросил меня, что я думаю о «Страданиях Вертера» и о самом Вертере. Признаюсь, это меня смутило немного. Как в мои года высказать Гёте мнение о его книге! Но он настаивал, и я сказал, что Вертер показался мне слабохарактерным человеком, мнящим себя сильным, и что, может быть, Шарлотта была бы несчастна с ним, потому что она была женщина, желавшая и уважать, и любить в одно и то же время, и это чувство облагораживало ее. Представьте, что Гёте был очень доволен моим ответом. Он рассказал нам, что в Ветцларе он знал всех действующих лиц этого романа, что Вертер – это некий Жерузалем, судя по имени, должно быть, еврей; он познакомился с ним в маленьком городке. Шарлотта была дочерью некого господина Буффа. Она имела большой успех в Ветцларе, все за ней ухаживали, не исключая и Гёте. Сестра говорила мне, что он в совершенстве описал жизнь немецких буржуа того времени; в Германии и до сих пор живут с той же патриархальной простотой. Я сказал Гёте, что меня именно очень заинтересовало описание этого общества. Сестра сказала мне также, что Гёте был влюблен в Шарлотту, но уступил ее своему другу Кестнеру, бывшему тогда уже ее женихом, а сам уехал во Франкфурт, потому что не хотел жениться на Шарлотте. Иные думают, что Жерузалем лишил себя жизни от любви к m-me Кестнер, а иные, что от любви к другой даме. Это был слабый, романтичный характер; он заинтересовал Гёте как тип. Гёте с самых молодых лет был так наблюдателен, что ничто не ускользало от него. Мне нравится больше всего в его романе описание характеров, даже наименее поэтических, и описание жизни немецкого общества. Гёте говорил при мне, что он никогда не думал выставлять самоубийство интересным и что он считает самоубийство малодушием. Я был совершенно согласен с ним. Не его вина, если Вертеру подражали и если были настолько сентиментальны и романтичны. Он именно дал в Шарлотте тип женщины с сердцем и нисколько не романтичной, тип добродетельной женщины не только доброй и благородной, но вместе с тем очень остроумной и веселой; она остается верна своему жениху и вообще гораздо выше Вертера.
– Говорят, что Шарлотта любила Гёте, – сказал Жуковский, – но не хотела отказывать Кестнеру, так как она его знала раньше Гёте, который был очень дружен с ним. Но Шлегель мне говорил, что Гёте никогда не женился бы на ней; у него тогда еще не было ни малейших матримониальных наклонностей.
Государь улыбнулся:
– И он очень хорошо сделал, что уехал из Ветцлара и написал свой роман, взяв героем этого Жерузалема, которого он близко знал и на которого сам нисколько не похож. Я не думаю, чтобы Гёте был когда-нибудь сентиментален и романтичен, это не в его духе. Он уже с самых молодых лет был слишком серьезен.
– Мария Павловна знала мать Гёте и очень уважала ее, – сказала Императрица. – Гёте сохранял к своей матери теплые чувства, но в последние годы редко видал ее. М-me Гёте обожала своего сына и всегда предсказывала, что ее Вольфганг будет знаменит; она была оригинальная женщина, с природным умом, с Mutterwitz (смекалкой [нем.]), но она мало читала. Сестра Гёте была замечательная женщина, но очень несчастная. Гёте искренно любил ее, и она была ему предана.
Жуковский. Он говорил мне, что смерть сестры была одним из величайших несчастий его жизни. Но у него была натура не экспансивная, он не часто говорил о том, что чувствовал.
Императрица. Отец Гёте был настоящим деспотом в семье. Он не хотел, чтобы его сын писал, а дочь он мучил постоянно; это был ein alter Zopf (пережиток прошлого [нем.]). Он восхищался Готшедом гораздо больше, чем сыном.
– Гёте обвинили, – сказал затем Государь, – в том, что он был слишком холодным, потому что у него была очень холодная и серьезная внешность. Моя сестра, Мария Павловна, нам говорила, что Гёте во всю жизнь любил серьезно только двух женщин: мать и сестру, а все остальные отношения были лишь поэтическими приключениями.
– Однако одно из таких поэтических приключений окончилось женитьбой, – заметила Императрица.
– Правда, – ответил Государь, – но он никогда не терял голову из-за женщины, в противоположность лорду Байрону, у которого поэтические приключения были иногда и продолжительнее. А я все-таки убежден, что Байрон помирился бы с женой, если бы она согласилась на это. Он был привязан к своему ребенку, но голова его вечно пылала.
Жуковский. А голова Гёте всегда была спокойна, это видно по его лицу.
Государь. В нем много благородства. Александра Осиповна[148]148
Моя мать.
[Закрыть] и Пушкин правы, говоря, что у него голова Юпитера Статора.
Виельгорский спросил Его Величество, говорил ли Гёте о политике. Государь рассказал, что раз великая герцогиня Веймарская высказала очень практичный взгляд: «Константинополь должен быть свободным городом, как Франкфурт». На это Гёте ответил: «Я того же мнения, греки им владели и потеряли его, а настоящая Греция – в Афинах».
– Это совершенно верно, – прибавил Государь, – это было сказано очень хорошо, очень разумно, очень практично.
Государь так хорошо, так просто говорит; это тоже отлично сказано. Наш разговор заинтересует Сверчка; я для него, раньше чем ложиться спать, записываю все это.
* * *
Вчера вечером я привела Виельгорского на «чердак». Он читал у Ее Величества. Она была утомлена и рано отпустила нас. У себя я застала Асмодея, сына Андрея и друзей. В ожидании моем благородная компания никогда не скучает. Они заставляют Марью Савельевну рассказывать анекдоты про Императрицу Елизавету Петровну и Екатерину Великую, так как Марья Савельевна много знает из прошлого. Ее бабушка была доверенным лицом у Чоглоковой, статс-дамы Екатерины в то время, когда она еще была Великой Княгиней. Мать Марьи Савельевны служила у Императрицы Екатерины. Ей покровительствовала Марья Саввишна Перекусихина (1-я камер-фрау Императрицы Екатерины). Она знавала Храповицкого. Перекусихина даже была крестной матерью Марьи Савельевны. В. говорит, что записки Перекусихиной сохранились в семействе К., которые их не показывают. Они должны быть искренни! Асмодей объявил, что никакая мать не разрешила бы их читать своей дочери. Он спросил меня про историю с померанцевым деревом[149]149
Раз Николай Павлович увидал в отдаленной аллее царскосельского парка, за павильоном, часового и спросил его: «Что ты здесь делаешь?» Солдат отвечал: «Я на часах при померанце». – «Какой померанец? Где он?» – «Ваше Величество, померанца нет, я его не видал». Государь был так заинтригован, что спросил кн. Петра Волконского, министра двора, бывшего начальником Генерального штаба при его брате, зачем поставили часового около померанца? Волконский не сумел ничего сказать. Навели справки, и наконец очень пожилой лакей, еще времен Императрицы Екатерины, разъяснил эту тайну. Вокруг павильона были поставлены в ящиках померанцевые деревья; они стали цвести, и появился один померанец. Желая знать, созреет ли он, Императрица Екатерина приказала оберегать дерево и поставить его в стороне за павильоном, у озера. На следующий год дерево унесли, а часовой остался. Государь обошел парк и сократил и других настолько же полезных часовых. В дворцовых кладовых на даче было найдено большое количество невскрытых ящиков. В них оказались художественные предметы, фарфор, и про них совершенно забыли.
[Закрыть], рассмешившую Искру до слез. Затем он просил меня рассказать, что произошло в утро казни пяти декабристов и о моем разговоре[150]150
Моя мать прогуливалась по парку и увидала на берегу озера Государя. Он кидал платок своей собаке, ирландскому ретриверу, а та бросалась за ним в воду. Государь был бледен и мрачен. Прибежал лакей и доложил о прибытии фельдъегеря. Государь направился большими шагами ко дворцу. Собака, которая была в воде, принесла лакею платок Государя. Когда моя мать вернулась с прогулки, Марья Савельевна объявила ей, что курьер привез известие о казни пяти декабристов и что Государь, расспросив его, отправился в часовню и велел отслужить панихиду, на которой он присутствовал, а затем заперся в своем кабинете. Вечером в Царское приехал Великий Князь Михаил Павлович, и оба брата только поздно вечером пожаловали к чаю Императрицы. Моя мать записала этот вечер. Императрице очень нездоровилось (она была беременна). Государь, очень бледный и грустный, почти не разговаривал; Великий Князь казался озабоченным и мрачным. Приехал старик Лопухин, а Молен сказал мне, что Бенкендорф стоял за смертную казнь для примера (sic). Это ужасно. Он председательствовал в следственной комиссии. Кн. Лопухин был тогда канцлером. Следственная комиссия приговорила к смерти 19 декабристов, а Государь отметил: «Первых пять человек расстрелять, а остальных 14 сослать на каторжные работы». Он с трудом согласился на повешение их, так как они были военные, офицеры.
[Закрыть] с Государем про моего дядю Лорера. Это очень его поразило. Пушкин прочитал нам стихи, которые я и передам Государю, когда они будут переписаны, а пока он кругом нарисовал чертиков и карикатурные портреты. Я никого не встречала, кто бы придавал себе меньшее значение. Он напишет образцовое произведение, а на полях нарисует чертенка и собственную карикатуру в виде негра, в память предка Ганнибала. Я спросила его: отчего он назывался Ганнибалом? Он ответил: «В память Пунических войн».
* * *
Пушкин навестил меня с Хомяковым и спросил, могу ли я повторить недавний разговор о Гёте и Константинополе. Я согласилась, но попросила Хомякова не повторять его нигде. Пушкину я могу передавать, что говорит Его Величество, тем более что Государь беседует с ним очень откровенно. Хомяков обещал хранить молчание, и я повторила то, что Гёте сказал о греках и о Константинополе (или, вернее, Византии). Затем Хомяков говорил о славянских народах и сообщил мне о них интересные вещи. Я знаю, что Жуковский дает деньги на образование одного черногорского студента и просил меня устроить сбор пожертвований в пользу одного сербского студента[151]151
Письмо Жуковского к моей матери, в котором говорится о сборе пожертвований в пользу одного серба, уже было напечатано.
[Закрыть]. Я узнала много нового про южных славян, про их владыку, их поэзию.
Говоря о Византии, Пушкин сказал:
– Существует три города, принадлежащие всему христианству: Иерусалим, Константинополь и Рим, и они не должны бы принадлежать ни одному государству в отдельности. Для евреев, как для христиан и даже для мусульман, Иерусалим является городом священным перед всеми остальными; для одной части христиан Рим составляет религиозный центр, а для другой – Константинополь. Собор Святой Софии – один из древнейших христианских соборов.
А между тем эти три города обагрялись кровью с самого дня, когда божественная кровь потекла по кресту, и есть основание полагать, что владение этими тремя городами еще причинит войны, раздоры и ссоры. Эта война окончится, когда церкви перестанут ссориться. Надо надеяться, что собор Св. Софии будет возвращен христианам и что он примирится со Св. Петром, а также что к тому времени Иерусалим уже не будет турецкою провинциею. Ни один из этих городов не представляет собой политической столицы. Знаете ли вы пророчество: «Когда Рим падет, миру придет конец».
Хомяков отвечал:
– Ссоры между двумя Римами были причиной неуспеха крестовых походов; другою ошибкою было создание иерусалимского короля.
Затем Пушкин говорил о своей кавказской поэме Галуб. Он хочет изучить характер мусульманина, принявшего христианство. Он говорит, что единственное средство цивилизовать край – это ввести там христианство, так как вся война горцев с нами не что иное, как война религиозная[152]152
Мюридизм уже появился в горах.
[Закрыть]. В Персии и на Кавказе появились две новые секты[153]153
Персидский бабизм уже проник на Кавказ.
[Закрыть], очень фанатичные. В Тифлисе шииты и сунниты постоянно режут друг друга.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































