Текст книги "Неизвестный Пушкин. Записки 1825-1845 гг."
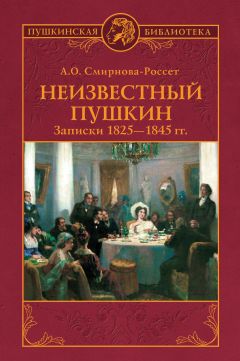
Автор книги: А. Смирнова-Россет
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
К этому Пушкин прибавил:
– У них тоже два Рима: Мекка и Кербела. Я теперь прочитываю Коран, чтобы понять, что должен забыть мой Галуб, чтоб стать христианином.
Пушкин меня сильно поразил. Он остался у меня после ухода Хомякова и опять говорил о Константинополе. Он ненавидит Византию и сказал:
– Она удачно названа (Bas-Empire – подлая империя [фр.]): они (греки) погибли по своей собственной вине. Они призвали турок против христианских славян; это мерзость.
Затем он говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, говорил также об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видала ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное серьезное выражение: он мыслит. Я думаю, что Пушкин готовит для нас еще много неожиданного. Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, несмотря на иронические речи, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему:
– Вот единственная книга в мире; в ней все есть.
Я сказала Пушкину:
– Уверяют, что вы неверующий.
Он расхохотался и сказал, пожимая плечами:
– Значит, они меня считают совершенным кретином.
Я прибавила:
– Государь сказал Блудову в 1826 году, что вы самый замечательный человек в России. Блудов рассказывал это у Карамзиных, и я думаю, что Государь прав.
Пушкин отвечал:
– Государь заблуждается на мой счет: я делаю, что могу, но, увы, не всякий тот гений, кто этого желает.
Затем он сказал:
– Я желал бы видеть Константинополь, Рим и Иерусалим. Какую можно бы написать поэму об этих трех городах, но надо их увидеть, чтобы о них говорить. Увидеть Босфор, Святую Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море, Иордан! Какой чудесный сон! – Ему стало грустно, и он вздохнул. – Увидеть Рим, the city of the soul, the Niobe of nations (град духа, Ниобу народов [англ.]), Ватикан, собор Святого Петра, Колизей, увидеть этот мир в развалинах «as fragile as our clay» («хрупкий, как наша плоть» [фр.]). Увы! я никогда этого не увижу!
Я сказала ему:
– Поступайте опять в дипломатический корпус и просите назначения в Италию!
Он покачал головой и сказал мне:
– Меня пошлют в Стокгольм, или в Дрезден, или в Берлин, или в Гаагу; я уж предпочитаю Петербург.
Потом он стал смеяться, шутил, заявил, что он влюблен в «маркиза Пугачева»[154]154
Переписка Императрицы Екатерины с Вольтером.
[Закрыть], как называла Императрица Екатерина этого знаменитого разбойника, и что ему надо окончить его историю и написать историю Петра Великого и роман о Петербурге, русском Pelham’e.
Я спросила Пушкина, почему он хотел, чтобы я рассказала разговор о Гёте Хомякову. Он ответил:
– Потому что Хомяков интересуется турецкими раджами и дунайскими и адриатическими славянами; но я нахожу, что он еще слишком увлекается Византией, хотя, впрочем, одна часть этих славянских земель – греческая. В войнах с Турцией – для нас два вопроса: вопрос торговый, то есть о Черном море и проливах, так как нам нужен выход в море, и потом вопрос о протекторате над православными христианами и святыми местами. У Франции есть учреждения в Сирии; и если бы не религиозная рознь, мы могли бы на этот счет войти с нею в соглашение. Вы, конечно, знаете, что во Флоренции был Вселенский собор, на котором было провозглашено примирение церквей. На нем присутствовал византийский император; наш киевский митрополит тоже подписался и даже умер кардиналом. Почем знать? Если бы Собор достиг своей цели, может быть, Константинополь не принадлежал бы туркам! К несчастью, мы тогда еще были настоящими варварами; Средние века у нас тянулись до избрания Романовых и даже до Петра Великого. После падения Византии султаны поддерживали у нас татарских ханов, а за спиною у нас была Персия и все восточные народцы по низовьям Волги. Византийские императоры не помогли нам во время нашествия монголов. Я прочитал интересную вещь про папу Пия V. Он посоветовал султану Селиму принять христианство, а когда тот отказался, то папа благословил знамена Дон-Жуана Австрийского перед Лепантской битвой. Польша вступила против нас в союз с Турцией. Кончилось тем, что они поссорились с безумным Карлом XII, а Орлик даже принял мусульманство. Достойный освободитель Украйны!
Пушкин много рассказывал мне про Карла XII, про Мазепу, Войнаровского, Наливайку, Богдана Хмельницкого, про Думы.
На мое замечание, что «Войнаровский» Рылеева мне не нравится, Пушкин ответил:
– В нем встречаются великолепные строфы, но поэтический вымысел слишком бросается в глаза; впрочем, поэма была написана с политическою целью. По-моему, историческая правда есть настоящая поэзия, заключающаяся в самой жизни (sic); впрочем, я сказал это самому Рылееву; мы с ним были в переписке. Он обладал громадным талантом, но подчинил вдохновение и воображение своей тенденции; от этого происходит та сухость поэмы, которую он сам так чувствовал. К несчастью, он умер, не высказав всего, что мог сказать России. Чисто политическая поэма никогда долго не проживет.
Я спросил Пушкина, что он думает о байроновском «Мазепе».
– Великолепен, как ряд поэтических картин, но это не Мазепа. Действительное, историческое событие гораздо трагичнее, а байроновское только романично. Описания удивительны. Поэмы, которыми я в былое время так восторгался, за исключением удивительных описаний и стихов, мне уже мало говорят. Зато «Чайльд Гарольд», «Каин», «Проклятие Минервы», лирические стихотворения, «Еврейские мелодии» и «Дон-Жуан» – вещи единственные не только в английской литературе, но и в других, исключая Данте, Гёте и Шекспира. Встречаются великолепные места в «Земле и Небе», в «Манфреде» и «Сарданапале», в особенности стих и поэтические изображения действующих лиц. Большею частью первенствующее лицо – сам Байрон, но тем не менее его Сарданапал настоящий восточный властелин, подвергнувшийся влиянию Греции, как и Митридат. Чего недостает Байрону – это женщины. Все его героини на один лад. В «Паризине» он гораздо лучше описывает итальянскую ночь, чем итальянскую женщину той эпохи.
Я спросила Пушкина, что он думает о двух молодых поэтах Гейне и Мюссе и любит ли он по-прежнему Шенье.
– Да, это настоящий поэт; его даже можно назвать трюком. Гейне – великий лирик и в то же время очень остроумный; такое сочетание весьма редко. Также и Мюссе. Им присущи и ирония и философские идеи. Знаете ли вы Китса? Это был необыкновенный талант, но без малейших философских идей. Он был поэт по инстинкту и чувству скорее, чем по идеям, – молодой сластолюбец, обожавший Мильтона и Гомера. Он подражал Спенсеру, но при этом был необыкновенно оригинален. Байрон и Шелли не без основания посвятили ему великолепные стихи. Шелли был главным образом философом и метафизиком и в то же время обладал гораздо большим драматизмом, чем Байрон. Драмы Байрона холодны; это великолепные поэмы в диалогах.
Затем я спросила у Пушкина, восхищается ли он Мильтоном и Шиллером так же, как Жуковский.
– Мильтон – великий английский классик; я уверен, что он читал только Библию и древних греков. Он гораздо более эллин, чем Поп, считающийся архиклассиком. Его «Сатана» не богословский, он слишком греческий. Я нахожу, что у Шиллера в его греческих поэмах и в «Колоколе» форма удивительна. Но его драмы мне говорят мало; они тенденциозны. По-моему, великим образцом драматурга всегда будет Шекспир. Посмотрите, сколько человеческих фигур он создал из разных стран, из разных эпох; возьмите его женщин, даже служанок, лакеев. Шекспир – явление единственное и останется единственным. Какой двор был у этой Елизаветы! Гораздо величественнее, чем двор Людовика XIV. Вот Шиллер совсем не понял Елизавету в своей «Марии Стюарт»; ее всегда изображают некрасивой старой девой, завидующей красоте Марии. Она могла завидовать ей, когда была молода, но вы знаете, во-первых, что все королевы красивы, а во-вторых, что Елизавета была настоящей королевой и должна была быть очень самоуверенна.
Затем Пушкин опять вернулся к Байрону.
– Этот человек понял Восток, Грецию, античный мир, океан, Рим, оба Рима: и языческий, и христианский. В каких стихах он описал Святого Петра! Он сказал последнее слово об этом гениальном произведении искусства и даже был тогда настоящим христианином. А его смеют обвинять в атеизме! После него уже нечего сказать ни о Базилике, ни о Колизее!
Пушкин остановился и потом сказал мне:
– Вам не скучно все это? Я говорю без удержу; вы так хорошо слушаете.
Я засмеялась и ответила, что люблю украшать свой ум и слушать, когда он говорит точно сам с собой. Я сказала, что он приятнее, когда мы вдвоем, чем втроем, если только третий собеседник не Жуковский.
* * *
Пушкин приходил ко мне и показывал стихи Одоевского и письмо, присланное из Сибири. Он долго говорил о деятелях 14-го числа; как он им верен! Он кончил тем, что сказал:
– Мне хотелось бы, чтоб Государь был обо мне хорошего мнения. Если бы он мне доверял, то, может быть, я мог бы добиться какой-нибудь милости для них. Что вы об этом думаете?
Я убедила его, что Государь верит в его прямодушие. Пушкин улыбнулся:
– Тем лучше. Я ему очень предан. У него характер непреклонный, но ум – нет. Когда он убедится в чем-нибудь, он первый признает свою ошибку и дает себя разубедить. Это громадное достоинство. От этого с ним и можно говорить откровенно. Но меня хотят выставить перед ним каким-то Стенькой Разиным, уверяют его, что «Кинжал» мое credo, мое политическое и религиозное исповедание веры. Точно у мальчика девятнадцати-двадцати лет может быть серьезный символ веры. Это ребячество! Да! Я слыву Стенькой Разиным, этим русским Брутом; по-моему, он был просто зверь.
Пушкин всегда кончает шуткой, особенно если он взволнован. Перед уходом он вдруг сказал мне:
– Я всю ночь читал «Фауста». Что бы ни говорили, а у Гёте положительно религиозный ум, может быть, более религиозный, чем у Шиллера. А теперь – прощайте!
И он ушел.
* * *
Довольно занимательный вечер при дворе. Приехал Красинский. Он всегда рассказывает смешные истории с самым невозмутимым видом. Вчера он говорил Императрице о Казерте и уверял, что там в саду есть такая большая магнолия, на которой в одно время было 60 000 цветков.
Императрица усмехнулась и со своей тонкой улыбкой сказала:
– Удивительно! Кто же считал их?
– Это было поручено целому полку, и он двадцать четыре часа простоял около дерева, – ответил Красинский.
Императрица засмеялась и попросила Красинского рассказать еще что-нибудь.
– В ваших рассказах всегда есть что-то непредвиденное, и вы обладаете удивительной находчивостью, – сказала она.
Все другие молчат и спят с открытыми глазами. Р. даже храпит. П. К., М. П., В.О. и М.В. не раскрывают рта. Т. говорит только о своих подвигах, рассказывает всегда о самом себе и врет гораздо больше Красинского, только не так умно. Княгиня Д.Р. уверяла, что во время его рассказов она умирала от тоски на медленном огне и жаловалась на него покойному Государю.
Мой дед Ц.[155]155
Двоюродный дед моей матери, кн. Цицианов, грузин, был большим оригиналом. Анекдот о плаще, взбесившемся оттого, что его порвала бешеная собака, был приведен Ксавье де Местром. И эта история à la Мюнхгаузен и множество других принадлежат Цицианову. Он был то, что англичане называют «quaint» (эксцентричный [англ.]). В те времена (царствование Екатерины II и Александра I) было немало людей очень оригинальных. Цицианов был хорош со всеми Нарышкиными того времени; он был так же расточителен, как и они, так же держал открытый стол и не мог обедать один с семьей; он был гастроном, щедр до крайности, большой барин и очень простой в то же время. В 1812 году он выехал из Москвы в большой карете шестериком в то время, когда Наполеон входил в Москву. Цицианов оставил свой дом открытым; его разграбили и сожгли. Цицианов был дружен со знаменитым оригиналом гр. Ростопчиным (московским губернатором) и видел, как тот плакал, читая приказ о сдаче города.
Моя мать знала еще этого деда, так как он умер 95 лет. Он говорил ей совершенно серьезно, что он ни во что не ставит людей, у которых предки родились после Вознесения Христова. Моя мать спросила его: почему? «Потому что я происхожу от Иакова, – ответил он. – Ты видела мой герб и заметила в нем лестницу?» И он не шутил, а верил этому. Гордый, но не чванный, он приглашал совершенно одинаково и богатых и бедных; для него громадным удовольствием было накормить людей, не имеющих каждый день хорошего обеда. Он говорил: «В Евангелии сказано: „Изыди скоро на распутия и стогны града и нищия и бедныя и слепыя и хромыя введи семо“. Цицианов был одним из основателей первого Английского клуба в Москве. У Грибоедова в „Горе от ума“ есть намек на него: „Английского клоба старинный, верный член до гроба“.
Мой дядя Россет раз спросил его (он был тогда пажом), правда ли, что он проел тридцать тысяч душ? Старик рассмеялся и ответил: „Да, только в котлетах“. Мальчик широко раскрыл глаза и спросил: „Как – в котлетах?“ – „Глупый, ведь они были начинены трюфелями, – ответил дед, – а барашков я выписывал из Англии, и это, оказалось, стоило очень дорого“».
[Закрыть] лгал так же, как Красинский, с таким же спокойствием, с тем же апломбом, так же непоколебимо и неожиданно. Императрица заставляла меня передавать ей его рассказы, они занимали ее.
Прощаясь с Красинским, Императрица сказала ему:
– До свидания, барон Мюнхгаузен. – Затем она обратилась ко мне: – Он умный и очень честный и, по крайней мере, старается занимать нас; никогда не сказал он ни про кого дурного слова, как многие, которые только то и делают, что сплетничают.
Моего двоюродного деда можно только сравнить со знаменитой герцогиней де Леви, когда с ней говорили о генеалогии: «Герцогиня, мы слышали, что вы происходите от Левия, сына Иакова». Она принимала скромный вид и отвечала на это: «Да, правда».
Подобные вещи казались совершенно обыкновенными вольтерианцам прошлого века, хотя в то же время и не встречалось чванства выскочек или заносчивости богачей. Если гордились предками, то такими, которые принесли пользу, а не только набивали себе карманы.
Раз об этом говорили при Великом Князе Константине Павловиче, и он очень удачно сказал: «Я охотно допущу чванство разбогатевших людей с условием, чтобы дворянские грамоты были заменены банковыми билетами и чтобы вместо noblesse oblige говорили richesse oblige (положение обязывает… богатство обязывает [фр.])».
Я рассказала это Пушкину. Он был в восторге.
* * *
Я сделала визит старушке X. Она была очень в духе и рассказывала мне истории из доброго старого времени. Оказывается, что Императрица Елизавета ввела шифры, раньше для военных, а потом отменила их и дала их своим четырем фрейлинам. Императрица Екатерина создала портретных дам, и первою из них была кн. Дашкова. M-me X. не любила ее. Она мне сказала: «Эта президентша академии считала себя знаменитостью, а Лев Нарышкин подсмеивался над ней». Говоря со мной о смерти Петра III, которую она помнит, она сказала: «Сознайтесь, милая, что это была несчастная случайность». Затем она спросила меня, что я думаю о Фуссадье и Димсдале[156]156
Фуссадье был доктором еще при Елизавете. Димсдаль приехал привить оспу Екатерине. Она, чтобы показать пример, дала привить раньше себе, а потом уже сыну.
[Закрыть]? Я ответила, что никогда не слыхала о них. Она тогда объяснила мне, что это два врача, служившие при Екатерине и умершие уже лет 50 назад. Они приехали ко двору еще раньше докторов Гендерсона и Роджерсона, и Димсдаль был другом банкира Сутерланда, подарившего собаку Екатерине. Добрая старуха думает, что мне сто лет, и очень удивлена, что я не знаю всей этой истории. Она говорила мне о кн. Moustache[157]157
Кн. Голицына; у нее были усы.
[Закрыть], о «военной тетушке» и кн. Черепахе[158]158
Прозвища кн. Г. А. В.
[Закрыть] и дала мне понять, что они были не так красивы, как она, и гораздо старше ее. Кн. Голицына была в Париже, когда король вернулся из Версаля. Кто-то спросил m-me X., что она думает о проекте поставить колонну в честь Императора Александра. Она рассказывала нам, что Пушкин уже «одурачил ее по этому поводу». Он сказал ей, что колонна будет держаться собственной тяжестью, а не цепями. X. не верит этому, находя это невозможным и очень опасным; она заявила, что никогда не проедет по площади, а то колонна упадет и задавит ее. Граф Моден разуверял ее и указал на Вандомскую колонну в Париже. «Прекрасный пример! – вскричала она. – Французы – обманщики, они создали великую революцию, они обезглавили короля и сделали императором узурпатора, генерала Бонапарта».
Вечером Моден рассказал все это Императрице. Государь показал нам рисунки, сделанные для памятника. Он в восторге от памятника Фальконета (статуя Петра Великого).
Я сопровождала Государыню к кн. Мусташ[159]159
Кн. Голицына. Это была женщина независимая, оригинальная и высокомерная. Она тогда была уже очень стара.
[Закрыть]. Она была именинница. Ее Величество спросила ее о здоровье. Она вздохнула:
– Все больна из-за этих проклятых французов; я была так поражена, когда они увезли королевскую семью из Версаля, что выкинула и до сих пор еще не оправилась.
В карете Государыня сказала мне:
– С тех пор как я знаю кн. Голицыну – она всегда отвечает мне одно и то же; она забыла, что почти все ее дети родились после этого эпизода и что она уже достигла почтенного возраста.
Ее Величество послала меня в Смольный, с поручением к Екатерине Ивановне[160]160
Е.И. Нелидова, которая жила в Смольном монастыре. Она состояла при Императрице-Матери, была очень уважаема и отличалась сильным характером. Ее племянница Саша (m-lle Нелидова) была дружна с моей матерью (она жила у тетки). Она также была фрейлиной и потом вышла замуж за кн. Трубецкого, брата декабриста.
[Закрыть]. Какая она умная, сколько оригинального, здравого смысла! Саша заставила тетку рассказывать истории, которых и я наслушалась. Император Павел питал к ней чувство рыцарского поклонения. Она была всегда некрасива и хотя не горбата, но неуклюжа; она говорила об Императоре Павле: «Взрывы злобы у Государя были кратки, болезненны и ужасны. Когда ему не поддавались, он успокаивался. Я приняла, моя милая, такую систему: я смотрела на него сверху вниз, прямо в глаза; тогда он извинялся».
Так как она очень мала ростом, то мне непонятно, как она могла смотреть на него сверху! Она рассказывала мне про кн. Ливен[161]161
Воспитательница дочерей Павла Петровича. Каждый вечер Государыня и вся царская семья приходили прощаться с ней и поцеловать ей руку. Весь двор приходил к ней. В 9 часов все удалялись, и сын читал ей Библию. Она умерла очень старая.
[Закрыть], которую все так оплакивали. В ней было много прямоты и здравого смысла. Император Павел боялся ее. Я спросила Великого Князя Михаила Павловича, которая из этих дам самая старая.
Он ответил:
– Всем им по сто веков. Они были уж немолодые, когда бабушка вступила на престол.
Он рассказывал мне, что Потемкин так любил m-me Z., что одной гувернантке, находящейся под ее покровительством, дал чин и оклад полковника – в виде пенсии, чтобы доставить удовольствие m-me Z. Милый XVIII век! Тогда не очень-то стеснялись с государственной казной.
* * *
Костюмированный бал при дворе, великолепный, ослепительный! Я была одета жрицей солнца. Государыня приказала мне одеваться у нее и дала мне надеть превосходные бриллианты. Я ужасно боялась, чтобы не потерять их, и м-с Эллис[162]162
М-с Эллис, первая камер-фрау Императрицы Александры Феодоровны. Ей было поручено хранить все драгоценности Ее Величества, а также и коронные бриллианты.
[Закрыть] велела при себе пришить их на мне.
Я явилась в залу в колеснице; ее везли негры и перуанцы. Суворов был одет перуанским воином и был очень красив в латах и шлеме с огненными перьями. Анатолий Демидов был ужасен в костюме инки, весь покрытый перьями и буквально унизанный бриллиантами.
Великий Князь сказал мне:
– Донья Соль! Полюбуйтесь на Демидова: он как небо под экватором, – такой же черный и сияющий.
– Это вовсе не украшает его, – ответила я. – Лучше полюбуйтесь на нашу Сильфиду[163]163
Кн. Урусова, вышедшая позже замуж за Радзивилла.
[Закрыть], какой цвет лица!
– Как сияние, – сказал Великий Князь, – но только северное сияние.
* * *
Я говорила с Пушкиным про бал; он рассказывает интересные вещи даже по поводу пустяков. Перуанский воин напомнил ему великого деда Суворова и его столкновения с Павлом I, которому он однажды сказал: «Нашла коса на камень» – и повернулся спиной.
Потом Искра говорил о Нельсоне и о его слабости, леди Гамильтон, о его переписке с Суворовым, о походе в Италию, о королеве Каролине, об Актоне, Трафальгаре, о переходе через Альпы.
Потом он говорил мне про Павла I: «Он был романичен и романтичен, одевался как мальтийский рыцарь и по-рыцарски скромно держал себя с женщинами. Он десяти лет был уже влюблен в одну из фрейлин своей матери, и для того, чтобы ей понравиться, завивал себе три букли, а когда дулся на нее, то только две. У него не было икр, и это его печалило. Когда его пассия вышла замуж, он объявил графу Панину, что больше никого не полюбит. Панин сказал ему: „Ваше Высочество, у вас слишком нежное сердце“. Его качества обещали очень много, так как в нем была и прямота, и благородство, и доброе сердце, он был не очень рассудителен, но правдив и справедлив, когда бывал спокоен. Окружающие должны были понять его состояние и останавливать его фантазии, так как жестокие сцены по поводу всяких пустяков были болезненными симптомами».
Кошет нам рассказывала, что м-с Кеннеди[164]164
Первая камер-фрау Императрицы, шотландка.
[Закрыть] запиралась с Императрицей и даже спала у нее в комнате, так как Император Павел, когда ему не спалось, приходил и неожиданно будил ее, а это вызывало у Государыни сердцебиение. Иногда он заставлял ее ночью слушать чтение; он декламировал монологи из Вольтера и Расина; бедная Государыня засыпала – он сердился. Они имели пребывание в новом дворце (Михайловском замке). Апартаменты Императрицы были на одном конце, Государя на другом. М-с Кеннеди решила наконец не отпирать дверь, и, когда Государь стучался, она отвечала: «Мы спим». – «Вы, значит, спящая красавица!» – кричал ей Павел. Он шел будить m-me Н. и кричал ей: «Во дворце пожар!» – или: «Украли бриллианты!» Обманутая таким образом несколько раз, и m-me Н. перестала отворять ему. Тогда он начинал разговаривать с часовыми, и было слышно, как он ходил по коридору. Он ужасно страдал от бессонниц. Иногда Императрица вставала и всю ночь ходила с ним, пока он не успокаивался; она сама ухаживала за ним. Пробовали давать ему наркотики, но они не действовали на него, а только вызывали страшные мигрени.
* * *
Суворов рассказывал мне интересные анекдоты про своего знаменитого деда.
После ссоры с Императором Павлом он уехал в деревню. В один прекрасный день Павел послал за ним фельдъегеря, прося его вернуться. Он написал Суворову убедительное письмо. Императрица присоединилась также к настояниям Государя. Это склонило Суворова. Он ответил, что исполнит желание Их Величеств, и пустился в путь.
Государь жил в Михайловском замке. Каждый вечер все подъемные мосты были подняты, и после восьми часов во дворец можно было проникнуть только через потерну гауптвахты. Суворов приехал в десять часов вечера. Дежурный офицер объявил ему, что он должен пройти через подземный ход, что и Великие Князья проходят после восьми часов не иначе.
– Пойдите к Его Величеству и скажите, что это я, фельдмаршал Суворов! – воскликнул старый воин.
Офицер вернулся и сказал:
– Таков приказ… Уже десять часов. Фельдмаршал должен пройти через потерну гауптвахты.
– Сказали ли вы, что приехал фельдмаршал? – спросил князь.
Офицер ответил, что Его Величество это знает и ждет его.
– Ну так, – ответил Суворов, – вернитесь к Его Величеству и скажите, что он забывает военный устав. Когда приезжает фельдмаршал, выходит стража, отворяются ворота и ему делают на караул. Таков обычай во всем мире.
Через несколько времени офицер вернулся и доложил:
– Государь приказал сказать вашей светлости, что у него свои собственные обычаи и свои уставы и что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. В Михайловском дворце командует не фельдмаршал, а Государь. Его Величество ожидает вашу светлость и просит торопиться.
– Если так, – воскликнул Суворов, – то вы можете отнести ему такой ответ: русские фельдмаршалы не привыкли входить в крепости подземными ходами, как воры, а у фельдмаршала Суворова всегда было правилом входить всюду – и к врагу, и к царю – через парадную дверь. Скажите Его Величеству, что я желаю ему спокойной ночи, а сам возвращаюсь домой, на этот раз уж навсегда.
Офицер упросил его подождать и побежал предупредить Государя. Павел рассмеялся и приказал опустить мосты и бить поход. Суворов вошел во дворец. Государь вышел встретить его на первую площадку лестницы и поцеловал его.
– Ваше Величество! – сказал ему старик несколько насмешливо. – Я должен арестовать дежурного офицера за то, что он забыл военный устав, но так как этот офицер еще очень молод, вы разрешите мне завтра утром отдать ему его шпагу.
Государь ничего не ответил на это и был очень любезен. Перемирие было заключено, но скоро опять произошла ссора, и на этот раз уже настоящая.
Суворов, следовательно, имел основание сказать раз Павлу: «Нашла коса на камень». Впрочем, Суворов был тоже первостатейным маниаком, оригинален до крайности, необыкновенно умен, иногда даже гениален, чего нельзя сказать про несчастного Императора Павла; если бы он даже не был ненормальным, он все-таки не был бы гениален, в военном отношении конечно.
Отношения Потемкина, великолепного во всем, и Суворова, завтракавшего черной редькой с солдатским хлебом, должны были быть любопытны. В сущности, они ненавидели друг друга.
* * *
Когда Петр Великий бывал доволен Меншиковым, он брал его за голову, целовал в лоб и говорил ему: «Ты умница, Алексаша Данилович». Как-то вечером Пушкин точно так же выразил Гоголю свое удовольствие по поводу чтения. Мы спорили о Петре Великом.
– Он был гениален во всем, что имело отношение к будущности страны, – сказал Пушкин, – и совершенно сын своего века в исполнении, в мелочах и в правах. Но у него было чутье, он умел выбирать людей.
Вяземский с горечью порицал приемы Петра и превозносил Екатерину.
– Я ничего не отнимаю от нее, – возразил Пушкин, – но она явилась позже, и ей нет тех извинений. Она не должна была разорять духовенство и прикреплять малороссов к земле.
Гоголь сказал мне, что в Украйне и до сих пор поют жалобные песни о рабстве и, чтобы избегнуть его, некоторые крестьяне решались даже на самоубийство.
Говорили о любимцах Екатерины, о том, как заискивали у них; рассказали о депеше к французскому посланнику Рюблиеру, которому давался из Парижа приказ «быть в наилучших отношениях с тем святым, которого в тот день празднуют».
– Это не должно было удивлять человека, приехавшего из Версаля, – сказал Пушкин. – Он, наверно, приседал перед Помпадур и должен был бывать при вставании Дюбарри. Екатерина имела в них прекрасные примеры, а Потемкин не чета был этим дамам. Я прощаю Екатерине нравы ее эпохи, но я не могу простить ей разорение духовенства, закрепощение малороссов и то, что, когда она согласилась на раздел Волыни, она не взяла Галицию и Галицкую Русь с другими русскими провинциями; в сущности, мы взяли бы только свое. Мария-Терезия писала Помпадур; Мария-Антуанетта должна была принимать Дюбарри; Людовик XIV узаконил своих побочных детей. Екатерина не уничтожила обаяния царской власти, напротив, усилила ее. Она была властная женщина, и, по-моему, у нее было в двадцать раз больше здравого смысла и ума, чем у всех энциклопедистов, с Гриммом и Фернейским шутом вместе.
Полетика рассказывал Пушкину, что Гаррис оставил «Воспоминания»[165]165
Они вышли в Лондоне в 1842 году.
[Закрыть] о времени своего посольства в Петербурге и Берлине. Полетика видел в Лондоне лорда Сет-Эленса, бывшего в Петербурге; он с восторгом говорил об Екатерине. Гаррис вел список фаворитам.
– Он мог делать то же самое и у себя, – сказал Пушкин. – Когда слышишь, как эти господа критикуют наши нравы, то можешь подумать, что и Карл II, и два первых Георга, и Людовик XIV, и Людовик XV – Иосифы прекрасные и целомудренные девственницы. У них было только два нравственных короля, и тем они снесли головы. Все такие моралисты напоминают мне наших критиков, упрекавших меня за графа Нулина! Какая стыдливость!
Пушкин был так возмущен, что рассмешил нас. Он начал пересчитывать добродетели Людовика XIV, регента, Августа Сильного, отца Фридриха Великого, и прибавил:
– Критиковали нравы Петра Великого! Он был груб, я согласен с этим. Генрих IV был волокита. Но оба они искупили свои недостатки, недостатки эпохи, своими достоинствами, а я вас спрашиваю: какими качествами обладали Карл II, регент и английские Георги? Третий из них был сумасшедший и упрямый; он потерял страну, имевшую громадную будущность, – Соединенные Штаты. Что эти люди оставили своей родине? Может быть, сам Людовик XIV убил престиж королевской власти во Франции, узаконив своих побочных детей; он лишил Францию трудолюбивых, полезных людей, отменив Нантский эдикт. Разве это достойно великого короля? Все, что он сделал хорошего, это то, что он покровительствовал Мольеру и аплодировал «Тартюфу». В сущности же он сам был Тартюфом.
Когда Пушкин одушевляется, он горячится и делается неистощим; он никогда не банален, напротив, замечательно своеобразен.
Полетика сказал ему:
– Напишите историю европейских государей; это будет вдохновенное произведение.
* * *
Опять буря у нашего Сверчка. Он был у Цензора Катона. Долгий спор, довольно горячий. Пушкин вежливо отстаивал. Наконец объяснились. Оттуда он пришел ко мне рассерженный и раздраженный. Он жаловался на X. и на Y. У меня был Асмодей. Посплетничали. Я убеждена, что Катон преувеличивал. Вяземский говорит, что он педантичен до крайности, как все немцы. Говорят, он честный человек, но ему до поэзии столько же дела, сколько до собственных сапог. И вместе с этим он считает себя образованным и европейцем[166]166
Здесь дело идет об одном стихотворении. Графу Б. пожаловались на Пушкина, что он намекает на X. и даже на самого Б. в одном из посланий.
[Закрыть].
* * *
Мне поручено сказать Пушкину, что Его Величество очень доволен разговором с ним. Он встретил его в Летнем саду. Государыня сказала мне: «Ваш поэт может быть спокоен; Государь уверен в его совершенной честности и прямоте, он убежден, что Пушкин никогда в жизни не изменит им, что он ничего не сделает исподтишка. Государь знает, что он вполне порядочный человек, но, к несчастью, он создал себе множество врагов. Это большая ошибка с его стороны. Но нам она доказывает его искренность и откровенность. Государь хорошо это знает».
Затем Императрица прибавила: «Это доставит удовольствие моему поэту (Жуковскому). Передайте ему все, так как я не увижу его сегодня вечером».
Какая Государыня добрая! Она всегда думает о том, чтобы доставить удовольствие.
* * *
Виельгорский пришел рассказать мне все сплетни. Он возмущен тем, что хотят восстановить Государя против Сверчка, поссорить двоих людей, созданных, чтобы понимать друг друга. Милости к Пушкину не переваривают.
– Какой милости? – сказала я. – Пушкин ничего не просит: ни денег, ни места, ни орденов, ни даже приглашения на бал. Он даже хотел выйти в отставку (он служил в Министерстве иностранных дел). Я полагаю, что они могли бы оставить его в покое, так как не думаю, чтобы они особенно добивались рыться в архивах и перечитывать их.
Виельгорский улыбнулся:
– Дитя мое! Государь разговаривает с ним, вот и довольно.
Это меня возмутило. Как? Государь не имеет права разговаривать с кем хочет и с кем ему нравится? Есть о чем беспокоиться!
Приходил Великий Князь, и я передала ему все это. Он нам сказал, что Пушкину навязывают отвратительные стихотворения, ему приписывают неприличные строки об Х.Х. и X.Y., даже клевету на них; они рассвирепели и пожаловались Б. и О. Вместо того чтобы прогнать их, Б. и О. еще прибавили от себя. Великий Князь присовокупил:
– Мой брат не поверил ни одному слову.
* * *
Вечером я поехала к Карамзиным, чтобы передать все это Сверчку. Он засмеялся и сказал мне:
– Только богатым дают в долг. И прежде мне приписывали все отвратительные стихотворения, которые ходят по рукам. Все экспромты, сочиненные мною in vino veritas (истина в вине [лат.]), записывались, переписывались и разносились. Сколько врагов создали мне мои друзья и почитатели. Сохрани меня, Боже, от них! Они даже подставили имена, о которых я и не думал; мне приписывали глупые и неприличные эпиграммы, которых я никогда в жизни не сочинял. Поблагодарите Ее Величество за меня. Она такая добрая, вы знаете все, что я о ней и о нем[167]167
О нем, то есть о Государе.
[Закрыть] думаю.
Выход с «baise-main» (целованием руки [фр.]) не такой скучный, как обыкновенно, благодаря графине Л. и старухе С. Каждой из них хотелось подойти первой. Церемониймейстер В. увещевал их. Графине Л. он сказал:
– Вы забываете, графиня, что вдова генерала от кавалерии имеет преимущество перед вами.
– Я также вдова генерала от кавалерии с 1814 года, после битвы под Лейпцигом.
– А я, – заворчала старушка С., – с Аустерлица и Эйло, – пятью годами раньше вас и выиграла два сражения.
– Я знаю, что вы достаточно стары, – ответила графиня Л., – и могли перейти Рубикон (она хотела сказать Рымник, но не знает географии) с Суворовым и Юлием Цезарем. Может быть, вы переходили и Прут с Петром Великим? В таком случае проходите раньше меня.
– И пройду, – воскликнула m-me С., – а вам советую поучиться географии.
И она вылетела, как бомба.
* * *
Вчера я была у Карамзиных и рассказала сцену между двумя генеральшами. Пушкин и Мятлев сейчас же изложили ее стихами. Пушкин сделал рисунок, обе дамы вышли очень похожи. Софи К. хотела спрятать эти глупости, но сама Карамзина приняла свой обычный гордый вид и безжалостно сожгла все. «Довольно сплетничать, – сказала она, – я не хочу, чтобы это разносилось. Господа! Дайте мне честное слово, что вы не будете повторять импровизации П. Рассказывая их, вы оказываете ему плохую услугу».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































