Текст книги "Николай Михайлович Карамзин"
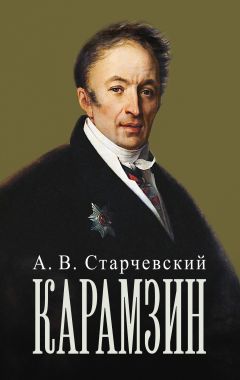
Автор книги: Адальберт Старчевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава III
Путешествие по Швейцарии. – Знакомство с Лафатером. – Письма Петрова, писанные за границу. – Женева. – Посещение Боннета. – Французское письмо Карамзина к Боннету. – Начало перевода сочинения «Палингенезия». – Карамзин в Провансе. – Париж и впечатление, сделанное им на Карамзина. – Карамзин в заседании Академии надписей. – Разговор с Бартелеми. – Приезд Карамзина в Лондон и мнение о характере англичан. – Английская литература
С первого шага на почву Швейцарии Карамзин был поражен красотами природы. Пробыв в Базеле несколько дней, он поехал в Цюрих, где жил тогда Лафатер.
К этому времени относятся письма Петрова, писанные к Карамзину за границу Вот они:
«Простота чувствования превыше всякого умничанья; грешно сравнивать натуру “Сепа”[22]22
Сепа, ужин. Здесь идет речь об ужине Карамзина с лейпцигскими профессорами.
[Закрыть] с педантскими подражаниями, с натянутыми подделками низких умов. Однако простота не состоит ни в подлинном, ни в притворном незнании. Можно писать крестьянскими наречиями: што, поди-ко, дво-сь, вот-ты, и со всем тем педантствовать. Самые жаркие чувствования могут иногда показаться суше латинского лексикона и латинской грамматики.
Ты начал что-то писать, но не хочешь сказать мне, что такое. – И я начал, по приказанию, нечто писать. А что? – теперь не скажу!
Для разогнания черных мыслей, которые иногда и в деревне меня посещают, расскажу тебе небольшое приюпочение, недавно бывшее. Я уже писал к тебе, что за Москвою-рекою был большой пожар. В этом пожаре неучтивый огонь не пощадил, между прочими домами, и хижины одного из бывших наших приятелей, не рассудив о том, что вместе с домом может разрушить и философию хозяина. (Ты должен знать этого приятеля: это толстый купец, с величавою поступью, который по всей Москве почитался философом.) Лишившись дому, господин философ целый день неутешно плакал, как бы, может быть, и я в таких обстоятельствах сделал. Простодушные знакомцы его дивились, видя русского Сенеку, плачущего, и изъявили ему свое удивление. Он отвечал им: “Не о доме моем плачу; знаю, что дом и всякое другое имение – суета. Но под кровлею моего дома птичка свила себе гнездо; оно теперь разорено, и о ней-то я плачу”. Простодушные знакомцы дивились сему великодушию, славили философию, могущую возвысить человека до такой степени, и восклицали: “О, великий муж! Забывая о своем несчастий, плачет о птичке”»
«Воспоминание о тебе есть одно из лучших моих удовольствий. Часто я путешествую за тобою по ландкарте; расчисляю, когда, куда мог ты приехать, сколько где пробыть; вскарабкиваюсь с тобою на высоты гор, воображаю тебя бродящего по прекрасным местам или делающего визит какому-нибудь важновидному ученому. – Я думаю, что теперь ты давно уже в Швейцарии. Усердно желаю, чтобы во всех местах находил ты таких людей, которых знакомство и воспоминание возвышало бы удовольствие, какое ты находил в наслаждении прекрасною природою и в новости предметов, и утешало бы тебя в твоем неприятном опыте, что везде есть зло; могу себе представить, что сей опыт часто тебя огорчает при твоей чувствительности, и приводит в такое грустное расположение, в каком видал я тебя, живши с тобою. Но, не правда ли, что он и дает тебе живее чувствовать цену людей, достойных почтения, многих ли, или немногих?»
«Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с А. М.20; виделся ли уже с Лафатером, и как он тебя принял; как располагаешь ты свой вояж? Я опасаюсь твоего проезда через Францию, где ныне такие неустройства21.
Что касается до меня, я живу по-прежнему; перевожу (что, мимоходом сказать, довольно уже мне наскучило). Осиротевшее без тебя “Детское чтение” намерен я наполнить по большой части из Кампова “Теофрона”».
С неизъяснимым удовольствием увидел Карамзин живописное местоположение Цюриха, его цветущие окрестности, зеркальное озеро, вставленное в светло-зеленую рамку берегов, на которых нежный Геснер рвал цветы для своих пастухов и пастушек; «где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями священной любви к отечеству, которая после с шумом волнующегося моря излилась в его “Германе”; где Бодмер собирал черты для картин своей “Нохиды”, и питался духом времен патриархальных; где Виланд и Гёте в сладостном упоении беседовали с музами; где Фридрих Штольберг, сквозь туман двадцати девяти веков, видел в духе своем древнейшего из творцов греческих, певца богов и героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного, и песнями своими восхищающего греческое юношество, видел, внимал, и в верном отзыве повторял песни его на языке тевтонов».
В тот же день, после обеда, Карамзин пошел к Лафатеру. «Вошедши в сени, – пишет Карамзин, – я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокий, бледный человек, в котором мне нетрудно было узнать Лафатера. Он ввел меня в свой кабинет, услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, поцеловался со мною, сделал мне два или три вопроса о моем путешествии, потом сказал: “Приходите ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела. Или останьтесь в моем кабинете, где можете читать и рассматривать, что Вам угодно”». Потом он показал Карамзину на шкап, в котором стояло несколько фолиантов, с надписью: «Физиологический кабинет», и ушел. Карамзин сперва не знал, что ему делать; подумал, сел и начал разбирать физиономические рисунки. Между тем такой прием оставил в нем не совсем приятные впечатления; он невольно вспомнил Виланда. Лафатер раза три приходил опять в кабинет, брал книгу или бумагу и опять уходил. Наконец он пришел с веселым видом, взял его за руку и повел в собрание цюрихских ученых, к профессору Брейтингеру, где рекомендовал его хозяину и гостям как своего приятеля. «Лафатер, – пишет Карамзин, – имеет почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое, бледное лицо, проницательные глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром».
Во все время пребывания в Цюрихе Карамзин постоянно посещал Лафатера, иногда даже по нескольку раз в день; довольно часто обедал и ужинал в кругу его семейства и друзей. Лафатер водил его ко всем своим знакомым, старался доставить ему удовольствие, прогуливался с ним по вечерам и разговаривал о различных предметах. Некоторые из этих разговоров довольно интересны и важны.
Лафатеру хотелось, чтобы Карамзин, возвратившись в Россию, издал на русском языке извлечение из его сочинений. Он хотел пересылать к нему в Москву свои рукописи, а Карамзин должен был собрать подписку, и уверить публику, что в извлечении этом не будет ни одного необдуманного слова. Карамзин принял предложение Лафатера и ударил с ним по рукам, однако ж по разным причинам не мог исполнить данного обещания.
Наконец Лафатер до того сблизился с Карамзиным, что иногда спрашивал его о подробностях жизни, позволяя также и Карамзину предлагать разные вопросы, и в особенности письменно. Карамзин предложил, между прочим, знаменитому физиономисту вопрос, который всегда должен остаться для философов камнем преткновения, именно: о всеобщей цели бытия, равно достижимой для мудрых и немудрых? Каждый философ считает себя вправе отвечать на подобные вопросы, поэтому и Лафатер дал Карамзину следующий ответ:
«Бытие есть цель бытия. Чувство и радость бытия есть цель всех наших действий. Мудрый и слабоумный только сего ищут – ищут средств к тому, чтобы наслаждаться бытием своим, или чувствовать его, ищут того, чрез что они самих себя сильнее ощущать могут. Всякое чувство и всякий предмет, постигаемый которым-нибудь из наших чувств, суть прибавления (Beiträge) нашего самочувствования, тем более блаженства. Как различны наши организации или образования, так же различны и наши потребности в средствах и предметах, которые новым образом дают нам чувствовать наше бытие, наши силы, нашу жизнь. Мудрый отличается от слабоумного только средствами самочувствования; чем проще, вездесущнее, всенасладительнее, постояннее и благодетельнее средство или предмет, в котором или чрез который мы сильнее существуем, тем существеннее мы сами, тем вернее и радостнее бытие наше – тем мы мудрее, свободнее, любяще (Liebender), любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее, с целью бытия нашего сообразнее. Исследуйте точно, чрез что и в чем Вы приятнее или тверже существуете? что Вам доставляет более наслаждения, разумеется, такого, которое никогда не может причинить раскаяния, которое всегда со спокойствием и внутреннею свободою духа может и должно быть снова желаемо? Чем достойнее и существеннее Ваше средство, тем достойнее и существеннее Вы сами; чем существеннее Вы делаетесь, то есть чем сильнее, вернее и радостнее существование Ваше – тем более приближаетесь Вы ко всеобщей и особливой цели бытия Вашего. Отношение (Anwendung) и исследование сего положения покажет Вам истину или всеотносимость оного. Цюрих, в четверток ввечеру, 20 августа, 1789 года. Иоанн Каспар Лафатер»[23]23
В следующем году этот ответ был напечатан в журнале, который издавал Лафатер в Берлине. Берлинские ученые напустились на этот ответ порядком. Карамзин читал их рецензии, однако ж замечает: «Мне кажется, что мысли Лафатеровы и понятны, и справедливы; здесь можно назвать новыми только одни выражения». «Письма русского путешественника», Цюрих.
[Закрыть].
«Каков Вам кажется сей ответ? – пишет Карамзин. – Вы, конечно, не подумаете, чтобы я в самом деле надеялся сведать от Лафатера цель бытия нашего, мне хотелось только узнать, что он о том скажет».
Каждое утро Карамзин являлся к Лафатеру с каким-нибудь вопросом, изложенным на бумаге. Лафатер прятал бумагу в карман, а в ввечеру возвращал ее с ответом, на ней же написанным, оставив у себя копию.
Путешественник наш прожил в Цюрихе с лишком две недели, и почти постоянно в обществе Лафатера.
Когда Карамзин оставлял Цюрих, Лафатер не хотел прощаться с ним навсегда, говоря, что он непременно должен еще раз приехать на берега Лимматы, и дал ему одиннадцать рекомендательных писем в разные города Швейцарии/
Наконец лучшие мечты Карамзина осуществились; оставив Цюрих, он явился в стране волшебства и восторга. Сначала Берн, а после Тун с своим очаровательным озером развернули перед Карамзиным великолепные картины своих местностей. Душа его наполнилась невыразимыми чувствами. То природа, то исторические предания о Вильгельме Телле питали его воображение. Потом пред ним открылись Унтерзеен, Лаутербруннен, Гриндельвальд, Госли и так далее. Спустя несколько дней Карамзин был уже на берегах Женевского озера. Приехав в Лозанну, он отправился обозреть северо-восточные берега этого волшебного озера, так живописно переданные в «Элоизе» Руссо.
В ноябре Карамзин был в Женеве и вел здесь жизнь, как сам он выражается, довольно однообразную. Он прогуливался, и, желая иметь полное понятие о французской литературе, читал французских писателей, старых и новых, без различия; бывал на женевских вечеринках и в опере; так он провел здесь более четырех месяцев (от начала ноября до начала марта), изучал [24]24
За несколько дней до своего отъезда Карамзин приобрел от Лафатера две его рукописи: «Сто тайных физиономических правил», в заглавии которых написано «Lache des Elends nicht, und der Mittel das Elend zu lindern» и «Памятник для любезных странников». Первое из этих сочинений автор решился никогда не печатать, потому что о чертах человеческих лиц, означающих дурные свойства, говорится довольно свободно, чего нет во втором издании, помещенном в «Handbibliothek für Freunde».
[Закрыть] окрестности Женевы, бывал в Фернее и на Альпийских горах, короче, наслаждался жизнью вполне. Карамзин желал познакомиться с швейцарским философом Боннетом, жившим верстах в четырех от Женевы, в деревне Жанту. Еще находясь в Москве, он читал сочинения Боннета и любил его от всей души.
В это время Боннет уже отказался от шумного света, страдал болезнями, оглох и ослеп, жил в уединении и почти никого не принимал, кроме самых близких родных. Карамзин случайно познакомился с одним из родственников Боннета, известным Кела, который вызвался познакомить молодого русского путешественника с почтенным и полузабытым мыслителем, и спустя несколько дней Карамзин увидел Боннета. Вот что пишет Карамзин после первого с ним свидания: «Я думал найти слабого старца, обветшалую скинию, развалины великого Боннета. Что же нашел? Хотя старца, но еще бодрого, в глазах которого блистает огонь жизни, которого голос еще тверд и приятен; одним словом, Боннета, от которого можно ожидать второй “Палингенезии”». Боннет встретил Карамзина весьма ласково. «Вы видите перед собою такого человека, – сказал Карамзин, – который с великим удовольствием и пользою читал Ваши сочинения, и который любит и почитает Вас сердечно». Боннет отвечал учтивостью за учтивость. Начался разговор; Боннет совершенно очаровал Карамзина своим добродушием и позволил ему переводить свое сочинение на русский язык: «С чего же Вы думаете начать?» – спросил он. – С “Созерцания природы” (“Contemplation de la nature”), – отвечал Карамзин». «Жан-Жака, – пишет Карамзин, – Боннет называет великим ритором, слог его – музыкою, а философию – воздушным замком».
Карамзин не замедлил вступить в переписку и с Боннетом. Вот первое письмо Карамзина, писанное к Боннету по-французски:
«Je prends la liberté de vous écrire, parce que je crois qu une petite lettre, quoique écrite en mauvais français, vous importunera moins qu une visite, qui pourrait interrompre vos occupations quelques moments de plus. J ai relu encore une fois votre “Contemplation” avec toute l’attention possible. Oui, monsieur, je puis dire sans ostentation, que je me sens capable de traduire cet exellent ouvrage sans le défigurer, ni même affaiblir beaucoup l’énergie de votre style; mais pour conserver toute la fraicheur des beautés, qui se trouvent dans loriginal, il faudrait être un second Bonnet, ou doué de son génie. D’ailleurs notre langue, quoique fort riche, n’est pas assez cultivée, et nous avons encore très peu de livres de philosophie et de physique, écrits ou traduits en russe. Il faudra faire de nouvelles compositions, et même créer de nouveaux noms, ce que les Allemands ontété obligés de faire, quand ils ont commencée à écrire en leur langue; mais sans être injuste envers cette dernière, dont je connois toute l’énergie et la richesse, je dirai que la notre a plus de souplesse et d’harmonie. Le sentiment de l’utilité de mon travail me donnera la force nécessaire pour en surmonter les difficultés.
Vous êtes toujours si claire, et vos expressions sont si precises, que pour à présent je n’ai qu’à vous remercier de la permission, que vous avez bien voulu me donner, de m’adresser à vous, en cas que quelque chose dans votre ouvrage m’embarassât; si j’ai de la peine, ce sera de rendre clairement en russe ce qui est très claire en français, pour peu que l’on sache ce dernier.
Je me propose aussi de traduire votre “Palingénésie”. J’ai un ami (Mr. N.N. à Moscou), qui s’estime heureux, ainsi que moi, d’avoir lu et médité vos ouvrages, et qui m’aidera dans mon agréable travail; et peut être que dans l’instant même, où j’ai l’honneur de vous écrire, il s’occupe à traduire un chapitre de votre “Contemplation” ou de votre “Palingénésie”, pour en faire un présent à son ami, à son retour dans sa patrie.
En présentant au public ma traduction, je dirai: “Je l’ai vu lui-même” et le lecteur m’enviera dans son cœur.
Daiguez agréer mes remerciements de l’accueil favorable que vous avez eu la bonté de me faire, et le respect profond, avec lequel je suis, etc../». [25]25
«Я осмеливаюсь писать к Вам, думая, что письмо мое обеспокоит Вас менее, нежели посещение, которое могло бы на несколько минут прервать Ваши упражнения.
С величайшим вниманием читал я снова Ваше “Созерцание природы”, и могу сказать без тщеславия, что надеюсь перевести его с довольною точностью: надеюсь, что не совсем ослаблю слог Ваш. Но для того, чтобы сохранить всю свежесть красот, находящихся в подлиннике, мне надлежало бы иметь Боннетов дух. Сверх того, язык наш хотя и богат, однако ж не так обработан, как другие, и по сие время еще весьма немногие философические и физические книги переведены на русский. Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем; но отдавая всю справедливость сему последнему, которого богатство и сила мне известны, скажу, что Ваш язык сам по себе гораздо приятнее и гибче. Перевод мой может быть полезен – и сия мысль послужит мне ободрением к преодолению всех трудностей.
Вы пишете так ясно, что на сей раз я должен только благодарить Вас за данное мне позволение требовать у Вас изъяснение в таком случае, если бы что-нибудь показалось для меня непонятным в “Созерцании”. Может быть, трудно будет мне выражать ясно на русском языке то, что на французском весьма понятно для всякого, кто хоть немного знает сей язык.
Я намерен переводить и Вашу “Палингенезию“. Один приятель мой, живущий в Москве, так же, как и я, любит читать Ваши сочинения и будет моим сотрудником; может быть, в самую сию минуту, когда имею честь писать к Вам, он переводит главу из “Созерцания” или “Палингенезии”.
Предлагая публике перевод мой, скажу: “Я видел его самого”, и читатель позавидует мне в сердце своем.
Изъявляя признательность мою за благосклонный прием, с глубочайшим почтением имею честь быть и прочее».
[Закрыть]
Из этого письма видно, в какой степени Карамзин владел французским языком. Вскоре после этого Карамзин опять явился к Боннету, который ему сказал: «Вы решились переводить “Созерцание природы”, начните же перевод Ваш в глазах автора, и на том столе, на котором оно было сочинено. Вот книга, бумага, чернильница, перо». Карамзин исполнил его волю, сел в кресло, взял перо и начал переводить. Боннет стоял позади его и смотрел на работу. Окончив первый параграф, Карамзин стал читать вслух. «Слышу и не понимаю, – сказал Боннет с усмешкою, – но соотечественники Ваши будут, конечно, умнее меня. Эта бумага останется здесь в память нашего знакомства».
Боннет обещал дать Карамзину новые примечания к «Созерцанию природы», в которых он сообщает известия о новых открытиях в науках, дополняет, объясняет, поправляет некоторые упущения и прочее. «Я человек, – говорит Боннет, – и потому ошибался; не мог сам делать всех опытов, верил другим наблюдателям, и после узнавал их заблуждение». Карамзин продолжал посещать Боннета, разговаривал с ним о разных предметах и обогатил себя многими сведениями.
В конце февраля 1790 года Карамзин хотел оставить Женеву и ехать в Прованс, к местам, воспетым Петраркою. Тут он приступил к составлению плана для своего дальнейшего путешествия. Ему хотелось проехать в южную Францию, увидеть прекрасные страны Лангедока и Прованса. – Уезжая из Женевы, Карамзин пошел проститься с Боннетом и получил от него обещанные примечания к «Contemplation»[26]26
«Quelques notes additionelles pour la traduction en langue russe de «La Contemplation de la nature», par M. Karamzine.
[Закрыть].
Итак, Карамзин расстался с прекрасною Швейцарией, в которой душа его перечувствовала столько приятных ощущений. Он был уже в Лионе, наслаждался его окрестностями, и, оставив этот город, решился ехать не на юг, как прежде предполагал, а на север, и именно в Париж. Причиною тому было следующее обстоятельство: товарищ, с которым Карамзин выехал из Женевы, не получил в Лионе векселя. Оставшись почти без денег, не мог сопутствовать Карамзину на юг, как они уговорились прежде, и должен был ехать в Париж. Добрый Карамзин пожертвовал дружбе личными выгодами и поехал вместе с ним.
Карамзин приехал в Париж 27 марта 1790 года. Каждому из читателей, без сомнения, любопытно узнать, какое впечатление произвел этот фантасмагорический город на русского путешественника. Впечатление это сохранено самим Карамзиным, в первом его письме, писанном из Парижа. – «Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а по равнине, во всю длину ее, Париж!.. Сердце мое билось. Вот он, – думал я, – вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод; которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке; которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал… Вот он!., я его вижу и буду в нем!..»
Карамзин жил в Париже почти три месяца с половиною. Во все это время он изучал столицу образованного мира, законодательницу европейской светскости; посещал учебные заведения, библиотеки, музеи, бывал в заседаниях академий, ходил почти каждый день в разные парижские театры, знакомился со всеми историческими достопримечательностями, осматривал окрестности города, наблюдал характер и нравы французов, изучал их литературу и так далее; словом, хотел вполне узнать столицу народа, предписывавшего тогда законы образованному миру. Сколько любопытных замечаний о Париже заключается в «Письмах русского путешественника», потому что Карамзин вносил в свой дневник каждое впечатление, испытанное его душою в этой разнообразной, живой панораме, называемой Парижем. Однако ж надобно заметить, что, живя в Париже, Карамзин не искал более случаев знакомиться с тогдашними литературными знаменитостями Франции; то же было и после, когда он был в Лондоне. Вероятно, немецкие и швейцарские ученые порядком наскучили Карамзину.
В мае Карамзин, между прочим, был в Академии надписей. «Нынешний день, – пишет он в своих «Записках», – молодой скиф К*** в Академии надписей и словесности имел счастье узнать Бартелеми-Платона». Увидев его, Карамзин подошел и сказал: «Я русский, читал Анахарсиса, умею восхищаться творениями великих, бессмертных талантов. И так, хотя в нескладных словах, примите жертву моего глубокого почтения!» Бартелеми привстал, взял его за руку и с ласковым взором отвечал:
– Я рад нашему знакомству, люблю север, и герой, мною избранный, Вам не чуждый». – «Мне хотелось бы иметь с ним какое-нибудь сходство, – сказал Карамзин. – Я в Академии: Платон передо мною, но имя мое не так известно, как имя Анахарсиса.
– Вы молоды, путешествуете и, конечно, для того, чтобы украсить Ваш разум познаниями: довольно сходства!
– Будет еще более, если Вы позволите мне иногда видеть и слышать Вас, с ревностным желанием образовать вкус свой. Я не поеду в Грецию: она в Вашем кабинете.
– Жаль, что Вы приехали к нам в такое время, когда Аполлона и муз наряжаем мы в национальный мундир! Однако ж дайте мне случай видеться с Вами. Теперь Вы услышите рассуждение о самаританских медалях и легендах; оно покажется Вам скучно, comme de raison; извините, мои товарищи займут Вас приятнейшим образом.
Заседание академии открылось. Бартелеми сел на свое место; он тогда был деканом Академии (le doyen). Диссертация его, в которой дело шло о медалях Ионатановых, Антигоновых, Симеоновых, не могла занимать Карамзина; зато мало слушая, он много смотрел на автора. «Совершенный Вольтер, – пишет Карамзин, – как его изображают на портретах! Высокий, худой, с проницательным взором, с тонкою афинскою усмешкою. Ему гораздо более семидесяти лет; но голос его приятен, стан прям, все движения скоры и живы. Бартелеми чувствовал в жизни только одну страсть: любовь к славе, и силою философии своей умерял ее. Подобно бессмертному Монтескьё, он был еще влюблен в дружбу».
Тут же Карамзин узнал Левека22, автора «Русской истории», и по этому случаю высказывает свой взгляд на отечественную историю, который впоследствии он совсем переменил в «Истории государства Российского». ««Русская история» Левека, – говорит Карамзин, – хотя имеет много недостатков, однако ж лучше всех других. Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей русской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы! Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословные князей, их ссоры, междоусобия, набеги половцев не очень любопытны, соглашаюсь; но зачем наполнят ими целые томы? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в английской истории, но все черты, которые означают свойства народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, собственно так называемые анекдоты, собрать, описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий – Владимир – и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории, и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микеланджело. Левек, как писатель, не без дарования, не без достоинств, соображает довольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо; но кисть его слаба, краски неживы; слог правильный, логический, но небыстрый. К тому же Россия не мать ему; не наша кровь течет в его жилах; может ли он говорить о русских с таким чувством, как русский? Всего же более не люблю его за то, что он унижает Петра Великого (если только посредственный французский писатель может унизить нашего славного Монарха, говоря: «On lui a peut être refusé avec raison le titre d’homme de génie, puisque en voulant former sa nation, il na sû qu’imiter les autres peuples»». – «Я слыхал, – прибавляет Карамзин, – такое мнение даже от русских, и никогда не мог слышать без досады. Путь образования или просвещения один для народов; все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских: и так надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано? Лучше ли было русским не строить кораблей, не образовать регулярного войска, не заводить академий, фабрик, для того, что все это выдумано не русскими? Какой народ не перенимал у другого? И не должно ли стараться, превзойти? Однако ж, говорят, на что подражать рабски? На что перенимать вещи совсем ненужные? Какие же? Речь идет, думаю, о платье и бороде. Петр Великий одел нас по-немецки для того, что так удобнее; обрил нам бороды для того, что так и покойнее, и приятнее. Длинное платье неловко, мешает ходить… – Но в нем теплее? – У нас есть шубы… – Зачем же иметь два платья?.. – За тем, что нет способа быть в одном на улице, где 20 градусов мороза, и в комнате, где 20 градусов тепла. Борода же принадлежит к состоянию дикого человека; не брить ее – то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько же неудобности летом, в сильный жар? Сколько неудобности и зимою: носить на лице иней, снег и сосульки? Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, но все лицо? Избирать во всем лучшее есть действие ума просвещенного, а Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, для того, что они были грубы, недостойны своего века; во-вторых, и для того, что они препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать. Если б Петр родился государем какого-нибудь острова, удаленного от всякого сообщения с другими государствами, то он в природном великом уме своем нашел бы источник полезных изобретений и новостей для благ подданных; но рожденный в Европе, где цвели уже искусства и науки во всех землях, кроме русской, он должен был только разорвать завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого, и сказать нам: “Смотрите, сравняйтесь с ними, и потом, если можете, превзойдите их!”. Немцы, французы, англичане были впереди русских, по крайней мере, шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкие иеремиады об изменении русского характера, о потере русской народной, нравственной физиономии или ничто иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем состоянии; для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все национальное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских; и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, потому, что я человек! Еще другое странное мнение. “II est probable, – говорит Левек, – que si Pierre n’avoit pas régné, les Russes seroient aujourd’hui ce quils sont”[27]27
Ему можно с основанием отказать в звании гениального человека, поскольку, желая создать свою нацию, он лишь подражал другим народам (фр.). – Примеч. ред.
[Закрыть]; то есть, хотя бы Петр Великий и не учил нас, мы бы выучились! Каким же образом? Сами собою? Но сколько трудов стоило Монарху победить наше упорство в невежестве? Следственно, русские не расположены, не готовы были просвещаться. При царе Алексее Михайловиче жили многие иностранцы в Москве; но не имели никакого влияния на русских, не имев с ними почти никакого обхождения. Молодые люди, тогдашние франты, катались иногда в санях по Немецкой слободе, и за то считались вольнодумцами. Одна только ревностная, деятельная воля и беспредельная власть царя русского могла произвести такую внезапную, быструю перемену. Сообщение наше с другими европейскими землями было очень несвободно и затруднительно; их просвещение могло действовать на Россию только слабо; и в два века, по естественному, не принужденному ходу вещей, едва ли сделалось бы то, что государь наш сделал в двадцать лет».
Вот взгляд Карамзина на русскую историю вообще, на труд Левека и на реформу, произведенную в России Петром Великим.
Впоследствии Карамзин, изучив вполне русский исторический мир, совершенно переменил свое мнение о Петре Великом и в «Истории государства Российского», сравнивая Иоанна III с Петром, отдает преимущество первому.
«Новейшие историки замечают в нем (то есть в Иоанне III), – говорит Карамзин, – разительное сходство с Петром Первым: оба без сомнения велики; но Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных; не видим также, чтоб пекся о просвещении умов науками: призывая художников для украшения столицы и успехов воинского искусства, хотел единственно великолепия, силы; и другим иноземцам не заграждал пути в Россию, но единственно таким, которые могли служить ему орудием в делах посольских или торговых; любил изъявлять им только милость, как пристойно великому монарху, к чести, не к унижению собственного народа. Не здесь, но в истории Петра должно исследовать, кто из сих двух венценосцев поступил благоразумнее или согласнее с истинною пользою Отечества… Петр думал возвысить себя чужеземным названием Императора: Иоанн гордился древним именем великого князя и не хотел нового; однако ж в сношениях с иностранцами принял имя царя как почетное титло великокняжеского сана, издавна употребляемое в России». («История государства Российского». T. VI. С. 349 и 350).
Потом, в «Записке о древней и новой России», Карамзин пишет о Петре:
«Страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы. Дух народный составляет нравственное могущество государств, которое подобно физическому, нужно для их твердости… Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?.. Честью и достоинством россиян сделалось подражание».
Второе действие Петра состояло в отделении высшего сословия от низших одеждою и наружностью; «Русские земледельцы, мещане, купцы увидели немцев в русских дворянах, ко вреду братского народного единодушия государственных состояний…»
Третье – приобретение добродетелей человеческих на счет гражданских: «Имя русского, – спрашивает Карамзин, – имеет ли для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде?»[28]28
«Историческое похвальное слово Карамзину», произнесенное при открытии ему памятника академиком М. Погодиным.
[Закрыть]
Наконец блестящею ошибкою Петра Карамзин называет основание столицы в Петербурге.
Пропустив замечания Карамзина о разных маловажных предметах, считаем необходимым познакомить читателей с мнением его о французах. Оно было написано первоначально по-французски для одной француженки, в доме которой Карамзин был принят. Хотя скромность и не позволяла путешественнику высказать многое, но, несмотря на то, мнение его имеет свою оригинальность и достоинство. «Скажу, – пишет он, – огонь, воздух – и характер французов описаны. Я не знаю народа умнее, пламеннее и ветренее Вашего. Кажется, будто он выдумал, или для него выдумано общежитие: столь мила его обходительность, и столь удивительны его тонкие соображения в искусстве жить с людьми. Это искусство кажется в нем любезною природою. Никто, кроме его, не умеет приласкать человека одним видом, одною вежливою улыбкою. Напрасно англичанин или немец захотел бы учиться ей перед зеркалом: на лице их она чужая, принужденная. Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве; но после России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывается, что он не между своими. Говорят, что здесь трудно найти искреннего, верного друга… Ах! Друзья везде редки, и чужеземцу ли искать их; тому, кто, подобно комете, являясь, исчезает? Дружба есть потребность жизни; всякий хочет для нее предмета надежного. Но все, чего по справедливости могу требовать от чужих людей, француз предлагает мне с ласкою, с букетом цветов. Ветреность, непостоянство, которые составляют порок его характера, соединяются в нем с любезными свойствами души, происходящими некоторым образом от сего самого порока. Француз непостоянен – и не злопамятен; удивление, похвала может скоро ему наскучить, ненависть также. По ветрености оставляет он доброе, избирает вредное: за то сам первый смеется над своею ошибкою – и даже плачет, если надобно. Веселая безрассудность есть милая подруга жизни его. Как англичанин радуется открытию нового острова, так француз радуется острому слову. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великие предприятия; но любовники непостоянны! Минуты его жара, исступления, ненависти могут иметь страшные следствия; чему примером служит революция. Жаль, если эта ужасная политическая перемена должна переменить и характер народа, столь веселого, остроумного, любезного!» – Вот все замечательнейшее, что мы могли извлечь из «Путевых записок» Карамзина, ведённым им во время его пребывания в Париже.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































